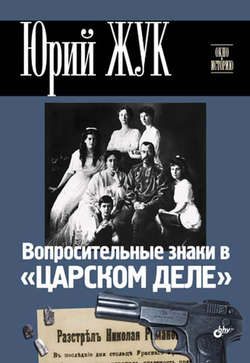Читать книгу Вопросительные знаки в «Царском деле» - Юрий Жук - Страница 4
Глава 2
Как происходила подготовка к убийству Царской Семьи, и санкционировал ли В. И. Ленин Её расстрел?
ОглавлениеВ своих работах, написанных с середины 1916 по 1919 годы, «вождь мирового пролетариата» В. И. Ульянов-Ленин упоминает Государя более ста раз! И при этом ни разу не подвергал Его личность хоть какому-либо серьёзному анализу.
Видимо, вторя мнению одного из своих кумиров – Ф. Энгельса, считавшего, что Николай II: «идиот, и морально, и физически расслабленный онанизмом»[38], В. И. Ленин снабжал Государя такими эпитетами, как: «Николай Кровавый», «коронованный разбойник» и пр. А весь набор ленинских обвинений в адрес Помазанника Божьего, предоставившего ему – ближайшему родственнику государственного преступника Александра Ульянова – возможность спокойно учиться в высшем учебном заведении, а также в курортных условиях отбывать ссылку в одном из самых прекрасных уголков России, сводился лишь к тому, что «коронованный разбойник» «заключал тайные договоры» и «развязал грабительскую войну»[39].
Упиваясь собственной безнаказанностью, В. И. Ленин при каждом удобном случае словесно пинал отрекшегося Государя, состязаясь в краснобайстве с самой радикальной прессой: «полоумный Николай», «слабоумный Николай Романов», «идиот Романов», «изверг-идиот Романов» и т. д.[40].
Готовность расправиться с Русским Царём – кто бы Он ни был – жила в В. И. Ленине чуть ли не с юности, так как он всегда видел в Самодержавии смертельного врага. И, видимо, именно поэтому он в своём кремлёвском кабинете повесил портреты С. Г. Нечаева и С. Н. Халтурина – этих доморощенных «пророков свободы» (кстати, по мнению Г. В. Плеханова, С. Н. Халтурин пришёл к выводу, что: «Падет царь, падет и царизм, наступит новая эра, эра свободы…»), открыто призывающих не только к свержению Самодержавия, но и к физическому уничтожению Русских Царей.
И наглядное подтверждение тому – выпущенная С. Г. Нечаевым листовка, в тексте которой он, отвечая на собственный вопрос: «Кого же надо уничтожить из царствующего дома?» – прямо отвечает: «Всю большую ектенью». (В церкви на большой ектенье всегда вспоминался весь Русский Императорский Дом Романовых.) А, между тем, это просто до гениальности! – любил повторять В. И. Ленин, как вспоминал впоследствии В. Д. Бонч-Бруевич[41].
Но «вполне естественное» физическое уничтожение правящего монарха В. И. Ленин считал возможным не только потому, что мировая история давала на этот счёт немало примеров. Таковой была и установка российских социал-демократов, озвученная ими на II съезде РСДРП, происходившем в 1903 году в Брюсселе и Лондоне. Ибо кое у кого из делегатов возникла мысль вставить в программу пункт об отмене смертной казни. Но эти предложения вызвали только насмешливые возгласы: «И для Николая II?», после чего даже меньшевики не посмели поддержать все дальнейшие предложения по отмене смертной казни для Царя…
В 1918 году подготовке к убийству Царской Семьи предшествовали многочисленные слухи, распространяемые при помощи московских газет. Этому может быть только три объяснения.
• Первое из них – это присущая любым газетчикам любовь ко всякого рода сенсациям.
• Второе – заранее спланированная большевистской верхушкой акция, имевшая целью выяснить общественное мнение, равно как и реакцию россиян, в случае опубликования в печати сообщения об убийстве Государя.
• А третье – тонкая политическая игра, затеянная немецкими дипломатами, имевшая своей конечной целью спасение «немецких принцесс» (Государыни и Её детей), в то время как дальнейшая судьба самого Государя их уже мало интересовала.
С самого начала хотелось бы заметить, что разъяснения по поводу первой версии вряд ли потребуют каких-либо дополнительных комментариев.
В отношении второй – можно, конечно же, строить различные предположения о том, как, дескать, коварные большевики, заранее всё предусмотрев, распространяли свою дезинформацию через местные газеты. Но тут, как говорится, есть одно маленькое «но»…
Первая информация о гибели Государя была опубликована в газете демократического толка «Новое Слово», которая выходила в Москве с января 1918 года и была закрыта 6 июля этого же года, то есть в первый день левоэсеровского мятежа. Так что, если даже постараться представить себе, что коварные большевики с целью сохранения реноме собственных газет насильно заставили редакцию этой газеты опубликовать предложенную ими ложную информацию, то и в таком случае её не следовало бы закрывать столь рано. Объяснение же этому может быть только одно – кому-то из сотрудников газеты, что называется, «по секрету» сообщили о «спонтанном убийстве Государя», о чём ещё не было сообщено в официальной большевистской прессе. Ну, а упоминаемая ранее страсть газетчиков к любого рода сенсациям сделала своё дело. Однако, всё по порядку.
Сначала в № 48 от 19 июня этой газеты под заголовком «Обвинения против Николая Романова» был опубликован следующий материал:
«В свое время сообщалось в печати, что в компетентных кругах был поднят вопрос о предании суду Николая Романова. В настоящее время определенно передают, что вопрос о предании Николая Романова суду отпал. (…) В настоящее время в компетентных кругах определенно передают, что по соображениям политического характера Николай Романов вряд ли предстанет перед судом революционного трибунала. Ни в одном из учреждений не ведется следствия о действиях Николая Романова, и, вероятнее всего, предстоящий Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов вынесет постановление подвергнуть остракизму семью Романовых и выслать их из пределов Российской Федерации республики за границу».
На следующий день в № 49 от 20 июня 1918 года этой же газеты под заголовком «Слухи о Николае Романове» был опубликован материал уже другого толка:
«Как передают, слухи об убийстве Николая Романова возникли следующим образом: из Екатеринбурга в советских кругах была получена телеграмма, сообщавшая об убийстве Николая Романова. Телеграмма эта была никем не подписана и вызвала, естественно, сомнение. Однако слухи о телеграмме распространились по городу и стали сообщать об убийстве уже как о факте. Вчера из Екатеринбурга было получено несколько телеграмм, свидетельствующих, что в городе не произошло ничего удивительного».
А в следующем выпуске, т. е. в № 50 от 21 июня 1918 года этой газеты, под идентичным заголовком было сообщено:
«Несмотря на то, что слухи об убийстве Николая Романова не получили до сих нор официального подтверждения, они продолжают циркулировать в Москве. Вчера, со слов лица, прибывшего из Екатеринбурга, передавалась следующая версия о случившемся: когда Екатеринбургу стало угрожать движение чехословаков, по распоряжению местного Совдепа отряд красногвардейцев отправился в бывший губернаторский дом, где жили Романовы, и предложил царской семье одеться и собраться в путь. Был подан специальный поезд в составе трех вагонов. Красноармейцы усадили Романовых в вагон, а сами разместились на площадках. По дороге будто бы Николай Романов вступил в пререкание с красноармейцами и протестовал, что его увозят в неизвестном направлении, и в результате этой перебранки красноармейцы, якобы, закололи Николая Романова. Тот же источник передает, что великие княжны и бывшая императрица остались живы и увезены в безопасное место. Что же касается бывшего наследника, то он тоже увезен, отдельно от остальных членов семьи. Все эти сведения, однако, не находят подтверждения в советских кругах».
(Кстати, весьма любопытен тот факт, что в этой статье почти слово в слово была приведена та самая ложь, которую, начиная с 19 июля 1918 года, большевики станут уже «официально» распространять через свои газеты.)
О том, как эти слухи восприняло российское общество, автор расскажет немного позже, а сейчас следует сказать несколько слов о нашей третьей – «немецкой» версии.
Рассматривая этот аспект со всех сторон, здесь, в первую очередь, нужно отметить тот факт, что первыми, кто не только верил в эту «дезу», но и всячески её поддерживал, были немецкие дипломатические круги.
Так, будучи допрошенным следователем Н. А. Соколовым в Париже 5 февраля 1921 года, Генерал-Лейтенант Князь А. Н. Долгоруков показал:
«Летом 1918 года в Киеве проживал член Государственного Совета киевский Губернский предводитель Федор Николаевич Безак. Мы оба с ним входили в одну и ту же монархическую группу. Я хорошо помню, 5 или 6 июля по новому стилю Безак позвонил мне по телефону и сказал, что сейчас ему звонил граф Альвенслебен и сообщил ему, что сейчас он будет у Безака и передаст ему какое-то важное известие. Этот Альвенслебен – бывший дипломатический чиновник германского Министерства Иностранных Дел. В эпоху гетманства он, будучи призван по мобилизации, состоял при Главнокомандующем Эйхгорне, а затем – Кирбахе. Бабушка его была русская, как он сам говорил, кажется, графиня Киселева. Он был вхож в русские круги и считался монархистом и русофилом.
Я отправился к Безаку, куда вскоре приехал Альвенслебен. Разговор наш с ним происходил в присутствии четырех лиц, причем четвертым лицом была жена Безака Елена Николаевна. Альвенслебен сообщил нам, что император Вильгельм желает, во что бы ни стало, спасти Государя Императора Николая II и принимает к этому меры; что в целях спасения Государя ОН куда-то перевозится, но что в настоящий момент немцы потеряли ЕГО след. Альвенслебен предложил нам с Безаком прийти на помощь этому делу спасения Государя в следующей форме. Необходимо было, как он говорил, послать три пары офицеров для обнаружения места пребывания Государя, причем одна пара должна была отправиться в Москву, другая – в Котельнич, третья – в Екатеринбург. Офицеры должны были получить в немецкой комендатуре немецкие паспорта, а мы с Безаком должны были дать им 30 000 рублей. Альвенслебен указывал на Котельнич, как на наиболее вероятный пункт пребывания Государя, и говорил, что дальнейшее следование ЕГО требует денег. Подчеркивая, что деньги на такое дело должны быть исключительно русские, он указал сумму, которая, по его мнению, была необходима: 2 000 000 рублей. Мне чувствовалось что-то странное в словах Альсвенслебена: для чего нужно было посылать на розыски Государя русских офицеров во враждебную совдепию, когда немцы имели там свою громадную агентуру, свое официальное представительство в лице графа Мирбаха и свободно могли во всякую минуту иметь самые точные сведения о местопребывании Государя? Но Альвенслебен в разговоре с нами уверял нас, что нам следует вполне положиться на них, немцев, определенно давая нам понять, что император Вильгельм желает спасти Государя и что меры, которые он предлагает, необходимы именно в целях спасения Государя.
Во время этого разговора, Альвенслебен предупредил нас, что между 16 и 20 июля (по новому стилю) распространится слух или известие об убийстве Государя; что слух этот или известие не должен будет нас беспокоить: как и слух об убийстве Государя, имевший место в июне, он будет ложный, но что он необходим в каких-то целях именно ЕГО спасения. Я хорошо помню, что при нашем разговоре с ним, имевшем место, как я уже говорил, 5 или 6 июля по новому стилю, граф Альвенслебен указывал как предел, когда должно будет распространиться известие об убийстве Государя, 16–20 июля. В то же время он просил нас держать разговор с ним в секрете, делая наружно вид, что мы верим известию о смерти Государя»[42].
Однако немногим ранее, когда германский посланник граф В. фон Мирбах, принимал русских монархистов, он держал себя с ними весьма сухо и:
«… сказанное им в ответ на просьбу обратить внимание на необходимость принять меры для отражения безопасности царской семьи сводилось приблизительно к следующему: “Все происходящее с Россией есть вполне естественное и неизбежное последствие победы Германии. Повторяется обычная история: горе побежденным. Если бы победа была на стороне союзников, положение Германии, несомненно, стало бы гораздо худшим, чем положении России теперь. В частности, судьба Русского Царя зависит только от русского народа. Если о чем надо и подумать, это об ограждении безопасности находящихся в России немецких принцесс”»[43].
За жизнью Романовых в Екатеринбурге следили и бывшие союзники, ни коим образом не желавшие передачи немцам Царской Семьи. Так, в комментариях выходивших в то время советских газет отнюдь не случайно было помещено следующее сообщение:
«“Манчестер Гардиан”, касаясь захвата германцами вдовствующей императрицы и двух великих князей[44], говорит, что эти лица могут быть использованы для восстановления царского правительства».
И, надо сказать, что статья эта была опубликована не случайно, ибо главная её суть заключалась в том, чтобы лишний раз напомнить российскому обывателю о том, что «эти лица могут быть использованы для восстановления царского правительства»…
Из всего сказанного можно сделать вывод, что если слухи об убийстве Государя усиленно проверялись, значит к Его убийству, как к таковому, также относились вполне серьёзно. И, причем, не только представители бывших союзнических государств, но и сами большевистские вожди. Вот только в то, что данное злодеяние должно будет произойти в ближайшее время, им всем не особо верилось, поскольку на подготавливаемом к открытию V съезде Советов должен был обсуждаться вопрос суда над бывшим Самодержцем и Его дальнейшей судьбы.
Главным обвинителем на таковом себя видел Л. Д. Троцкий, который не раз спорил с В. И. Лениным, доказывая «вождю мирового пролетариата» необходимость этого «показательного суда».
На самом же деле, о готовящейся расправе над Царской Семьёй знал очень узкий круг лиц. Ибо В. И. Ленин прекрасно понимал, что при организации какого-либо судилища над Романовыми, «притянув за уши», можно будет добиться смертных приговоров в отношении Государя и Государыни. Приговорить же к смерти Детей вряд ли удастся, поскольку состряпать в отношении Их какие-либо вмешательства в политическую жизнь страны было просто невозможно. А В. И. Ленин издавна мечтал уничтожить, что называется, под корень «всю большую ектенью», то есть, попросту говоря, весь Русский Императорский Дом Романовых.
И надо сказать, что вера в правильности уничтожения всех членов Царской Семьи (как потенциального «знамени контрреволюции») настолько укрепилась в общественном сознании, что даже годы спустя цареубийца Г. П. Никулин рассказывал:
«Иногда, я выступал с такими воспоминаниями. (Воспоминаниями об убийстве Царской Семьи. – Ю. Ж.) Это обычно бывало в санаториях. Отдыхаешь…
– “Ну, слушай, – подходят ко мне, – давай, расскажи!”
Ну, я соглашался, при условии, если вы соберете надежный круг товарищей – членов партии… я расскажу.
Они [часто] задавали такой вопрос:
– “А почему всех? Зачем?”
Ну, я объяснял, зачем. Чтобы не было, во-первых, никаких претендентов ни на что.
Д. П. Морозов:
– Ну, да. [Ведь] любой из членов фамилии мог бы стать претендентом.
Г. П. Никулин:
– Ну, да. Если бы даже был [бы] обнаружен труп (кого-нибудь из членов Царской Семьи. – Ю. Ж.), то, очевидно, из него были [бы] созданы какие-то мощи. Понимаете, вокруг которых группировалась [бы] какая-то контрреволюция. А если бы в живых оставить, то это был бы готовый царь, потому что ведь, по существу, за рубежом, – на почве того, кому быть царем: Николаю Николаевичу или, как его еще [кому] … Произошла же грызня? А то был готовый, так сказать, царь и наследник»[45].
Таким образом, о пока ещё возможном плане уничтожения всей Царской Семьи знал лишь очень узкий круг лиц, во главе которого стояли В. И. Ленин и Я. М. Свердлов.
И примером тому – телеграмма Управляющего делами СНК Р.С.Ф.С.Р. В. Д. Бонч-Бруевича на имя Председателя Екатеринбургского Совдепа (на самом деле – Председателю Президиума Исполкома Уральского Облсовета) от 20 июня 1918 года[46], в которой он просил сообщить имеющиеся у них сведения по поводу распространяемых в Москве слухов об убийстве бывшего Государя. (Из-за неполадок со связью телеграмма эта была принята в Екатеринбурге только через три дня.)
Имеются также все основания для того, чтобы полагать, что уже в этот же день Председатель СНК Р.С.Ф.С.Р. В. И. Ленин вёл переговоры по прямому проводу с Екатеринбургом. (В пользу этого говорят свидетельские показания бывших работников Штаба Северо-Урало-Сибирского фронта.) Вызвав к аппарату Командующего фронтом Р. И. Берзина, он приказал ему взять под свою личную охрану всю Царскую Семью с целью недопущения над Ней какого-либо насилия. (Далее мы ещё вернемся к этому факту.)
И это справедливо, так как возможное «непослушание уральцев» сразу выбило бы из рук В. И. Ленина один из его главных козырей… Ибо в соответствии с его политическими прогнозами, Царская Семья должна была стать одной из главных ставок в затеянной им дьявольской игре с немцами, конечной целью которой было снижение размера контрибуции, оговорённой Брест-Литовскими соглашениями.
Точная дата разговора В. И. Ленина с Р. И. Берзиным неизвестна, но есть все основания полагать, что таковой состоялся никак не ранее 20 июня 1918 года, то есть уже после опубликования статьи в газете «Наше Слово».
Обеспокоенный долгим молчанием уральцев, вечером 21 июля Комиссар Почтово-Телеграфного Агентства Л. Н. Старк, уже от своего имени шлёт в Екатеринбург телеграмму, в которой также просит прояснить ему достоверность слухов об убийстве Николая Романова, а не получив на неё ответа днём 24 июня, – ещё одну, аналогичного содержания.
Выполняя распоряжение В. И. Ленина, Р. И. Берзин вместе с тремя членами Военной Инспекции Северо-Урало-Сибирского фронта, а также с Ф. И. Голощёкиным и представителем УОЧК (вероятнее всего, с Ф. И. Лукояновым), 22 июня 1918 года посетили ДОН. Об этом посещении Р. И. Берзин в декабре 1921 года упомянет в своих воспоминаниях[47], озаглавленных им «Дорожные заметки». В них он с большой долей всяческих вымыслов и приукрашиваний рассказывает о своём визите в ДОН и разговорах с Государем.
А тем временем, это газетное сообщение имело эффект разорвавшейся бомбы, взрыв которой был услышан в Германии.
24 июня Полномочный Представитель Р.С.Ф.С.Р. в Германии А. А. Йоффе написал В. И Ленину письмо, в котором сетовал вождю на своё незавидное положение в отношении отсутствия у него каких-либо сведений о дальнейшей судьбе Царской Семьи[48]. Так, в своей приватной беседе с главой МИД Германии Р. Кюльманом, последний прямо сказал ему, что почти не сомневается в том, что Государь рано или поздно будет убит из-за германофобских настроений уральцев, усилившихся ещё более с началом восстания чехословаков. Но более всего он опасался того, что вина за это преступление «падёт на немцев». А в заключение А. А. Йоффе, видимо, считая вполне логичным такой исход дела, давал В. И. Ленину совет «опубликовать вполне убедительный материал, доказывающий нашу непричастность»…
Так что же на самом деле замышлял В. И. Ленин?
В 1964 году Первый Секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв после целого ряда событий[49] отдал распоряжение Заведующему Отделом пропаганды и агитации ЦК СССР Л. Ф. Ильичёву выяснить роль «вождя мировой революции» в деле убийства Романовых. И после более чем года проверок его заместитель А. Н. Яковлев (фактически проводивший это расследование) пришёл к выводу о том, что обнаружить какие-либо документы, подтверждающие эту роль, вряд ли удастся.
А незадолго до отъезда Н. С. Хрущёва в отпуск и его дальнейшей отставки от обязанностей Первого Секретаря ЦК КПСС в октябре 1964 года, Л. Ф. Ильичёв имел с ним очередную встречу, на которой Н. С. Хрущёв, вдруг неожиданно спросил его о данном месяцами ранее поручении.
Вспоминает А. Н. Яковлев (со слов Л. Ф. Ильичёва):
Ну, меня (Л. Ф. Ильичёва. – Ю. Ж.) он (Н. С. Хрущёв. – Ю. Ж.) как-то спросил:
– Ну, как там? Удалось установить: причастен Ленин к расстрелу семьи или нет?
Я, говорит, ему сказал:
– Непричастен.
Он и потерял после этого интерес.
Вот, что после этого думать и как расшифровать вот эту вот реакцию Хрущева, я не знаю»[50].
И, надо полагать, что этот вопрос так бы и остался повисшим в воздухе, если бы не одно обстоятельство.
По сообщениям западных источников, в 60-е годы прошлого столетия один невозвращенец сумел вывезти из СССР весьма интересные документы, которые впоследствии были опубликованы в Париже.
Общеизвестно, что 19 мая 1918 года, то есть всего через несколько дней после того, как Президиум Исполкома Уральского Облсовета взял на себя контроль над всей Царской Семьёй, состоялось заседание ЦК РКП(б), на котором выступил Я. М. Свердлов с вопросом о дальнейшей судьбе бывшего Государя[51].
Но кроме этого, общеизвестного, факта, в них также указывалось, что 23 мая состоялось закрытое заседание ВЦИК, в ходе которого ещё раз обсуждалась судьба Романовых. А далее, вопреки существующему мнению, там говорилось, что далеко не все присутствующие на заседании члены ВЦИК были единодушны в своём желании истребить Царскую Семью. Ибо на самом деле в их рядах произошёл глубокий раскол.
Принимая же во внимание то давление, которое оказывали на страну германцы, вопрос об участи Царской Семьи вызвал самые жаркие споры. И, в первую очередь, конфликт возник по вопросу – стоит или не стоит везти Николая Романова обратно в Москву для показательного суда, на котором так настаивал Л. Д. Троцкий? Или пока что «придержать царя на Урале»?
По этому поводу В. И. Ленин говорил очень мало, ибо был почти на грани того, чтобы публично рассказать о своей политике двурушничества и вымогательства, в которой Романовы продолжали использоваться в качестве заложников. (Видимо, его стратегия заключалась в том, чтобы уговорить германцев не оккупировать центральную часть страны и получить отсрочки по выплате контрибуции в размере 300 миллионов золотых рублей, предусмотренной заключённым в марте Брест-Литовским мирным договором.)
Однако в то же время он стремился показать союзникам, что сотрудничает и с ними, обещая передать Романовых в их руки. И под предлогом выкупа прогерманскими акционерами банков (которые он уже успел национализировать) получил от них ещё 500 000 фунтов в дополнение к тем, что были переданы ему ещё в феврале.
Много споров разгорелось и по поводу иностранных долгов, принятых на себя царским правительством. Ибо Л. Д. Троцкий твёрдо отстаивал позицию, что эти долги не должны быть признаны, и посему в ходе означенных дебатов отчаянно боролся за показательный суд, на котором Николай должен быть осуждён, а затем казнён.
Дискуссия стала накаляться, но вмешательство Карла Радека – австрийского гражданина, вернувшегося прошлым летом в Россию вместе с В. И. Лениным и бывшего теперь одним из старейших членов Форин Офис (МИД Великобритании), сорвало все планы В. И. Ленина.
«Мои шведские информаторы, – говорил К. Б. Радек, – совсем недавно узнали, что глубокий интерес в палаче Николае был проявлен по ту сторону Атлантики. Если лондонское Сити заинтересовано в основном в сотнях золотых, спрятанных в подвалах Казани, то Уолл-стрит демонстрирует просто филантропический интерес к окончательно обесцененной личности главы Романовых. Эту операцию финансирует Национальный банк Сити; брокером является Томаш Масарик, профессор, который готовится представить себя в качестве освободителя в Храдшине (замке) в Праге. Он является тем человеком, который из-за границы осуществлял руководство чешскими легионами в Сибири, и тем, кто обещал свое содействие в деле освобождения бывшего царя. Все поставки (снабжение), сделанные в кредит белогвардейцам (компаниями) “Ремингтон Армс” и “Металлик Картридж Юнион”, зависят от скорости, с которой чехи достигнут Екатеринбурга и узников Ипатьевского дома. Три миллиона золотых долларов, а также пулеметы и винтовки в обмен на марионеточного Николашку – такую цену Масарик назначил за дело, предложенное ему американскими банкирами»[52].
Затем он также сообщил, что «Американское торговое судно «Томас» должно прибыть во Владивосток в середине июля и доставить 14 000 винтовок. Это судно, без сомнения, предназначено для вывоза семьи Романовых…»[53].
С высоты сегодняшнего дня, мы, конечно же, понимаем, насколько «хорошо» оказался осведомлённым К. Б. Радек в 1918 году. И насколько чехословаки «стремились» освободить бывшего Государя.
Но судно «Томас» с мая по июль 1918 года действительно должно было осуществить круиз, который предполагал остановки в Сан-Франциско, Гонолулу, Сиэтле, Вашингтоне, а затем возвращение снова в Сан-Франциско. Однако к 14 августа маршрут изменился, и в него, как и предсказал К. Б. Радек, была включена остановка во Владивостоке. Новый маршрут проходил из Сан-Франциско до Владивостока, откуда судно должно было проследовать в японский порт Нагасаки, а оттуда в филиппинскую Манилу, остров Гуам, Гонолулу и обратно в Сан-Франциско. И факт сей, по его мнению, заслуживал самого пристального внимания, так как именно это судно должно было доставить винтовки для чехословаков.
Постепенно обстановка заседания накалялась всё более. А К. Б. Радек, меж тем, успешно продолжал крушить все замыслы Ленина по передаче Царской Семьи германцам, и глубокой ночью В. И. Ленин был вынужден уступить. Но В. И. Ленин, которого мы знаем как опытного государственного деятеля и конспиратора, скорее всего, не принял это решение в качестве окончательного. До ночи 17 июля в Екатеринбурге у него было ещё два месяца для того, чтобы, работая вместе с избранными соратниками, предложить Царскую Семью более выгодным покупателям.
Этого же мнения придерживается и писатель Эдвард Радзинский, который считает, что «как всегда в большевистской истории… тайное было скрыто за явным», – косвенно подтверждая, тем самым, что именно так должен был действовать человек, которому принадлежал афоризм – «один шаг назад дает два шага вперед». Посему В. И. Ленин продолжал рассматривать Царскую Семью как предмет для сделки. И именно поэтому, ещё накануне, немецкая сторона получила заверения от советского полпреда в Берлине Адольфа Иоффе, что намерением большевиков является обеспечение безопасности Царской Семьи и Её перевозка в Москву. И сие – не подлежащий сомнению факт, так как Государственный Секретарь Германии фон Кухельман сам задавший этот вопрос Иоффе, вот что впоследствии написал об этой встрече:
«Русский представитель ответил, что он прекрасно осведомлен об этом и размножил телеграфные сообщения, относящиеся к этому делу. Он заверил, что для них очень важно обеспечить сохранность Царской семьи и доставить ее в подходящее место. Решение о доставке их в Москву также в основном готово, а подготовка к перевозке была прервана после того, как чехословаки преградили железнодорожные пути. Пока Советская республика ничего не может сделать в этом отношении»[54].
Другие заверения по этому же вопросу поступали из Москвы от Комиссара Иностранных Дел Г. В. Чичерина, вследствие чего план по перевозке Царской Семьи в Москву по указке немцев мог выглядеть в их глазах как дело решённое. И причём решенное настолько, насколько что-либо можно было решить в царившей тогда в России обстановке хаоса, двойственности и страха.
Однако время шло, а Государь и Его Семья так и не прибыли в Москву.
Казалось, что В. И. Ленин продолжает торговаться и оттачивать свои планы, одним из пунктов которого являлось командирование Л. Д. Троцкого в Царицын, в связи с чем есть все основания полагать, что назначение это было задумано В. И. Лениным лишь для того, чтобы устранить одно из главных препятствий для осуществления своего плана. А для «присмотра» за строптивцем Лейбой в качестве соглядатая в Царицын был послан и И. В. Сталин. И чтобы не быть голословным, следует упомянуть также и о том, что позднее, жалуясь на И. В. Сталина, Л. Д. Троцкий сообщал В. И. Ленину, что тот препятствует его намерению осуществлять наступление на Урал. (Ведь невозможно, чтобы Л. Д. Троцкий вынашивал собственные планы по перемещению Царской Семьи без согласия В. И. Ленина?)
Но теперь, когда Л. Д. Троцкий уехал, В. И. Ленин вместе с Я. М. Свердловым и лидером уральских большевиков Филиппом Голощёкиным могли работать над задачей освобождения Романовых в типично конспиративной манере. (Ведь Я. М. Свердлов, Ф. И. Голощёкин и И. В. Сталин, который более других принимал участие в переговорах с Т. Масариком по эвакуации чехословаков, были ещё старыми товарищами, прошедшими через совместную ссылку в Туруханске. И, к тому же, двое из них: Я. М. Свердлов и Ф. И. Голощёкин – уже принимали непосредственное участие в более ранней попытке В. В. Яковлева по перевозу Царской Семьи в Москву.) А в июле, пока И. В. Сталин отвлекал Л. Д. Троцкого, они включились в новый виток событий, центром которого стал теперь Екатеринбург.
Фактически в то самое время, когда К. Б. Радек распространял сведения, касавшиеся Т. Масарика, Отдельный Чехословацкий Корпус начал «мятеж». И нам, живущим сегодня, конечно же, ясно, что чехословаки никогда не строили каких-либо планов по освобождению Царской Семьи. Но тогда их планы для Советского правительства были, что называется, весьма туманны, в силу чего слова К. Б. Радека выглядели чуть ли не пророческими…
Не меньший интерес с высоты сегодняшнего дня представляют и дневниковые записи известного в то время публициста Михаила Осиповича Меньшикова (типичного представителя русской интеллигенции, придерживающейся в вопросах политики либерально-демократических взглядов), наглядно показывающие, как складывалось общественное мнение в обывательской среде. И хотя его оценки личности Государя не во всём верны, они всё же и сейчас представляют определённый исторический интерес.
Первое известие об «убийстве царя» Меньшиков получил… во сне. (В эту ночь ему приснился Государь, которого он хотел предупредить о предстоящей гибели.) Посему свою первую запись об этом, пока ещё неизвестном ему событии, он делает только 21 июня 1918 года:
«Мне показалось, что мне о чем-то нужно говорить с Государем, но сразу нашло очень много народа прикладываться к кресту, который будто бы вынес не священник, а тот же Николай II, и мне показалось, что когда я приложусь, тогда и поговорю с Ним. С этим проснулся. Но в связи ли этот сон со слухами, что Николай II убит?»
22 июня 1918 г.
«Пошел прогуливаться к вечерне. Птицын, В. В. Подчищалов, Прокопов, Копылов… Новость: будто Володарский убит, Государь убит, чехословаки уже в Рязани и т. д. Никто ничего определенного не знает, мифотворчество в полном ходу. Страшновато ехать в Москву и в то же время необходимо».
23 июня 1918 г.
«Троицын день и поворот солнца на зиму… А мы еще и лета не видали. Дожди, дожди…
Встревоженное настроение. В “Молве” настойчивые слухи об убийстве Николая II конвоировавшими красноармейцами. И наследник будто бы умер 2 недели тому назад. Все возможно в эти трагические времена. Жаль несчастного царя – Он пал жертвой двойной бездарности – и собственной, и своего народа. Будь Он или народ или, еще лучше, оба вместе поумнее, не было бы никакой трагедии».
24 июня 1918 г.
«4 утра. Неужели Николай II убит? Глубинам совести народной, если остались какие-нибудь глубины, будет нелегко пережить эту кровь. Тут уж трудно будет говорить, как об Александре II, что господа убили Царя. Впрочем, кто его знает, – мож.[ет] б.[ыть] по нынешней психологии народной, чего доброго, еще гордиться будут, бахвалиться! Вот, мол, мы какие-сякие, знай наших! Уж если царю башку свернули, – сторонись, мать вашу так! Всех переколотим, перепотрошим! И сделают. Чего не сделает хладнокровный душегуб, сбросивший лохмотья своей смердящей цивилизации и объявивший себя откровенным зверем!»
24 июня 1918 г.
«6 ч. вечера. Наш рассыльный Новожицкий читал подтверждение ужасного слуха: несчастный царь действительно убит. Второе цареубийство за 37 лет! Боже, какая бездарная у нас, какая злосчастная страна! Итак, родившись в день Иова многострадального, Николай претерпел столько бедствий, сколько едва ли кто из его современников – не только коронованных, но и простых пастухов. Точно чья-то грозная тень из-за гроба наклонялась над Ним и душила все блистательные возможности счастья. Тень ли замученного Алексея? Тень ли Иоанна Антоновича, или Петра III, или Павла? Поневоле начинаешь быть суеверным. Между тем, в самой реальности дело объясняется гораздо проще. Просто Николай II был слабый человек.
Свидетель моего времени, я твердо уверен, что на месте Николая II можно было избежать и японской войны, и теперешней, и тогдашней революции, и теперешней. Как? Да очень просто: глядеть во все глаза на опасность и уклониться от нее. Вот и все. Но для этого нужно иметь не те газельи глаза, не тот изнеженный декадентский мозг, не то размягченное воспитание, не то чутье и характер. Удивительное дело: простой кучер должен быть сильный мужчина, умеющий держать кнут и вожжи. А в кучера 180 миллионов народа попал изящный рамоли (человек, страдающий размягчением мозга, паралитик. – Ю. Ж.) от рожденья. И себя погубил, и нас, как деревянный вал, вставленный в стальную машину. (…) …кстати: несчастнейший царь был одним из громких поклонников моей книжки “Думы о счастье”, как мне передавал Ф. Ф. Веропонов со слов какого-то генерал-адъютанта с Кавказской фамилией. Не знаю, как я поступил бы, но следовало бы на троне сидеть громовержцу и полубогу, а не вырожденцу и слабаку.»
25 июня 1918 г.
«(…) Затяжной холодный дождь. Тупая тоска на сердце, так что приходится подбодрять себя философией. Говорю батюшке Коведяеву: убили Государя. Стало быть, молитвы не помогают: за него ли не молились тридцать лет и больше сотни миллионов народа, и он сам такой религиозный.
– Кощунственно молились, отвечает. Надо молиться, как следует!
Не хотелось обижать человека, но мог бы сказать: почему вы не помолились, как следует, чтобы не попасть из священника в рассыльные?»[55]
Безусловно, на эти откровения валдайского интеллигента-обывателя можно возразить, что июньские известия о гибели Государя были всего лишь слухами, и не более. Но в своих дневниковых записях это отмечает и сам М. О. Меньшиков, хотя постепенно и принимает их на веру. Посему, видимо, запамятовав о правиле «о мертвом или хорошо или ничего», слишком раздражён и резок в своих суждениях.
Но в том-то и дело, что первоначальные известия о гибели Государя были всего лишь только слухами, дошедшими даже до захолустного Валдая. Но в эпоху острых социальных конфликтов, к коим, в первую очередь, относятся революции, слухи вообще играли особую роль. Приобретая функции стихийного оружия массового и индивидуального поражения, они определяли не только сиюминутное действие или поведение, но и формировали мотивацию будущего поведения отдельных групп и индивидов.
Социальные психологи относят слухи, как таковые, к упрощённому образу настоящего и будущего, отброшенному в плоскость прошлого, отмечая их способность как бы «заговаривать будущее». И они же, классифицируя слухи, выделяют из них две основные группы: слух-мечта и слух-пугало.
Мне трудно судить, к какой из этих групп можно было бы отнести слухи о гибели Государя. Видимо, ни к одной из них они не подходят. Или же, наоборот, подходят и к той, и к другой группе, но только лишь в зависимости от среды их распространения. Однако в нашем случае данное явление заключается в том, что при передаче и обсуждении слухов, вероятнее всего, и происходит тот самый процесс адаптации к изменившейся реальности, который, в свою очередь, имеет особое, а порой, и наиглавнейшее значение. Россия, в лице её разномастного населения, ждала гибели Царя, как на осознанном, так и на подсознательном уровне, что позволило ей мысленно быть готовой к этой трагедии… Большевикам же в июле 1918 года оставалось только лишь превратить ожидаемое в реальное, уже нисколько не опасаясь грандиозного народного возмущения, которого, собственно говоря, и не последовало…
А чем же всё это время занимались имевшиеся ещё в достаточном количестве антибольшевистские силы? И почему не двинулись на выручку своего Государя казаки Атамана А. И. Дутова и бойцы сформированной в Сибири Западно-Сибирской Отдельной Армии под командованием Генерал-Майора А. Н. Гришина-Алмазова? Или же им, ещё столь недавно присягавшим на верность Государю и Отечеству, уже стало не до Него?
На этот вопрос даже сейчас не получить однозначного ответа. Однако о кое-каких, связанных напрямую с этим вопросом событиях, было бы всё же уместно рассказать читателю, освежив в его памяти некоторые, так сказать, эпизоды отечественной истории.
Ещё совсем недавно советская историографическая наука внушала отечественному читателю распространённую версию о том, что белогвардейцы яростно рвались к Екатеринбургу освобождать Царя. Посему у большевиков оставался один-единственный выход – расстрелять Государя и Его Семью, что в какой-то мере оправдывает их перед судом истории. (Если, конечно же, подобные действия можно оправдать в принципе.) Но забудем на время привычную для нас всех версию и постараемся взглянуть правде в глаза.
Гражданская война на Урале началась в ночь на 15 ноября 1917 года захватом Оренбурга казачьими отрядами Атамана А. И. Дутова. Сопротивление дутовцев было сломлено к середине апреля 1918 года, и никаких военных действий на территории Урала не велось вплоть до конца мая, то есть до так называемого «мятежа» Отдельного Чехословацкого Корпуса, начавшегося в Челябинске 24 мая 1918 года.
Как известно, центром дислокации чехословаков на Урале стал Челябинск, расположенный на юге этого огромного региона. 26 мая восставшие чехословаки захватили этот город, что, в свою очередь, стало сигналом к открытому выступлению всех антибольшевистских сил и открыло первую страницу в истории Гражданской войны на Урале.
Основной контингент восставших – опытные солдаты, прошедшие горнило Первой мировой войны в боях против германских и австро-венгерских войск. Так что в означенный период сборным красногвардейским отрядам (сформированным по большей части из числа рабочих, имевших весьма отдалённые навыки в военном деле) противостояли части чехов и русских белогвардейцев, состоявшие в основном из казаков и бывших офицеров. (Кстати, в одной из официальных инструкций, существовавших в годы войны, военнослужащим Австро-Венгерской Армии предписывалось вступать в бой с казаками только лишь в случаях пятикратного численного превосходства!) А что касается офицерских частей, то в этом случае было бы не лишним вспомнить о «психической атаке» каппелевцев, столь хорошо известной по хрестоматийному эпизоду фильма «Чапаев». (Правда, показанные в фильме братьев Васильевых каппелевцы почему-то были одеты в мундиры марковцев.)
А вот и ещё одна весьма характерная деталь. Частями, наступавшими на Екатеринбург, будет командовать Полковник С. Н. Войцеховский – один из талантливейших командиров Отдельного Чехословацкого Корпуса и Сибирской Армии белых. (Впоследствии – Генерал-Майор, заменивший умершего во время Сибирского Ледяного похода генерала В. О. Каппеля на посту Командующего Западным фронтом и совершивший в феврале 1920 года беспримерный прорыв от Иркутска к Чите для воссоединения с частями Атамана Г. И. Семёнова.) И вот тут, само собой, возникает вопрос – а кто, собственно говоря, противостоял этому опытному противнику?
К лету 1918 года Екатеринбургский гарнизон состоял из нескольких сотен красногвардейцев, а вместе с Первым батальоном Уральского Областного Комитета РКП(б) и силами «Летучего отряда» ОЧК не превышал 1000 человек. А если ещё принять во внимание тот факт, что большинство красногвардейцев было вооружено охотничьими ружьями и прочим оружием устаревших систем (однозарядными винтовками Бердана № 2 и Гра, револьверами Смит-Вессона и Лефоше), а также и то, что в их среде процветало беспробудное пьянство, картина видится, куда более чем откровенная.
Поэтому не случайно М. К. Дитерихс пишет в своей книге о том, что части Подполковника С. Н. Войцеховского «вошли в город, рассеяв Красную гвардию». Яснее не скажешь – не разбив, а именно рассеяв. А из этого, в свою очередь, следует лишь один вывод – проблем с взятием Екатеринбурга у белых не было…
И ещё. Центром антибольшевистских сил на Урале был в то время Челябинск, находящийся от Екатеринбурга всего в шести-семи часах езды по железной дороге со всеми остановками. А если без таковых, то расстояние до этого города можно было бы покрыть всего за три-четыре часа. Так кто же мог помешать белым совершить этот рывок на север и, что называется, с налёта захватить столицу «Красного Урала»? А главное, при этом было совсем не обязательно удерживать в дальнейшем этот город. Можно было просто ворваться в него на несколько часов, как, зачастую, и случалось в практике Гражданской войны. Так что в случае с Екатеринбургом это тоже было бы вполне возможным, если бы белое командование считало бы для себя спасение Царской Семьи «приоритетом номер один». А что произошло на самом деле?
Ранее уже говорилось, что Челябинск оказался в руках чехословаков уже 24 мая, а взятие Екатеринбурга случилось 25 июля. То есть, без дня, через два месяца! Но за это же самое время чехословаки сумели захватить такие города, как Кыштым, Миасс, Троицк, Верхнеуральск, Магнитогорск, Златоуст. Но все они – южнее и западнее Челябинска, то есть лежат в противоположном Екатеринбургу направлении. Были завоёваны и города, расположенные к юго-востоку от Челябинска: Шадринск, Курган и Петропавловск, а также Тюмень, захват которой вообще трудно прокомментировать, так как она находилась в самой непосредственной близости от Екатеринбурга. И, наконец, после ожесточённых боёв, белые овладевают Нижним Тагилом, после чего делают бросок к Верхотурью, Надеждинску[56] и в сторону Богословского Горного Округа, то есть к северу от Екатеринбурга.
Таким образом, к концу июля столица «Красного Урала» была окружена со всех сторон. Но кольцо окружения не замыкается – железная дорога на Кузино, Кунгур и Пермь свободна, вследствие чего большевики будут иметь возможность отступать в дальнейшем на Пермь именно по ней.
Следует также сказать, что, ведя бои с крупными по местным масштабам силами красных, сосредоточенными в районах Троицка и Нижнего Тагила, части белых несут большие потери. Ибо оба эти города были взяты лишь со второй попытки. И два полка чехословаков почти полностью полегли в боях под Нижним Тагилом, а в боях под Троицком был уничтожен чешский бронепоезд.
Не меньшие потери несли и красные части. Так, например, присланный из Перми на подмогу в район Нижнего Тагила 1-й Петроградский полк в этих боях был полностью уничтожен[57]. Но красногвардейские отряды, прибывшие из районов Егоршино и Алапаевска, всё же помогли удержать этот город во время его первого штурма чехословаками.
В общем, антибольшевистские силы тратят свою энергию на выполнение любых оперативно-тактических задач, кроме главной – решающего удара по фактически беззащитному Екатеринбургу, в котором, не теряя надежду, ждёт часа своего освобождения Царская Семья.
Но если командование белых, по какому-то только ему одному ведомому соображению все откладывало и откладывало взятие Екатеринбурга, то оно вполне могло бы заслать в этот город какое-нибудь диверсионное подразделение, чтобы с его помощью, что называется, без особого шума выкрасть Царскую Семью из дома Ипатьева[58]. Было бы, как говорится, желание…
Но желание, судя по всему, отсутствовало. И поэтому обложенный с трёх сторон и почти не охраняемый Екатеринбург, вплоть до конца июля 1918 года не подвергался нападению.
Вообще же, создаётся впечатление, будто бы белогвардейцы предлагали красным, своего рода, чудовищную игру «в поддавки». Весьма точную и меткую характеристику избранной белым командованием тактики дал Д. В. Суворов в своей книге «Неизвестная гражданская война»:
«…мы даем вам время и шанс сделать ответный ход в отношении Царской Семьи, то есть мы на вас наступаем, но не так, чтобы отрезать все концы, нет, мы вас обкладываем, как волка флажками, но при этом ниточку Транссибирской магистрали не перерезаем: пожалуйста, драпайте, как вашей душе угодно! И царя вывозите, куда хотите!»[59]
И действительно – ведь смог же практически в это же самое время Ф. И. Голощёкин съездить в Москву на V съезд Советов и вернуться назад не ранее 12 июля. И как в таком случае понимать «рвущихся спасать Царя» белых?
Но и в этом случае положение почти сразу же проясняется, если мы вспомним, кто находился у власти летом 1918 года в Поволжье и Сибири.
Ответ прост – Комитет членов Учредительного Собрания (КОМУЧ), главная штаб-квартира которого находилась в Самаре, а филиал – в Омске. Главенствующую же роль в этом правительстве играли меньшевики и эсеры, то есть, попросту говоря, социал-демократы и социал-революционеры, которые при любых раскладах российских политических сил всегда являлись одной из составных частей их левого крыла. То есть партиями, всегда стоявшими в оппозиции к Самодержавию. Да и само же название этого правительства, как нельзя лучше отражает его суть. КОМУЧ – представительный (по идее его создателей) орган разогнанного большевиками Учредительного Собрания, большинство которого было откровенно эсеровским. И, надо сказать, что такое положение вещей сохранялось вплоть до ноября 1918 года, то есть до того времени, пока Адмирал А. В. Колчак не взял власть в свои руки. Но по соображениям исключительно политическим и А. В. Колчак официально объявит себя не монархистом, а приверженцем всё того же Учредительного Собрания…
Так что прав оказался Э. С. Радзинский, когда писал в своей нашумевшей книге с ошибочным названием «Господи… спаси и усмири Россию»[60]:
«Свергая большевиков, чехи и Сибирская армия отнюдь не восстанавливали царскую власть… Если бы императора освободили – у освободителей наверняка возникли бы проблемы».
Да и, вступив в город, белые далеко не сразу взяли под охрану дом Ипатьева. Караул для его охраны был выставлен спустя почти что сутки, что позволило ещё задолго до посещения его представителями военных властей и официального следствия побывать там немалому количеству любознательных лиц, да и просто любителей сувениров…
* * *
4 июля 1918 года в помещении Большого театра в Москве открылся V Всероссийский съезд Советов, работа которого совпала с выступлением левых эсеров, позднее получившим название «мятеж левых эсеров». На этом съезде должна была обсуждаться дальнейшая судьба бывшего Самодержца, однако попав в стремительный водоворот событий, связанных с левоэсеровским мятежом, большевикам было уже не до того, чтобы рассматривать вопрос о Государе в оставшиеся дни этого съезда, равно как и время предполагаемого над Ним суда.
Присутствовавший на этом съезде в качестве делегата Ф. И. Голощёкин, останавливался на кремлёвской квартире Я. М. Свердлова, с которым был знаком долгие годы по совместной революционной работе. И, конечно же, просто нельзя представить себе того, чтобы между ними не происходили разговоры о дальнейшей судьбе Царской Семьи. Вероятнее всего, именно тогда Ф. И. Голощёкин сумел убедить Я. М. Свердлова в том, что перевоз Царской Семьи в Москву может иметь самые непредсказуемые последствия ввиду многочисленных контрреволюционных заговоров. (Коих, как показали дальнейшие события, и не было вовсе.) Думается также, что все эти разговоры Я. М. Свердлов доводил до В. И. Ленина, который также не желал того, чтобы отбитые по пути следования в Москву Романовы стали бы «живым знаменем в руках контрреволюционеров». А убийство немецкого посла графа В. фон Мирбаха в дни левоэсеровского мятежа и довольно вялая реакция на это Германии только лишний раз уверила большевиков в том, что она уже не является тем мощным противником, представляющим для их власти какую-либо серьёзную угрозу.
В день открытия съезда на имя Я. М. Свердлова (для Ф. И. Голощёкина) была получена телеграмма № 4558, первая часть которой сообщала об отъезде в Пермь Комиссара финансов Уральской области Ф. Ф. Сыромолотова в связи с вывозом из Екатеринбурга золота и прочих банковских ценностей. А вот вторая – непосредственно касалась судьбы Романовых. Она ставила Ф. И. Голощёкина в известность о смещении А. Д. Авдеева с должности Коменданта ДОН (Дома Особого Назначения. – Ю. Ж.) и назначении на его место Я. М. Юровского, об аресте помощника бывшего коменданта А. М. Мошкина, а также о замене лиц внутреннего караула.
Теперь почва для убийства Царской Семьи была, практически, полностью подготовлена. А упомянутая ранее вялость германской дипломатии только ускоряла движение запущенного и уже начинавшего набирать обороты механизма цареубийства. А раз так, то с арестованными Романовым теперь можно было больше не церемониться. Тем более, что обстановка для этого складывалась как нельзя более выгодная. Ибо перед лицом мировой общественности всегда можно было заявить, что в связи с «мятежом чехословаков» советские правительственные круги не имеют прямой телефонно-телеграфной связи с Уралом.
А для того, чтобы оградить себя лично и правительство В. И. Ленина от каких-либо возможных в дальнейшем нападок, Я. М. Свердлов рекомендует Ф. И. Голощёкину устроить в Екатеринбурге что-то типа суда над Николаем II, в свою очередь прекрасно понимая, что таковой никак не может состояться по целому ряду причин. Ну, а в случае, если так всё же не получится, предлагает уральцам действовать по обстоятельствам или по собственному сценарию, то есть, попросту говоря, даёт тем самым своё молчаливое согласие на уничтожение бывшего Государя.
И подтверждение сему – воспоминания бывшего Члена Коллегии Уральской Областной ЧК М. А. Медведева (Кудрина), который так излагал данную ситуацию, происходившую на заседании Коллегии УОЧК:
«Когда я вошел, присутствовавшие решали, что делать с бывшим царем Николаем II Романовым и его семьей. Сообщение о поездке в Москву к Я. М. Свердлову делал Филипп Голощекин. Санкции Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета на расстрел семьи Романовых Голощекину получить не удалось. Свердлов советовался с В. И. Лениным, который высказался за привоз царской семьи в Москву и открытый суд над Николаем II и его женой Александрой Федоровной, предательство которой в годы Первой Мировой войны дорого обошлось России.
– Именно всероссийский суд! – доказывал Ленин Свердлову. – С публикацией в газетах. Подсчитать, какой людской и материальный урон нанес самодержец стране за годы царствования. Сколько повешено революционеров, сколько погибло на каторге, на никому не нужной войне! Чтобы ответил перед всем народом! Вы думаете, только темный мужичок верит у нас в “доброго” батюшку-царя? Не только, дорогой мой Яков Михайлович! Давно ли передовой наш питерский рабочий шел к Зимнему с хоругвами (хоругвиями. – Ю. Ж.)? Всего каких-нибудь 13 лет назад! Вот эту-то непостижимую “рассейскую” доверчивость и должен развеять в дым открытый процесс над Николаем Кровавым…
Я. М. Свердлов пытался приводить доводы Голощекина об опасностях провоза поездом царской семьи через Россию, где то и дело вспыхивали контрреволюционные восстания в городах, о тяжелом положении на фронтах под Екатеринбургом, но Ленин стоял на своем:
– Ну и что же, что фронт отходит? Москва теперь – глубокий тыл, вот и эвакуируйте их в тыл! А мы уж тут устроим им суд на весь мир.
На прощанье Свердлов сказал Голощекину:
– Так и скажи, Филипп, товарищам: “ВЦИК официальной санкции на расстрел не дает”»[61].
В свою очередь, ничего не знавшие об этом уральцы разрабатывают собственный план ликвидации Романовых.
А планы сии зрели давно… Так, ещё в апреле 1918 года, во время перевода части Царской Семьи из Тобольска в Екатеринбург, готовилась Её ликвидация в пути следования, которую должна была совершить часть отряда С. С. Заславского, действующего под видом «белогвардейской банды», имевшей целью «отбить Романовых». А в ходе несомненно возникшей бы перестрелки, Государь, Государыни, Их Дочь Мария, а также следовавшие с Ними слуги должны были быть убиты. Ну, а далее, как говорится, в лучших большевистских традициях, – газетная шумиха о срыве очередного контрреволюционного заговора…
«Мы считали, – вспоминал впоследствии А. Г. Белобородов, – что, пожалуй, нет даже необходимости доставлять Николая II в Екатеринбург, что, если представятся благоприятные условия во время его перевоза, он должен быть расстрелян в дороге. Такой наказ имел Заславский и все время старался предпринимать шаги к его осуществлению, хотя и безрезультатно»[62].
Когда же эти планы были сорваны Чрезвычайным Комиссаром ВЦИК и СНК В. В. Яковлевым (К. А. Мячиным), уральцы с целью получения «неопровержимых улик контрреволюционного заговора» затевают новую «игру» с подмётными письмами от имени некоего «Офицера». Однако Царская Семья на провокацию не поддалась и наотрез отказалась содействовать «тайной офицерской организации» в деле Её похищения. Посему, потерпев фиаско и в этом деле, уральцы прекращают переписку, видя её дальнейшую бесполезность. И, тем не менее, в их руках всё же остаётся переписка «Романовы» – «Офицер», которая в дальнейшем будет представлена центральной власти в качестве основного подтверждения существовавшего «монархического заговора». (О переписке «Романовы» – «Офицер» более подробно будет рассказано в главе 5 «“Белогвардейский заговор”: а был ли он?»)
Но, вернёмся вновь к моменту приезда Ф. И. Голощёкина в Екатеринбург. Думается также, что, обсудив вопрос уничтожения Романовых во всех его аспектах, «товарищ Филипп» (партийная кличка Ф. И. Голощёкина) получил от Я. М. Свердлова устные инструкции, согласно которым он должен был действовать в том или ином случае по возвращении на Урал.
Ну, а то, что Я. М. Свердлов, следуя прямому указанию В. И. Ленина, рекомендовал «товарищу Филиппу» устроить, в первую очередь, публичный суд над Николаем II и провести его в столице «Красного Урала» (что, собственно говоря, косвенно подтверждается приведённым ранее отрывком из воспоминаний М. А. Медведева (Кудрина)), претворяя тем самым в жизнь Постановление СНК Р.С.Ф.С.Р. за № 59 от 29.01.1918 г. (на заседании СНК Р.С.Ф.С.Р., состоявшемся в этот день, рассматривался вопрос «О переводе Николая Романова в Петроград для предания его суду»[63]) и Постановление СНК Р.С.Ф.С.Р. за № 66 от 20.02.1918 г. (в котором предлагалось: «…Поручить Комиссариату Юстиции и двум представителям Крестьянского съезда (имелись в виду резолюции этого съезда, требующие суда над Николаем II. – Ю. Ж.) подготовить следственный материал по делу Николая Романова. Вопрос о переводе (имелся в виду перевоз всей Царской Семьи из Тобольска в Петроград. – Ю. Ж.) Николая Романова отложить до пересмотра этого вопроса в Совете Народных Комиссаров. Место суда не предуказывать (так!) пока»[64]), а также Постановление НКЮ Р.С.Ф.С.Р. от 4.06.1918 г. (На заседании Коллегии НКЮ Р.С.Ф.С.Р., состоявшемся в этот же день, было вынесено решение о делегировании в распоряжении СНК Р.С.Ф.С.Р. «в качестве следователя т. Богрова», главной задачей которого предопределялся сбор материалов следствия, необходимых к представлению на готовящемся процессе над Николаем Романовым[65]).
На роль главного обвинителя в этом процессе готовился Л. Д. Троцкий, в помощь которому в Перми и Екатеринбурге шла непрекращающаяся работа по сбору дополнительных компрометирующих материалов, освещающих связи Николая II с монархическими и иными организациями, готовящими «заговоры» с целью освобождения Царской Семьи.
Разумеется, как В. И. Ленин, так и Я. М. Свердлов прекрасно понимали всю абсурдность данного мероприятия, поскольку сложившаяся к тому времени обстановка на Урале (военное положение области, контрреволюционные выступления, сепаратизм на местах, общий антибольшевистский настрой большинства рабочего населения и т. д.), уже сама по себе требовала от местных властей самых решительных действий.
Для организации же подобного процесса требовались, как минимум, желание и время. И если второго, действительно, не было, то первое никогда не бралось в расчёт ввиду самых радикальных взглядов на данную проблему, решаемую, по мнению большинства уральских коммунистов, лишь однозначным способом, свойственным для любой революции. Используя это обстоятельство как более чем выгодное для центральной власти, увидевшей в нём редкую возможность практически в одночасье покончить сразу с тринадцатью представителями Дома Романовых, находящимися на Урале, и при этом полностью освободить себя от какой-либо ответственности! (Проживающий в Перми Великий Князь Михаил Александрович к тому времени был уже убит по инициативе группы местных большевиков, возглавляемых Г. И. Мясниковым.) И именно поэтому, прощаясь с Ф. И. Голощёкиным, Я. М. Свердлов прямо заявил ему, чтобы уральцы действовали в соответствии с обстановкой, подчёркивая при этом особо, что ВЦИК Советов не даёт своей официальной санкции на расстрел Николая II.
Не ранее 12 июля 1918 года Ф. И. Голощёкин возвратился из Москвы в Екатеринбург. А вечером этого же дня в помещении бывшего Екатеринбургского отделения Волжско-Камского банка (где в то время размещался Исполком Уральского Областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов) состоялось закрытое заседание расширенного Президиума Исполкома Уральского Облсовета, проходившее под председательством А. Г. Белобородова. А расширенное потому, что помимо самих членов Президиума (А. Г. Белобородов – председатель, Б. В. Дидковский, Ф. И. Голощёкин, Г. И. Сафаров и Н. Г. Толмачёв – члены) на него также были приглашены и некоторые «посвящённые». То есть, состоящие в партии большевиков члены Исполкома (за исключением члена партии левых эсеров В. И. Хотимского) и другие руководящие работники, доверие к которым не вызывало у членов Президиума каких-либо сомнений, а также те лица, которые имели непосредственное отношение к охране и режиму содержания Царской Семьи в доме Ипатьева. На сегодняшний день доподлинно известно, что в числе «посвящённых», присутствующих на этом заседании, были Уральский Областной Комиссар финансов Ф. Ф. Сыромолотов, Уральский Областной Комиссар снабжения и продовольствия П. Л. Войков, член Исполкома В. И. Хотимский и Командующий Северо-Урало-Сибирским фронтом Р. И. Берзин. Однако автор не исключает возможности того, что на заседании также вполне могли присутствовать и следующие лица: Председатель Уральской Областной Чрезвычайной Комиссии Ф. Н. Лукоянов, Уральский Областной Комиссар Юстиции М. Х. Поляков, Уральский Областной Комиссар жилищ А. Н. Жилинский, член Исполкома П. М. Быков, Председатель Президиума Исполкома Екатеринбургского Городского Совета С. Е. Чуцкаев, Комендант Дома Особого Назначения Я. М. Юровский, Начальник 4-го Района Красной Гвардии Екатеринбурга П. З. Ермаков и др.
Заслушав доклад Ф. И. Голощёкина о его поездке в Москву (на V Всероссийском съезде Советов была принята Первая Советская Конституция Р.С.Ф.С.Р., а точнее – Конституционный Акт), а также обсудив создавшееся к 12 июля 1918 года положение на всех участках Северо-Урало-Сибирского фронта, грозящее неминуемой сдачей города в самые ближайшие дни, расширенный Президиум Исполкома Уральского Облсовета (по предложению А. Г. Белобородова и Ф. Ф. Сыромолотова) принимает решение о расстреле не только Государя, но и Его Семьи.
Спустя десятилетия, вдова П. Л. Войкова – Аделаида Абрамовна (урождённая Беленкина) – со слов мужа расскажет писателю Б. И. Бочкарёву о его выступлении на этом совещании:
«Мы в кольце интервенции и белогвардейских полчищ, – говорил П. Л. Войков, – которым нужен только символ, только единица царской фамилии, чтобы от имени ее объявить незаконной кровью добытую в резолюции власть народа и чтобы начать крестовый поход на только что освободившийся народ. Оставив царя Николая или кого-то из Романовых, мы выносим смертный приговор сотням тысяч, миллионам ни в чем не повинных человеческих жизней, выносим смертный приговор и рабочим и крестьянам и передовой интеллигенции, не говоря уж о тех лучших сынах Отечества, которые стали в ряды Коммунистической партии большевиков»[66].
И надо сказать, что эта выдержка из этой книги о жизни П. Л. Войкова весьма красноречиво передаёт общий настрой присутствующих на нём лиц, из которых вряд ли кто задумывался тогда о том, что среди приговорённых ими к смерти людей присутствовало пятеро ни в чём неповинных детей, самый младший из которых не достиг и 14-летнего возраста!
Но если уж речь вновь зашла об этом человеке, сыгравшем свою роковую роль в гибели Романовых, думается, будет весьма уместным рассказать ещё об одном, якобы произошедшем на рассматриваемом совещании разговоре, который вполне мог иметь место в ходе оного. Но прежде, чем рассказать об этом, следует дать некоторые пояснения.
В конце 1924 года на место Полномочного Представителя Р.С.Ф.С.Р. в Польше был назначен П. Л. Войков, который в канун нового 1925 года поведал секретарю Г. З. Беседовскому свой собственный пересказ событий, связанных с гибелью Царской Семьи, в котором, разумеется, отводил себе в этом деле главенствующую роль. Немногим позднее Г. З. Беседовский записал этот рассказ, который позднее стал одной из глав написанной им книги «На путях к термидору». Так вот, рассказывая ему о том, что предшествовало этой трагедии, П. Л. Войков, в частности, пояснил:
«Вопрос о расстреле Романовых был поставлен по настойчивому требованию Уральского областного Совета, в котором я работал в качестве областного комиссара по продовольствию. Уральский Совет категорическим образом настаивал перед Москвой на расстреле царя, указывая, что уральские рабочие чрезвычайно недовольны оттяжкой приговора и тем обстоятельством, что царская семья живет в Екатеринбурге «как на даче», в отдельном доме, со всеми удобствами. Центральные московские власти не хотели сначала расстреливать царя, имея в виду использовать его и семью для торга с Германией. В Москве думали, что уступив Романовых Германии, можно будет получить какую-нибудь компенсацию. Особенно надеялись на возможность выторговать уменьшение контрибуции в триста миллионов рублей золотом, наложенной на Россию по Брестскому договору. Эта контрибуция являлась одним из самых неприятных пунктов Брестского договора, и Москва очень желала бы этот пункт изменить. Некоторые из членов Центрального Комитета, в частности, Ленин, возражали также и по принципиальным соображениям против расстрела детей. Ленин указывал, что Великая французская революция казнила короля и королеву, но не тронула дофина. Высказывались соображения о том отрицательном впечатлении, которое может произвести за границей, даже в самых радикальных кругах, расстрел царских детей.
Но Уральский областной Совет и областной комитет коммунистической партии продолжали решительно требовать расстрела (Войков сделал при этом театральный жест) – я был одним из самых ярых сторонников этой меры. Революция должна быть жестокой к низверженным монархам, или она рискует потерять популярность в массах. Тем более в уральских массах, представлявших собой тогда сплошной революционный костер. Уральский областной комитет коммунистической партии поставил на обсуждение вопрос о расстреле и решил его окончательно в положительном духе еще с июля 1918 года. При этом ни один из членов областного комитета партии не голосовал против. Постановление было вынесено о расстреле всей семьи, и ряду ответственных уральских коммунистов было поручено провести утверждение в Москве, в Центральном Комитете коммунистической партии. В этом нам больше всего помогли в Москве два уральских товарища – Свердлов и Крестинский. Они оба сохраняли самые тесные связи с Уралом, и в них мы нашли горячую поддержку в проведении в Центральном Комитете партии постановления Уральского областного комитета. Провести это постановление оказалось делом не легким, так как часть членов ЦК продолжала держаться той точки зрения, что Романовы представляют чересчур большой козырь в наших руках для игры с Германией и что поэтому расстаться с таким козырем можно лишь в самом крайнем случае. Уральцам пришлось прибегнуть тогда к сильно действующему средству. Они заявили, что не ручаются за целость семьи Романовых и за то, что чехи не освободят их в случае дальнейшего своего продвижения на Урал. Последний аргумент подействовал сильнее всего. Все члены ЦК не желали, чтобы Романов попал в руки Антанты. Эта перспектива заставила уступить настояниям уральских товарищей. Судьба царя была решена. Была решена и судьба его семейства…
Когда решение Центрального Комитета партии сделалось известным в Екатеринбурге (его привез из Москвы Голощекин), Белобородов поставил на обсуждение вопрос о проведении расстрела. Дело в том, что ЦК партии, вынося постановление, предупредил Екатеринбург о необходимости скрывать факт расстрела членов семьи, так как германское правительство настойчиво добивалось освобождения и выезда в Германию бывшей царицы, наследника и великих княжон. Белобородов предложил следующий план: инсценировать похищение и увоз семьи, кроме царя, и увезенных тайно расстрелять в лесу близ Екатеринбурга. Бывшего царя расстрелять публично, прочитав приговор с мотивировкой расстрела. Однако Голощекин возражал против этого проекта, считая, что инсценировку будет очень трудно скрыть. Он предложил расстрелять всю семью за городом, в лесу, побросав трупы в одну из шахт, объявив о расстреле царя и о том, что «семья переведена в другое, более надежное место».
И далее Г. З. Беседовский пишет:
«Тут Войков начал мне рассказывать подробно ход прений в областном комитете партии по этому вопросу. Он лично выступал против обоих проектов, предлагая довезти царское семейство до ближайшей полноводной реки и, расстреляв, потопить в реке, привязав гири к телам. Он считал, что его проект был самым “чистым”: расстрел на берегу реки с прочтением приговора и затем “погребение тел с погружением их в воду”. Войков считал, что такой способ “погребения” явился бы вполне нормальным и не дискредитирующим проведенное в жизнь революционное мероприятие.
В результате прений областной комитет принял постановление о расстреле царской семьи в доме Ипатьева и о последующем уничтожении трупов. В этом постановлении указывалось также, что, состоящие при царской семье: доктор, повар, лакей, горничная и мальчик-поваренок – “обрекли себя на смерть и подлежат расстрелу вместе с семьей”»[67].
Ознакомившись с этим отрывком, читатель может возразить, что это всего лишь художественное произведение, где вполне могут быть допущены некоторые неточности, если не сказать более… Всё это так. Но если рассматривать его с точки зрения событий, имевших место в реальной действительности, то изложение этих прений по версии П. Л. Войкова – Г. З. Беседовского выглядит весьма убедительным.
Следует также отметить, что ситуация, сложившаяся к лету 1918 года вокруг перевезённых на Урал Романовых, была просто тупиковой. Ибо члены Исполкома Президиума Уральского Облсовета во главе со своим Президиумом никак не хотели выпускать их из своих рук. А так как большинство их составляли эсеры и левые коммунисты, то есть люди, выступавшие против подписанного большевиками «похабного Брестского мира», в их сознании окончательно утвердилось мнение о том, что центральная власть может в любой момент затребовать их Москву для дальнейшей передачи немцам. И если не Царя, то уж, как минимум, членов Его семьи.
Из воспоминаний А. Г. Белобородова:
«Тут необходимо указать на один прецедент, с которым нам пришлось столкнуться ранее в феврале месяце. В Екатеринбург была направлена группа заложников из Прибалтийского края: бароны, буржуа, офицеры, во главе со светлейшим князем Ливеном. Пробыли они в Ек[атеринбур]ге недели две, доставляя нам кучу хлопот с помещением, продовольствием и т. д. Неожиданно получается из Петрограда от Совнаркома телеграмма с предложением усадить их в вагоны и вернуть в Петроград. Нам совершенно ясно было, что возвращение их является актом нашей уступки немцам, с которыми мы вели тогда переговоры о мире.
Мы, т. е. Облсовет (так назывался тогда Ур.[альский] Обл.[астной] Исп.[олнительный] Комитет), “замитинговали”. На одном из заседаний Облсовета мы встали на такую точку зрения, предложенную Ф. Ф. Сыромолотовым (наш комиссар финансов): возвращение св.[етлейшего] кн.[язя] Ливена – это вынужденная со стороны Совнаркома уступка; под давлением событий наши питерские товарищи должны были эту уступку сделать. Не исключена возможность, что предложение о возвращении Ливена является <неразб.> на улучшение общего политического положения.
Эту историю с заложниками я привёл для того, чтобы пояснить нить наших умозаключений в вопросе о судьбе Николая»[68].
Поэтому выпускать Царскую Семью и всех остальных «баронов» за пределы «Красного Урала» было, с их точки зрения, неразумно: а вдруг центральная власть возьмёт, да и использует их в своей политической игре в качестве «отступного» немцам? Или, что того хуже, – помилует!
Из беседы с И. И. Родзинским:
И. И. РОДЗИНСКИЙ: Да, и вот мы так сидели, толковали, разговор шел о том, что надо кончать с этим делом (с Царской Семьёй. – Ю. Ж.), что другого выхода сейчас нету. Шел вопрос, деликатно спрашиваю, как с Москвой?
Д. П. МОРОЗОВ (Начальник секретной части Радиокомитета): Ага.
И. И. РОДЗИНСКИЙ: Ну, а как же, дело ведь серьезное. Ну, решили так. Может быть, это и было [центральной властью] предрешено [и там] сказали, что, значит, нельзя. [Но] если Москву запросить [и] согласие не разрешат, а мы [это] выполнить не сможем, [то] сможем [ли мы это их решение не] выполнить? Нет, не сможем при той обстановке, какая есть. [И] там [нас] могут не понять, что нельзя иначе. Учитывали всё. И решили поэтому привести всё в исполнение тут и поставить о факте в известность, ссылаясь на обстановку. Так и сделано было вот на месте»[69].
В соответствии с решением Исполкома Уральского Областного Совета, Комендант Дома Особого Назначения Я. М. Юровский почти сразу же запускает механизм подготовки к расстрелу.
Через три дня после этого совещания (т. е. 15 июля 1918 г.) Я. М. Юровский вместе с П. З. Ермаковым и ещё с одним «мадьяром» (вероятнее всего, со своим «денщиком» австрийцем Р. Лахером) выезжает в район одного из заброшенных рудников, находящегося в ближайшем пригороде Екатеринбурга. Цель поездки – предварительный осмотр данного места, а также выяснение наличия ведущих к нему подъездных путей на предмет возможного передвижения по ней грузового автомобиля, планируемого для перевозки трупов казнённых. (Впоследствии Я. М. Юровский будет категорически отрицать этот факт, сваливая всю ответственность за провал «первичного захоронения» на П. З. Ермакова и М. А. Медведева (Кудрина).)
Около 9–10 часов утра 16 июля 1918 года в дом Ипатьева прибыл Ф. И. Голощёкин, который, переговорив с Я. М. Юровским о предстоящем расстреле, распорядился ближе к вечеру удалить из дома поварёнка Леонида Седнева. Однако сделать это так, чтобы Романовы ничего не заподозрили. А, кроме того, он уведомил коменданта о совещании Коллегии УОЧК, назначенном на вторую половину этого же дня (приблизительно, на 16 часов по местному времени), которое будет проходить в комнате № 3 бывшей «Американской гостиницы».
В назначенное время в этой комнате собрались все члены Коллегии УОЧК: В. М. Горин, М. А. Медведев (Кудрин) и И. И. Родзинский (за исключением И. Я. Кайгородова) во главе с Председателем УОЧК Ф. Н. Лукояновым. Помимо них на этом же совещании присутствовали практически все члены постоянного Президиума Исполкома Уральского Облсовета: А. Г. Белобородов, Г. И. Сафаров, Ф. И. Голощёкин, а также комиссары П. Л. Войков и П. З. Ермаков.
Первым взял слово А. Г. Белобородов, который довёл до сведения собравшихся вынесенное накануне решение расширенного Президиума Исполкома Уральского Облсовета, постановившего расстрелять всю Царскую Семью на территории дома Ипатьева.
Поддержав мнение Президиума Исполкома Уральского Областного Совета, члены Коллегии УОЧК и Ф. Н. Лукоянов внесли встречное предложение о расстреле не только членов Царской Семьи, но и всех находящихся при Ней слуг, сделав исключение лишь для Поварского ученика Леонида Седнева – ввиду его «несознательного возраста».
Члены Президиума полностью поддерживают это решение своих товарищей, о чём А. Г. Белобородов делает соответствующую пометку в своей записной книжечке, после чего участники совещания переходят к обсуждению кандидатур непосредственных участников готовящейся акции. Причём, Ф. И. Голощёкин просит собравшихся чекистов не начинать «исторический акт возмездия» без его присутствия, так как он хочет сам лично принять в нём непосредственное участие[70].
Главными лицами, ответственными за проведение акции, назначаются Комендант ДОН Я. М. Юровский и его помощник Г. П. Никулин. А ответственными за вывоз и тайное захоронение трупов казнённых: М. А. Медведев (Кудрин) (как представитель УОЧК) и П. З. Ермаков (как представитель Красной Гвардии и человек, хорошо знающий городские окрестности).
К началу обсуждаемого совещания комендант Я. М. Юровский, казалось, предусмотрел всё. А к самому главному событию в своей жизни он стал готовиться с особой тщательностью ещё за несколько дней до предстоящего расстрела. То есть с того момента, когда на расширенном Президиуме Исполкома Уральского Областного Совета было принято решение о ликвидации всех Романовых. Однако в ходе подготовки к акции у него возникли серьёзные осложнения. Ведь поначалу он рассчитывал отобрать необходимое ему для этой цели количество людей из числа своих коллег – наиболее надёжных сотрудников УОЧК. Но, к его большому удивлению, поиски добровольцев не принесли желаемого результата, поскольку каждый сотрудник, к которому Я. М. Юровский обращался с подобным предложением, не проявлял на сей счёт должного энтузиазма и старался под любым предлогом отказаться от этой «почётной миссии».
Исключение составил лишь А. Я. Биркенфельд (настоящая фамилия – А. Т. Паруп), хорошо знакомый М. А. Медведеву (Кудрину) по совместной подпольной работе в нелегальном Профессиональном Союзе моряков Каспийского торгового флота и 1-й Бакинской Городской группы РСДРП. (Пребывание этого человека в компании цареубийц отнюдь не случайно и имеет свою историю, о которой нельзя не упомянуть.)
Август Тенисович Паруп (известный также под именем Арнольд Янов Биркенфельд) в мае 1918 года был членом Коллегии Продовольственно-Торгового Отдела Восточной Сибири и членом Исполкома Иркутского Совдепа. Выехав по служебной надобности в Москву в мае 1918 года и пробыв там некоторое время, он отправился назад, однако не смог возвратиться в Иркутск в связи со стихийно возникшим мятежом Отдельного Чехословацкого Корпуса.
Добравшись до Екатеринбурга, А. Я. Биркенфельд обращается за помощью к своему старому другу М. А. Медведеву (Кудрину), который, уже как член Коллегии УОЧК, рекомендует его для чекистской работы Я. М. Юровскому и Ф. Н. Лукоянову. С первых дней их знакомства между Я. М. Юровским и А. Т. Парупом завязываются дружеские отношения, укреплению которых в немалой степени способствует проживание последнего на квартире своего нового товарища.
Исходя из сказанного, не приходится удивляться тому, что А. Т. Паруп, конечно же, дал своё принципиальное согласие на предложение Я. М. Юровского принять личное участие в расстреле Царской Семьи или быть свидетелем такового в зависимости от обстоятельств. (Кандидатура А. Я. Биркенфельда первоначально не планировалась для участия в этой акции и поэтому не обсуждалась на совещании, состоявшемся 16 июля в помещении бывшей «Американской гостиницы».)
Таким образом, к моменту этого совещания в распоряжении Я. М. Юровского было только четыре человека, которые добровольно пожелали стать палачами. Вот их имена:
• Я. М. Юровский – Комендант ДОН;
• М. А. Медведев (Кудрин) – член Коллегии УОЧК;
• П. 3. Ермаков – Военный комиссар Верх-Исетского района;
• А. Я. Биркенфельд (А. Т. Паруп) – сотрудник УОЧК.
Еще двух человек (членов Коллегии УОЧК: В. М. Горина и И. И. Родзинского) Я. М. Юровский, вероятнее всего, рассчитывал привлечь прямо по ходу самого совещания, учитывая (несмотря на формальную добровольность участия в этой акции) практическую невозможность их отказа в подобной ситуации. Однако упомянутые товарищи всё же сумели отклонить столь «лестное» для них предложение коменданта, сославшись на мероприятия, связанные с арестами членов некой подпольной офицерской организации, намеченные ими заранее в целях предотвращения с их стороны возможных выступлений и провокаций в день проведения казни Царской Семьи.
В подобной ситуации у Я. М. Юровского не оставалось другого выхода, как предложить на этом совещании кандидатуру своего помощника Г. П. Никулина, а также Начальника караула П. С. Медведева. Но и такая ситуация, как ни странно, устраивала Я. М. Юровского, который и в этом случае всегда смог бы сказать о том, что ещё заранее намеревался привлечь к расстрелу Царской Семьи некоторых лиц, состоявших во внутреннем карауле или в так называемой Особой охране ДОН. Но данное положение вещей осложнялось всё же тем, что таковые пока ещё не были намечены, а имевшееся в его распоряжении количество «добровольцев» явно не соответствовало только что согласованному плану истребления Романовых.
Встречаясь с писателем Э. С. Радзинским в начале 90-х, сын М. А. Медведева (Кудрина) – историк-архивист М. М. Медведев рассказал:
«Отец говорил, что в “Американской гостинице” в эти дни было совещание. Его проводил Яков Юровский. Участие в расстреле было добровольным. И добровольцы собрались в его номере… Договорились стрелять в сердце, чтобы не страдали. И там же разобрали – кто кого. Царя взял себе Петр Ермаков. У него были люди, которые должны были помочь тайно захоронить трупы.
И главное, Ермаков был единственный среди исполнителей политкаторжанин. Отбывавший каторгу за революцию!
Царицу взял Юровский, Алексея – Никулин, отцу досталась Мария. Она была самая высоконькая»[71].
Распределив роли, члены Президиума разъехались, а намеченные исполнители задержались на некоторое время в комнате Я. М. Юровского, чтобы уточнить некоторые детали.
16 июля 1918 года в 17 час. 50 мин. по московскому времени (значит, в 19 час. 50 мин. по местному) на имя В. И. Ленина и Я. М. Свердлова полетела телеграмма, в тексте которой сообщалось, что условленный с «Филиппом» суд более нельзя откладывать по военным обстоятельствам, а также с просьбой телеграфировать, что если их мнение противоположно, незамедлительно сообщить об этом – вне всякой очереди. То есть, наиболее близкие к В. И. Ленину люди: Ф. И. Голощёкин и Г. И. Сафаров – которых он знал лично и которым доверял, подписав эту телеграмму, уведомляли Ленина и Свердлова, что для убийства Царской Семьи всё готово, и что требуется лишь их окончательное согласие[72]. Но из-за того, что не работала прямая связь с Москвой, телеграмма эта сначала поступила в Петроград на имя Председателя Петроградской Трудовой Коммуны Г. Е. Зиновьева (время принятия: 21 час. 22 мин.) и лишь оттуда была передана означенным адресатам в Москву.
Время, когда эта телеграмма была получена в Москве, до сих пор не установлено, однако, думается, что она попала на стол В. И. Ленину или Я. М. Свердлову не ранее 23 часов.
Ответ уральцам был составлен и отослан немедленно, однако текст его не сохранился. Зато сохранилось одно важное свидетельство, для чего автор ещё раз позволит себе обратиться к книге Э. С. Радзинского:
«11 августа 1957 года в “Строительной газете” был напечатан очерк под названием “По ленинскому совету”. Вряд ли много читателей было у статьи с подобным названием. И зря – очерк был самый что ни на есть прелюбопытнейший.
Героем его был некто Алексей Федорович Акимов – доцент Московского архитектурного института. У Акимова было заслуженное революционное прошлое, о котором и писал автор очерка. С апреля 1918 года по июль 1919-го Алексей Акимов служил в охране Кремля – вначале он охранял Я. М. Свердлова, а затем – В. И. Ленина.
И вот газета рассказывает случай, произошедший с Акимовым летом 1918 года…
«Чаще всего он стоял на посту у приемной В. И. Ленина или на лестнице, которая вела в его кабинет. Но иногда ему приходилось выполнять и другие поручения. Мчаться, например, на радиостанцию или телеграф и передавать особо важные ленинские телеграммы. В таких случаях он увозил обратно не только подлинник телеграммы, но и телеграфную ленту. И вот после передачи одной из таких телеграмм Ленина телеграфист сказал Акимову, что ленту он не отдаст, а будет хранить у себя. “Пришлось вынуть пистолет и настоять на своем”, – вспоминает Акимов. Но когда через полчаса Акимов вернулся в Кремль с подлинником телеграммы и телеграфной лентой, секретарь Ленина многозначительно сказала: “Пройдите к Владимиру Ильичу, он хочет вас видеть”.
Акимов вошел в кабинет бодрым военным шагом, но Владимир Ильич строго остановил: “Что ж вы там натворили, товарищ? Почему угрожали телеграфисту? Отправляйтесь на телеграф и публично извинитесь перед телеграфистом”».
В этом очерке, в который раз свидетельствовавшем о чуткости вождя нашей революции, была одна очень странная деталь: ни слова не говорилось, о чем была эта “особо важная телеграмма”, которую, угрожая револьвером, отнимал у телеграфиста Алексей Акимов.
Из письма Н. П. Лапика, директора музея завода «Прогресс» (Куйбышев):
«Есть у нас в музее машинописная запись беседы А. Ф. Акимова с А. Г. Смышляевым, ветераном нашего завода, занимавшимся поисками материалов по его истории.
В протокольной записи этой беседы, состоявшейся 19 ноября 1968 года, со слов А. Ф. Акимова записано следующее:
«Когда тульский (ошибка в записи. – уральский. – Авт.) губком решил расстрелять семью Николая, Совнарком и ВЦИК написали телеграмму с утверждением этого решения. Я. М. Свердлов послал меня отнести эту телеграмму на телеграф, который помещался тогда на Мясницкой улице. И сказал: “Поосторожней отправляй”. Это значило, что обратно надо было принести не только копию телеграммы, но и ленту.
Когда телеграфист передал телеграмму, я потребовал от него копию и ленту. Ленту он мне не отдавал. Тогда я вынул револьвер и стал угрожать телеграфисту. Получив от него ленту, я ушел. Пока шел до Кремля, Ленин уже узнал о моем поступке. Когда пришел, секретарь Ленина мне говорит: “Тебя вызывает Ильич, иди, он тебе сейчас намоет холку”…»[73].
Таким образом, мы знаем, что ответ В. И. Ленина и Я. М. Свердлова был послан в Екатеринбург в районе полуночи 16 июня 1918 года. То есть в то время, когда в Екатеринбурге было около двух часов ночи. (Этим и объясняется задержка с убийством Романовых, намеченным к выполнению ещё 16 июля.)
И, тем не менее, дав, что называется, легальную отмашку на убийство Царской Семьи, В. И. Ленин, получив всего несколькими часами ранее телеграмму из Копенгагена от редакции газеты «NationalTidende», в которой высказывалась обеспокоенность слухами об убийстве Государя, цинично ответил, что всё это ни на чём не основанная «…ложь капиталистической прессы»[74].
Получив из Перми телеграмму (телефонограмму) на условном языке, властители «Красного Урала» расправились с Романовыми, после чего в 12 часов дня 17 июля 1918 года отослали в центр телеграмму следующего содержания:
«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА ЛЕНИНУ. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЦИК ТОВ. СВЕРДЛОВУ.
У АППАРАТА ПРЕЗИДИУМ [УРАЛЬСКОГО] ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ВВИДУ ПРИБЛИЖЕНИЯ НЕПРИЯТЕЛЯ К ЕКАТЕРИНБУРГУ И РАСКРЫТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИЕЙ БОЛЬШОГО БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ЗАГОВОРА (ДОКУМЕНТЫ В НАШИХ РУКАХ), ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА В НОЧЬ НА 16-Е ИЮЛЯ (так в документе. – Ю. Ж.) РАССТРЕЛЯН НИКОЛАЙ РОМАНОВ. СЕМЬЯ ЭВАКУИРОВАНА В НАДЁЖНОЕ МЕСТО.
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НАМИ ВЫПУСКАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ:
“ВВИДУ ПРИБЛИЖЕНИЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ БАНД К КРАСНОЙ СТОЛИЦЕ УРАЛА И ВОЗМОЖНОСТИ ТОГО, ЧТО КОРОНОВАННЫЙ ПАЛАЧ ИЗБЕЖИТ НАРОДНОГО СУДА (РАСКРЫТ ЗАГОВОР БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ, ПЫТАВШИХСЯ ПОХИТИТЬ ЕГО, И НАЙДЕНЫ КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ), ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПОСТАНОВИЛ РАССТРЕЛЯТЬ БЫВШЕГО ЦАРЯ Н. РОМАНОВА, ВИНОВНОГО В БЕСЧИСЛЕННЫХ КРОВАВЫХ НАСИЛИЯХ ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА. В НОЧЬ НА 16 ИЮЛЯ 1918 годА ПРИГОВОР ПРИВЕДЁН В ИСПОЛНЕНИЕ. СЕМЬЯ РОМАНОВЫХ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ ВМЕСТЕ С НИМ ПОД СТРАЖЕЙ, В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭВАКУИРОВАНА ИЗ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА. ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА”.
ДОКУМЕНТЫ О ЗАГОВОРЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ СРОЧНО КУРЬЕРОМ СОВНАРКОМУ И ЦИК.
ПРОСИМ ОТВЕТ ЭКСТРЕННО. ЖДЁМ У АППАРАТА»[75].
Ответ Я. М. Свердлова не замедлил себя ждать и был весьма лаконичен:
«СЕГОДНЯ ЖЕ ДОЛОЖУ О ВАШЕМ РЕШЕНИИ ПРЕЗИДИУМУ ВЦИК. НЕТ СОМНЕНИЯ, ЧТО ОНО БУДЕТ ОДОБРЕНО»[76].
И, надо сказать, что он не ошибся: в своём Постановлении от 18.07.1918 г. «ВЦИК в лице своего Президиума признаёт решение Уральского областного Совета правильным»[77].
Однако была ещё одна шифрованная телеграмма, направленная на имя секретаря Совнаркома Н. П. Горбунова (понимай, для В. И. Ленина), текст которой следователь Н. А. Соколов смог узнать при помощи специалиста лишь в сентябре 1920 года:
«КРЕМЛЬ. СЕКРЕТАРЮ СОВНАРКОМА ГОРБУНОВУ [С] ОБРАТНОЙ ПРОВЕРКОЙ.
ПЕРЕДАЙТЕ СВЕРДЛОВУ, ЧТО ВСЁ СЕМЕЙСТВО ПОСТИГЛА ТА ЖЕ УЧАСТЬ, ЧТО И ГЛАВУ. ОФИЦИАЛЬНО СЕМЬЯ ПОГИБНЕТ ПРИ ЭВАКУАЦИИ. БЕЛОБОРОДОВ»[78][79].
Сообщить официально о расстреле всей Царской Семьи центральная власть тогда побоялась, видимо, опасаясь неадекватной реакции со стороны россиян. Но сообщение о расстреле Государя впервые было опубликовано в газете «Известия ВЦИК» 19 июля 1918 года.
В настоящее время исследователям неизвестны какие-либо документы, подтверждающие причастность В. И. Ленина к этому преступлению. А, между тем, таковая не подлежит сомнению. И, причём, в роли «первой скрипки»!
Ведь на этот счёт имеется не только свидетельство М. А. Медведева (Кудрина) и ещё одного Члена Коллегии Уральской ОблЧК – И. И. Родзинского, но и, по сути, второго человека в государстве – Л. Д. Троцкого, который в своём «Дневнике в изгнании» за 9 апреля 1935 года писал:
«Белая печать когда-то очень горячо дебатировала вопрос, по чьему решению была предана казни царская семья… Либералы склонялись как будто к тому, что уральский исполком, отрезанный от Москвы, действовал самостоятельно. Это неверно. Постановление вынесено было в Москве. Дело происходило в критический период гражданской войны, когда я почти всё время проводил на фронте, и мои воспоминания о деле царской семьи имеют отрывочный характер. Расскажу здесь, что помню.
В один из коротких наездов в Москву, – думаю, что за несколько недель до казни Романовых, – я мимоходом заметил в Политбюро, что ввиду плохого положения на Урале следовало бы ускорить процесс царя. Я предлагал открытый судебный процесс, который должен был развернуть картину всего царствования… по радио ход процесса должен был передаваться по всей стране; в волостях отчёты о процессе должны были читаться и комментироваться каждый день. Ленин откликнулся в том смысле, что это было бы очень хорошо, если бы было осуществимо. Но… времени может не хватить… Прений никаких не вышло, так я на своём предложении не настаивал, поглощённый другими делами. Да и на Политбюро нас, помнится, было трое-четверо: Ленин, я, Свердлов… Каменева, как будто, не было… Ленин в тот период был настроен довольно сумрачно, не очень верил тому, что удастся построить армию… Следующий мой приезд в Москву выпал уже после падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом:
– Да, а где царь?
– Кончено, – ответил он, – расстрелян.
– А семья где?
– И семья с ним.
– Все? – спросил я, по-видимому, с оттенком удивления.
– Все! – ответил Свердлов, – а что?
Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.
– А кто решал? – спросил я?
– Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставить нам им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях.
Больше я никаких вопросов не задавал, поставив на деле крест. По существу, решение было не только целесообразно, но и необходимо. Суровость расплаты показывала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна была не просто для того, чтоб запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди полная победа или полная гибель. В интеллигентных кругах партии, вероятно, были сомнения и покачивания головами. Но массы рабочих и солдат не сомневались ни минуты: никакого другого решения они не поняли бы и не приняли бы. Это Ленин хорошо чувствовал: способность думать и чувствовать массу и с массой была ему в высшей мере свойственна, особенно на великих политических поворотах…»[80].
Когда Лейба Троцкий писал эти строки, то, безусловно, лукавил: ведь он, как говорится, спал и видел себя главным обвинителем на этом процессе. А тут такая незадача… К тому же, он говорит и явную неправду, так как накануне убийства Царской Семьи он из Москвы, практически, не выезжал и даже 18 июля 1918 года присутствовал на заседании Совнаркома, на котором Я. М. Свердлов сделал «внеочередное сообщение» о расстреле бывшего Царя и на котором было решено оное «принять к сведению»[81].
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
38
Это утверждал Ф. Энгельс в своём письме к А. Зорге от 10 ноября 1894 года:
«(…) Что касается прочих мировых событий – смерть русского царя, вероятно повлечет за собой перемену либо в результате движения внутри страны, либо из-за финансовой нужды и невозможности получить деньги за границей.
Не могу себе представить, чтобы теперешняя система пережила смену монарха, в результате которой придет к власти идиот, и морально и физически расслабленный онанизмом! (Этот факт известен во всех медицинских факультетов.) Профессор Краузе из Дерпта (ныне – Тарту. – Ю. Ж.), который пользовал Николая по желанию царя Александра, указал на онанизм как на непосредственную причину болезни, за что и получил от царя пощечину; тогда он подал в отставку, вернул посланный ему вдогонку орден Владимира и возвратился в Германию, где рассказал всю эту историю.) Но если заварится каша в России, то и молодому Вильгельму доведется увидеть кое-что новое. Тогда над всей Европой повеет моральный ветер, который теперь может быть нам только кстати».
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. Издательство политической литературы, М., 1966, т. 39, стр. 259.
39
Ленин В. И. ПСС, т. 34, стр. 35, 56, 59, 66, 285 и др.
40
Там же, т. 32, стр. 97, 186; т. 36, стр. 85, 215, 269, 362.
41
Журнал «Тридцать дней», 1934, № 1, стр. 19.
42
Российский Архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX в.в. Выпуск VIII. Н. А. Соколов. Предварительное следствие 1919–1922 г.г. (Сборник документов). Составитель Л. А. Лыкова. М., Студия ТРИТЭ, Издательство «Российский Архив», 1998, стр. 268, 269.
43
Соколов Н. А. Убийство Царской Семьи. М., Издательство «Сирин», 1990, стр. 139.
44
В соответствии с Брест-Литовскими соглашениями на оккупацию на часть Украины немецкими войсками, находящаяся в Крыму Вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна находилась там вместе со своими дочерьми: Великой Княгиней Ольгой Александровной и Великой Княгиней Ксенией Александровной, которая была замужем за Великим Князем Александром Михайловичем. В то же самое время в Крыму вместе со своей супругой Великой Княгиней Милицей Николаевной проживал Великий Князь Петр Николаевич, который 11 апреля 1919 года вместе с Вдовствующей Императрицей и остальными Романовыми покинул Кореиз на английском крейсере «Мальборо».
45
Запись беседы с Г. П. Никулиным в Радиокомитете 13 мая 1964 года. Опубл.: Исповедь цареубийц, стр. 213.
46
Телеграмма за подписью В. Д. Бонч-Бруевича за № 2729 от 20.06.1918 г. была принята в Екатеринбурге 23.06.1918 г.
47
Берзин Р. И. Дорожные заметки (Декабрь 1921 – январь 1922). Опубл.: в журнале «Вопросы истории КПСС» № 12, 1963.
48
В этом письме А. А. Иоффе, в частности, писал:
«(…) Невозможно работать, если не знать, что происходит в России. (…) Что делается с бывшим царём? (…) …почти не сомневаюсь в том, что его убьют, ибо на Урале германофобское настроение. Необходимо, что на случай, если что-нибудь, действительно, произойдёт, мы могли бы опубликовать вполне убедительный материал, доказывающий нашу непричастность».
РГАСПИ Ф. 5, оп. 1, д. 2134, л. 18–19. Подлинник.
Позднее в своих воспоминаниях А. А. Иоффе писал, что при разговоре с Дзержинским последний рассказал ему о категорическом запрете Ленина говорить кому бы то ни было правду о расстреле царя, а конкретно – А. А. Иоффе: «чтобы ему там легче было врать».
49
Подробнее об этом см. в главе «О некоторых вопросах «Романовской темы», Ю. А. Жук. Гибель Романовых. По следам неразгаданных тайн, М., ООО «Издательский дом «Вече», 2009.
50
Ю. А. Жук. Гибель Романовых. По следам неразгаданных тайн. М., ООО «Издательский дом «Вече», 2009, стр. 32.
51
Из протокола заседания Президиума ВЦИК от 19.05.1918 г.:
«(…) Тов. Свердлов сообщает, что в Президиуме [В]ЦИК стоит вопрос о дальнейшей участи Николая, тот же вопрос ставят уральцы и с[оциал]-р[еволюционер]ы. Необходимо решить, что делать с Николаем.
Принимается решение не предпринимать пока ничего по отношению к Николаю, озаботившись лишь принятием необходимых мер предосторожности. Переговорить об этом с уральцами поручается Свердлову».
«Известия ЦК КПСС», 1989, № 4, стр. 147.
52
МакНил Ш. Секретный план спасения царской семьи. М., ООО «Издательство Астрель», 2006, стр. 114.
53
Там же.
54
Там же, стр. 116.
55
Российский Архив. Выпуск IV.
56
С 1939 года – город Серов, названный так в честь уроженца этого города Героя Советского Союза А. К. Серова – прославленного лётчика, трагически погибшего во время испытательных полётов.
57
Полк вступил в бой, плохо ориентируясь на местности, что в немалой степени и послужило причиной его гибели.
58
К примеру, именно так был спасён из китайского плена правитель Монголии Джебузун-дамба-хутухта во время наступления Азиатской дивизии Р. Унгерна на Ургу.
59
Суворов Д. В. Неизвестная гражданская война. Екатеринбург, Издательский дом «Пакрус», 1999, стр. 24.
60
Используя в названии своей книги слова из дневника Государя, написанные им по случаю начала смуты 1905–1907 года, Э. С. Радзинский воспользовался одним из эмигрантских изданий, изданном сначала на немецком языке, а затем переведённого вновь на русский. В силу этого и возникла ошибка перевода: вместо слова «умири» было напечатано «усмири», что, в принципе, меняет смысл написанного.
61
Медведев-Кудрин М. А. Расстрел Царской Семьи РОМАНОВЫХ в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года (воспоминания участника расстрела). РГАСПИ. Ф. 588, оп. 3, д. 12, л.л. 40–58. Опубл.: Исповедь цареубийц. Убийство Царской Семьи в материалах Предварительного Следствия и в воспоминаниях лиц, причастных к совершению этого преступления. Автор-составитель Ю. А. Жук. ООО «Издательский дом «Вече», М., 2008, стр. 184, 185.
62
Белобородов А. Г. Из воспоминаний. ГАРФ. Ф. 601, оп. 2, д. 56, л.л. 1–25. Опубл.: в сокращ. Авдонин А. Н. В жерновах революции. Документальный очерк о комиссаре В. В. Яковлеве. Екатеринбург, Банк культурной информации, 1995, стр. 204.
63
ГАРФ. Ф. 130, оп. 23, д. 7, л. 170 (а). Заверенная копия. Опубл.: Скорбный путь Романовых 1917–1918 г.г. Гибель Царской Семьи. Сборник документов и материалов. М., Издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001, стр. 132.
64
Там же. Д. 8, л. 204. Заверенная копия. Опубл.: Там же, стр. 133.
65
Там же. Ф. 353, оп. 2, д. 835, л. 86. Опубл.: Буранов Ю. А., Хрусталёв В. М. Гибель императорского дома. М., Издательство «Прогресс», стр. 251.
66
Бочкарёв Б. И. Грозой мощёные дороги. М., Издательство политической литературы, 1985, стр. 138, 139.
67
Беседовский Г. З. На путях к термидору. (Серия «Жестокий век: Кремлёвские тайны») М., Издательство «Современник», 1997, стр. 111–113.
68
Белобородов А. Г. Указ. соч. Опубл.: Сенин Ю. И. Подлинная судьба Николая II или Кого убили в Ипатьевском доме. М., ООО «Алгоритм-книга», 2010, стр. 457, 458.
69
Запись беседы с Родзинским И. И. в Комитете по Радиовещанию при Совете Министров СССР 15 мая 1964 года. РГАСПИ. Ф. 588, оп. 1, д. 13, л.л. 1–48. Опубл.: Исповедь цареубийц, стр. 419.
70
Об этом обстоятельстве автору рассказал М. М. Медведев, который, в свою очередь, знал об этом со слов своего отца.
71
Радзинский Э. С. Господи… спаси и усмири Россию! Николай II: жизнь и смерть. М., Издательство «Вагриус», 1993, стр. 399, 400.
72
Дословно текст телеграммы выглядел следующим образом:
«из екатеринбурга по прямому проводу передают сообщение: “сообщите [в] москву ЧТО УСЛОВЛЕННОГО С ФИЛИППОВЫМ (правильно «Филиппом». – Ю. Ж.) СУДА ПО ВОЕННЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА ЖДАТЬ НЕ МОЖЕМ. ЕСЛИ ВАШИ МНЕНИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНЫ СЕЙЧАС ЖЕ ВНЕ ВСЯКОЙ ОЧЕРЕДИ СООБЩИТЕ. ГОЛОЩЁКИН. САФАРОВ”.
СНЕСИТЕСЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ САМИ С ЕКАТЕРИНБУРГОМ.
ЗИНОВЬЕВ.»
ГАРФ. Ф. 130, оп. 2, д. 653, л. 12. Телеграфный бланк. Опубл.: Скорбный путь Романовых 1917–1918 г.г. Гибель Царской Семьи. Сборник документов и материалов, стр. 222, 223.
73
Радзинский Э. С. Указ. соч., стр. 403, 404.
74
Эту телеграмму В. И. Ленин получил в 13 час. 27 мин. 16 июля 1918 года. РГАСПИ. Ф. 2, оп. 1, д. 6601, л. 1. Подлинник. Перевод с англ. яз. Опубл.: Скорбный путь Романовых 1917–1918 г.г. Гибель Царской Семьи. Сборник документов и материалов, стр. 222.
75
ГАРФ. Ф. 601, оп. 2, д. 27, л.л. 8–9. Телеграфный бланк. Опубл.: Скорбный путь Романовых 1917–1918 г.г. Гибель Царской Семьи. Сборник документов и материалов, стр. 223, 224.
76
Воробьёв В. А. Конец Романовых (Из воспоминаний). Журнал «Прожектор» № 29 (147), 1928, стр. 26.
77
Протокол № 1 заседания Президиума ВЦИК от 18.07.1918 г. ГАРФ. Ф. 1235, оп. 28, д. 24, л. 1. Подлинник. Опубл.: Скорбный путь Романовых 1917–1918 г.г. Гибель Царской Семьи. Сборник документов и материалов, стр. 224, 225.
78
Дословно текст телеграммы выглядел следующим образом:
«ПЕРЕДАЙТЕ СВЕРДЛОВУ ЧТО ВСЕ СЕМЕЙСТВО ПОСТИГЛА ТАЖЕ УЧАСТЬ ЧТО И ГЛАВУ. ОФФИЦИАЛЬНО СЕМИЯ ПОГИБНЕТ ПРИ ЕВАКУАЦИИ».
79
Соколов Н. А. Убийство Царской Семьи. М., Совместное итало-советское издательство «Сирин», 1990, стр. 309, 310.
80
Троцкий Л. Д. Дневники и письма. М., Издательство гуманитарной литературы, 1994, стр. 117, 118.
81
Протокол № 159 заседания СНК Р.С.Ф.С.Р. от 18.07.1918 г. РГАСПИ. Ф. 19, оп. 1, д. 158, л. 8. Подлинник. Опубл.: Скорбный путь Романовых 1917–1918 г.г. Гибель Царской Семьи. Сборник документов и материалов, стр. 225.