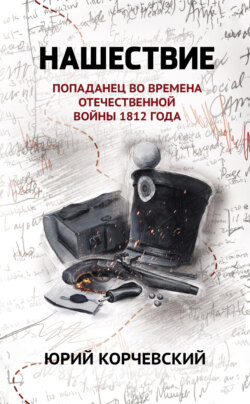Читать книгу Нашествие. Попаданец во времена Отечественной войны 1812 года - Юрий Корчевский, Юрий Григорьевич Корчевский - Страница 3
Глава 2. Вторжение
ОглавлениеВесной в городе только центральные улицы, мощенные булыжником, остались проезжими. Да еще по тротуарам можно пройти, где они дощатые или из дубовых плашек. На остальных улицах грязь непролазная. Передвижение только по острой необходимости. Кремль и вокруг него, до стен Белого города, вполне проходим. Да почти во всех городах империи так: где губернатор или городской голова, там в штиблетах пройти можно, а через два квартала сапоги вязнут до середины голенища. Но солнце пригревало, земля стала подсыхать, уже и дороги для подвод проезжими стали. Через две-три недели трава полезла.
В полку полевые занятия возобновились. В полдень на одноколке подполковник приехал, да не один, с дочерью. Одноколка – эдакий экипаж на двух человек об одной оси. Алексеев сам экипажем управлял, для извозчика места нет. Легок такой экипаж, маневрен, лошадка тащит его без устали. Дочке лет четырнадцать-пятнадцать. Видимо, напросилась у отца полк посмотреть. Егеря рады стараться: грудь вперед, приемы с ружьями лихо исполняют, любо-дорого посмотреть. Подполковник сошел, дочка медленно дальше поехала. На полигоне постоянно отирались две собачонки, повара зачастую их подкармливали – то косточек бросят, то остатки щей из котла. Что им в голову пришло? А только кинулись к лошади, стали за ноги кусать. Лошадь и понесла. Девчонка в испуге в ручку вцепилась, чтобы не вывалиться из экипажа, собаки лают остервенело, лошадь всхрапывает. Егеря замерли. От места остановки экипажа до Алексея шагов двести, и лошадь в его сторону несется. Кинулся он наперерез. И лошадь остановить надо, и под копыта не попасть, иначе калекой быть. У лошади триста пятьдесят – четыреста килограмм веса плюс скорость, копыта железом кованы. Мало не покажется. Ухитрился подбежать к левому боку, левой рукой за оглоблю ухватился, подпрыгнул, вскочив на круп лошади. Уздцы натянул с такой силой, что лошадь голову вверх задрала.
– Тпру, милая!
И по шее оглаживает. Кобыла молодая, резвая, но пугливая. Ход сбавлять стала да и остановилась. Алексей с лошади спрыгнул, собачонку гавкучую пнул, что она завизжала, поджала хвост и убежала.
– Барышня, вы как? – обратился к дочке подполковника Алексей.
А та бледна, в глазах страх. К коляске уже подполковник бежит, за ним несколько офицеров. Прапорщик Северянов пистолет из кобуры вытащил, в собаку стрельнул, да мимо. Пуля выбила фонтанчик земли рядом, собака от звука выстрела бросилась убегать. Алексеев к дочке кинулся:
– Цела? Все хорошо? Немедля распоряжусь псов пострелять!
Заскочил подполковник в коляску, обнял дочь. Та от шока отходить стала, заплакала, ее всю трясло. Северянов повернулся к офицерам:
– Господа, все обошлось прекрасным образом, расходитесь.
Собственно, и Алексею торчать здесь не след. Лошадь уже смирно стоит, но ногами нервно перебирает. Тоже испугалась. Лошади вообще пугливы по природе. Слышат хорошо, поэтому от громкого звука занервничать могут. И обоняние отличное, как у собаки. Ежели дом в нескольких верстах – лошадь учует, дорогу найдет. И если по лесу идет, то близкое присутствие волков почувствует, всхрапывать начнет, коситься на лесную чащу. Тут уж путникам не зевать: оружие готовить, факелы зажигать. Любой зверь огня боится пуще всего.
Алексей к себе во взвод пошел, продолжать занятия. Углов покосился, но ничего не сказал. Все видели, что он бросился лошадь остановить, а не от дела отлынивать.
Ближе к вечеру, уже после ужина, вестовой вызвал его в штаб к Алексееву. Вошел Алексей, доложился по форме.
– Садись. Благодарность хочу тебе высказать за дочь. Народа вокруг полно было, а бросился ты один.
– Наверное, ближе других был.
– А то я не видел! Кто-то не сообразил сразу, бывает. А некоторые и струсили. Случись травма и инвалидность, пансиона не будет, ибо не на войне или учениях травма получена. Понимаю: своя рубашка ближе к телу. Но и твое геройство отметить хочу. В воскресенье приглашаю на обед в три часа пополудни. От караулов освобожу.
– Благодарю.
Подполковник протянул листок бумаги с адресом.
– Лизавета лично хочет яблочный пирог испечь.
– Обязательно буду, господин подполковник!
– Не на службе можете называть меня Павел Яковлевич.
О! Такое редко бывает. Между Алексеем и подполковником дистанция огромного размера. Рядовой егерь, не дворянин, без ратных подвигов и наград – и командир полка. У него и боевой опыт, и награды, по словам офицеров. Это честь. Алексей поклонился и вышел. Спина не переломится, а командиру уважение.
Через два дня воскресенье. С утра в церковь на молитву, потом завтрак – каша гречневая с маслом и стаканом молока. Основная еда – в обед. А на него не попадает Алексей. Приглашен к трем, а обед в два часа. Так до адреса еще добраться надо. У егерей из местных узнал, где Басманная да как туда сподручнее добраться. Наручные часы у него были, но он или носил их в кармане, или оставлял в мешке с имуществом. У офицеров часы были, уже не диковинка. Но карманные – большие, с крышечкой, прикрывающей стекло, с боем. И не отечественного производства, а швейцарские или германские. Надень Алексей свои часы на руку, будут вопросы: что за диковина? Не хотелось ему привлекать к себе внимание. Сегодня часы лежали в кармане. Пока добрался, сорок минут ушло, хотя шел быстро. Вот и нужный дом – в два этажа, каменный, за высоким забором. Подполковник – звание высокое и жалование соответствующее. Немного подождал. Когда на часах было без одной минуты три, постучал в ворота. Открыл привратник.
– Приглашен к Павлу Яковлевичу.
Привратник поклонился:
– Проходите.
В просторных сенях встретила прислуга, проводила в гостиную. А там стол накрыт, и сам хозяин в углу в кресле сидит. Встал, гостя поприветствовал, прислуге наказал пригласить домочадцев. Вскоре со второго этажа спустились супруга, дочь и малолетний, лет пяти, сын. Поздоровались степенно. Было занятно, что приняли с уважением.
Уселись за стол. Для гостя – место по правую руку от хозяина, по левую – супруга. Левая считается ближе к сердцу, законное место второй половины. Подполковник сам плеснул в лафитники водки, супруге – вина.
– Спасибо, что дочь спас.
Коротко и четко. Чокнулись, выпили, принялись за закуски. Алексей сомневался, что у Павла Яковлевича каждый день такая трапеза. Тройная уха, да еще на блюде копченая белорыбица. Небольшой поросенок, изжаренный в печи целиком. Да соленые огурцы, капустка, немного дальше – нарезанный ломтями хлеб. После ухи еще по лафитнику выпили, теперь уже за здравие и долгие лета Елизаветы. Затем Павел Яковлевич нарезал поросенка, лучший кусок положил в тарелку Алексею. А к поросенку – и хрен, и горчица, да ядреные, слезу вышибают. Вкусно! Даже в московской квартире с Натальей такого поросенка не пробовали. Печь русская нужна да опыт. Ну и молочный поросенок. После третьей рюмки разговорились. Павел Яковлевич стал про военные походы рассказывать, да, видимо, не в первый раз. Супруга с сыном извинились и ушли. Еще после одного лафитника Алексей стал смешные случаи рассказывать. Понято – сообразно случаю, без скабрезностей и без деталей двадцать первого века. Мало того что не поймут, так еще вопросы задавать будут. И хозяин, и его дочь смеялись от души. Немного передохнув, принялись пить чай. Слуги внесли большой самовар, следом несколько блюд – с пирожками с разнообразной начинкой и яблочным пирогом. О! Вкуснятина! Давно так сытно и вкусно Алексей не ел. Но гость хорош, когда быстро уходит. Поблагодарил Алексей хозяина и откланялся.
А через пару дней приказ по полку: присвоить Терехину чин капрала и назначить в первую роту командиром первого отделения. Конечно, завистники пошептались: дескать, командир полка за спасение дочери отплатил – да и замолчали.
Первая рота – самая почетная, а в шестой фактически новобранцы, без боевого опыта. Новые погоны Алексей нацепил. Капрал – самый первый чин, вроде сержанта в современной армии. Ему не привыкать подниматься по военной карьерной лестнице, при каждом переносе в другое время начинал с низов. За Алексеем в полку ревностно следили. Недоброжелатели и завистники всегда найдутся. Как же, они не один год солдатскую лямку тянут, а этот отслужил полгода, а уже капрал. Алексей лишь усмехался. Кто не давал завистникам проявить себя в ратном деле или кинуться к лошади? Лень да нежелание рисковать своим здоровьем и жизнью ради другого человека. Алексей таких в душе презирал, считал: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
После завтрака вел отделение на плац. Немного отрабатывали строевой шаг: поскольку первая рота зачастую участвовала в разных парадах, не хотелось, чтобы отделение выглядело плохо. А после обеда – упражнения с оружием, стрельба, штыковой бой, скрытное передвижение на местности. Все навыки пригодятся в реальном бою.
Между тем каждый год Бонапарт усиливал позиции. Начав с 1805 года, когда он встал во главе Итальянского королевства, захватил почти все государства Европы. Российская империя образовала против Наполеона союзы. Чаще всего в них участвовали Англия, Швеция и Австрия. И всегда терпели поражение. Как в декабре 1805 года под Аустерлицем или в июне 1806 года в союзе с Пруссией. Армия Наполеона усиливалась за счет покоренных стран, в первую очередь германских. В марте 1810 года Наполеон женился на Марии-Луизе, дочери австрийского императора Франца, выключив Австрию из числа противников. Армия Наполеона становилась многоязычной – французы, итальянцы, немцы и множество из наций немногочисленных. Но во главе дивизий и корпусов стояли военачальники французские, которым Бонапарт доверял, которые имели боевой опыт, которые до сих пор одерживали победы.
В русской армии говорили о предстоящей войне с Наполеоном как о событии нежелательном, но неизбежном. По возможности готовились. Во-первых, разбили угрозу с юга. Под Рущуком русские войска под командованием М. И. Кутузова разгромили турецкую армию, и 23 ноября турецкий командующий Ахмет-паша подписал акт о капитуляции. На два фронта воевать было бы тяжело. Во-вторых, пушечные заводы увеличили производство пушек и боеприпасов – ядер, бомб, пороха. К войне готовили пушки в 3, 6 и 12 фунтов и четверть- и полупудовые «единороги».
Александровский завод передал артиллерийскому ведомству 5701 пушку, в основном крепостные и для флота, различались они разными станками. Брянский литейный выпускал пушки для конной артиллерии, от 120 до 180 в год. На Урале Каменский завод дал 1415 пушек. Екатеринбургский только в 1811 году выпустил 30 тысяч пудов пушек и бомб. Кронштадтский литейный давал в год 60–61 тыс. пудов бомб и ядер. А всего к началу войны в армии и на флоте было 296 тысяч пушек, 40 млн штук бомб и ядер. Пушки – это единственное средство, способное уничтожить конницу и пехоту врага. И у России оружия и боеприпасов к началу войны с Наполеоном оказалось в достаточном количестве, войска в них недостатка не испытывали.
Через три месяца во втором взводе егерь со службы сбежал. Как был в карауле – при форме и ружье, – так и ушел. Казалось бы, не война, когда опасность для жизни, не тяжелый и долгий переход в другую местность, и капрал в отделении волне нормальный, не деспот. В полку сразу разные разговоры пошли.
Все же через неделю нашли, привезли на телеге в полк. Дезертирство, да при оружии – тяжелое воинское преступление. Хуже может быть только измена, переход на сторону врага.
В Древнем Египте за дезертирство отрезали нос. В Спарте отнимали все имущество и изгоняли из страны. В Риме ставили раскаленным железным тавром клеймо на лицо, и все видели: перед ними трус. Так это в мирное время. В случае войны во всех армиях мира наказание суровое – смертная казнь через расстрел либо повешение.
Сбежавшего судил трибунал, приговор: прогнать через строй с битьем шпицрутенами и последующая тюрьма. Жестоко, но для других – наука и предостережение. Забегая вперед, можно сказать, что, когда русская армия уже гнала остатки армии Наполеона по заграничным землям, из армии сбежали сорок тысяч человек. Немцы и австрийцы документально подтвердили пять тысяч. Среди причин – лучшие воинские части оставили в центральных губерниях России, а в тех, что ушли в заграничный поход, было много проштрафившихся, а также польских бунтарей, забритых рекрутами. Если за боевой подготовкой следили командиры всех уровней, то за моральным состоянием – полковые священники. Дьякон в полку имел жалование на уровне капитана. Военные священники подчинялись обер-священнику армии. С 1807 по 1826 год таковым был И. С. Державин.
Дезертирство имело последствиями кадровые перестановки. Капрала отделения, где служил дезертир, и фурьера понизили в звании и должности. Алексей неожиданно для себя получил звание фурьера (на ступень выше капрала) и соответствующую должность – заместитель командира взвода. Подумал еще: не обошлось без покровительства командира полка. Завистники опять нашлись, поговорили, но потом забылось за другими обстоятельствами. Вроде невелики должность и звание – по современным меркам старший сержант, – а все же не рядовой, есть привилегии.
Алексей, имея богатый опыт службы в армиях разных стран, в роль вошел быстро. С офицерами вел себя уважительно, с егерями – без начальственных замашек. Вот что не нравилось в офицерах, что по моде тех лет изучали французский. Конечно, к будущей войне с французами это даже неплохо, можно пленного допросить. Но перебарщивали. Иной раз на службе друг с другом говорили на французском. Преклонение перед Европой? Россию пренебрежительно называли лапотной. А в итоге кто победу одержал? И в офицерских собраниях на танцах не русскую отплясывали. Алексея это немного коробило. А когда он впервые увидел французских солдат и офицеров, и вовсе удивился. И покрой, и цвет формы очень похожи, разница в мелочах и головных уборах. Даже в легких сумерках либо на дистанции попутать вполне можно, а это чревато неприятными неожиданностями. И ружья похожи, и пушки, и тактика. Но после войны, как он мог убедиться позже, пиетета перед Францией сильно поубавилось. Язык изучать почти перестали, как и пить французское вино, читать французских писателей. К захватчикам, пусть и не состоявшимся, на Руси всегда относились одинаково плохо. Другое дело – дворяне «голубых кровей». Императорские дворы роднились, но Россия с вступлением Романовых на престол тяготела к немцам. Женились на немках, язык зачастую учили немецкий. И вот какую странность заметил Алексей. Среди просвещенных людей начинают учить французский – через несколько лет или десятилетий воюем с Францией. Учим немецкий – вот вам Первая, за ней Вторая мировая войны, где противниками выступают немцы.
По осени начались военные учения. Время года специально выбрано, когда с полей убран урожай. Обычно задействовали с каждой стороны по нескольку полков – пехотный, кавалерийский, артиллерийский. Обязательно присутствовали штабисты, зачастую дипломаты, военные атташе. Среди них почти все разведчики. Пытались воспроизвести подсмотренные в иноземных армиях уловки. Да только особой разницы не было. Кони одинаковы, как и пушки, приемы схожи. С появлением механизмов и техники на вооружении армий изменилась и тактика.
Англичане в Первую мировую войну применили танки, а немцы – химическое оружие. И все вместе – пулеметы. Два-три пулемета против атакующего батальона способны сорвать атаку. И тактика сразу изменилась, война стала позиционной.
Но это знал только он. Однако офицеры на учениях выдвигали прожекты – тянуть к противнику подземные галереи и закладывать бомбы либо еще чуднее.
На учениях егеря тоже были задействованы. Посредники сразу «вывели» из игры несколько офицеров.
– Вы, вы и вы, прапорщик, – «убиты». Отойдите в сторону. Смотреть можно, но не пытайтесь давать советы.
Так неожиданно Алексей стал командиром взвода. Его штатный командир, прапорщик Шевелев, оказался в числе «убитых». Алексею не привыкать, но только надумал он действовать решительно, вопреки военным установкам того времени. Его задачей было захватить штаб неприятеля. Для начала выслал лазутчиков, как называли тогда разведчиков. Расположение штаба обнаружили, причем с серьезной охраной. А неподалеку – батарея трехфунтовых пушек. Калибр небольшой, пушки легкие. Калибр определялся по весу ядра. В фунте 409 грамм, в трех фунтах – одна тысяча двести двадцать семь граммов. В шестифунтовых орудиях ядра в два раза тяжелее и калибр больше, как и заряд пороха, и вес самой пушки. Если в современных мерках, то калибр трехфунтовой пушки – 61 мм, шестифунтовой – 95 мм, двенадцатифунтовой – 110 мм. И у нее вес ядра 5,88 кг. В конце девятнадцатого века артиллерия всех стран, кроме Британии, перешла на калибр в миллиметрах.
Алексей, определившись на местности, сразу принял решение: разгромить вражескую батарею, а потом с ее помощью уже захватить штаб. Егеря подкрались к батарее. Артиллеристы заряжали пушки холостыми зарядами, чтобы палить по команде, но ненароком кого-либо не убить и не покалечить. Егеря бросились разом, пушкарей повалили, связали. Кто попытался сопротивляться, слегка помутузили. Штаб недалеко, с полверсты. Каждое отделение катило по пушке – это хорошо, что пушка трехфунтовая, относительно легкая, однако приспособлена для конной тяги, с передком. Обливаясь потом, торопясь, установили пушки в сотне аршин от штаба да и пальнули разом. В настоящих боевых действиях трех ядер хватило бы развалить половину избы, а то и всю, если бы бомбами стреляли. Бомба, в отличие от ядра, набита порохом и взрывается. По деревянным преградам самое эффективное средство.
Сразу после залпа егеря бросились к штабной избе. Посредник только головой качал. Но его миссия – наблюдать, оценивать действия, фиксировать ошибки.
Егеря со штабными не церемонились, действовали лихо, даже нагло. Связали всех, кто был в штабе: офицеров, писарей, посыльных и даже командира полка. Подполковник отчаянно ругался, обещал всех отправить на гауптвахту. Обидно! Учения только начались, а штаб уже в плену.
Большего успеха в учениях не добился никто. Действия Алексея и его взвода были отмечены. Генерал, прибывший из самой столицы, остался доволен. Обнял Алексея, вытащил из кармана мундира часы, вручил.
– Молодец! Находчив и смел! Так же действовать в настоящем бою.
– Служу царю и Отечеству! – гаркнул Алексей.
Дальнейший разбор проходил уже без него. Да и кто он такой? Всего лишь фурьер! Но уже к вечеру о призе знал весь полк. Солдаты подходили, просили показать награду. Кто-то восхищался, были и завистники.
– Повезло! Я бы тоже так смог!
– А чего же не сделал? Захватил бы штаб, на худой конец, провиантский склад. Глядишь, и тебе приз достался бы.
Егерь отошел, недоволен. Инициативу надо проявлять, Бог помогает активным. Часы, тем более хорошие, с боем, швейцарские, стоят дорого – тридцать-пятьдесят рублей. Фактически годовое жалование Алексея, как не больше. Они помогли весной следующего года, когда Алексей получил подпрапорщика (переводя на современные звания – старшина роты). Следующая ступень – фельдфебель, а за ним уже офицерские – прапорщик, подпоручик, штабс-капитан.
Повышение Алексея в звании и должности приняли в полку уже как должное. За два года службы в полку Алексей проявил себя с лучшей стороны. Были служивые в ротах, которые уже и по пять, и по семь лет служили, так и оставаясь рядовыми. Потому как просто тянули лямку, фактически исполняя обязанности нелюбимой службы так, чтобы только не наказали за леность.
Такие обычно завидовали, считали, что их обходят в званиях и должностях незаслуженно. А что ты сделал, чтобы тебя заметили?
Алексей стал захаживать в соседний полк, к артиллеристам. Знания за плечами не носить, а выручить могут. Смотрел, как обращаются с пушкой. Каждая мелочь имела значение. После выстрела, прежде чем зарядить, надо ствол протереть банником с уксусом, чтобы погасить весьма вероятные тлеющие частицы пороха или шелкового мешочка, в котором порох развешивался. Мешочки из шелка обычно сгорали, при этом сильно облегчали заряжание. Проще сунуть в ствол мешочек, протолкнуть его к казеннику прибойником, чем отмерять шуфлой – эдаким мерным совочком. На порох забивался пыж, затем ядро или бомба и снова пыж. Через запальное отверстие в казенной части шилом прокалывался пороховой мешочек, подсыпался порох для затравки. От того, зерненого, отличался мелким, как порошок, помолом. Когда требовался выстрел, к затравочному пороху подносился запальник – раскаленный железный прут. Порох воспламенялся, через секунду следовал выстрел. Незамысловато. Но стоит сделать, казалось бы, незначительную ошибку, и последствия могли быть для расчета пушки трагические: от смерти заряжающего до разрыва ствола при его неверной навеске и гибели всего расчета. В артиллеристы брали солдат грамотных, хотя бы с парой классов церковно-приходской школы, аккуратных, сообразительных. Артиллеристы были самой грамотной частью армии и флота.
С офицерами познакомился, даже уговорил пару раз разрешить ему зарядить пушку и пальнуть. Заряжал по подсказкам и под бдительным надзором командира пушки, как правило, капрала. Раньше-то, в прежние переносы, все больше саблей помахивал.
Все же Наполеон решился на войну с Российской империей. Самолюбив и честолюбив был император, а Россия, с его точки зрения, унижала его не раз. То император Александр отказал в браке с сестрой, то Россия не присоединилась к блокаде Британии. А с другой стороны, почти вся Европа под Наполеоном спину согнула, один Александр стоит горделиво. Земли у России обширные и богатые: лесом, пенькой, пушниной, урожаями пшеницы и ржи, обильны людьми, вероятными рабами. Тем более у Бонапарта армия огромная, 685 тысяч солдат при 1390 пушках. И вассалы участвуют – Италия, Неаполитанское королевство, Испанское королевство, Рейнский союз, Варшавское герцогство, Швейцария. А еще и союзники – Австрия, Пруссия.
Перед началом войны Бонапарт воззвал к своему войску: «Россия несет гибельное влияние на дела Европы. Судьба ее должна свершиться! Или мы более не солдаты Аустерлица?»
Наполеон через своего посла в Санкт-Петербурге маркиза де Лористона официально объявил войну России, произошло это 10 июня 1812 года. А 12 июня его войска перешли Неман, реку пограничную.
В два предвоенных года Россия испытывала финансовые трудности. Но, предвидя возможную войну с сильным противником, отдавала на вооружение и снабжение армии больше половины государственного бюджета.
А еще российским дипломатам удалось в апреле 1812 года, в преддверии войны, подписать союзный договор со Швецией, несмотря на то, что королем Швеции с 1810 года стал французский маршал Жан-Батист Бернадот. Наши дипломаты искусно сыграли на разногласии Бернадота с Наполеоном. И с Британией восстановили отношения уже в июле 1812 года, с началом войны.
Невольным союзником России оказалась Испания. Ее народ развязал активное партизанское движение, в подавлении которого было задействовано немногим менее двухсот тысяч солдат.
Против шестисот тысяч войска Наполеона в первые дни войны Россия могла выставить не более 250 тысяч. Поэтому первые четверо суток Наполеон шел, не встречая никакого сопротивления. Единожды вдалеке мелькнул казачий дозор. Русская армия быстро мобилизоваться не могла – большие расстояния, плохие дороги. Наполеон без боя занял Вильно (ныне Вильнюс). Бонапарт успехом вдохновился: убоялись русские непобедимой армии, отступают.
В полосе наступления французов – по фронту в 300 км – стояли две русские армии. Первая – под командованием военного министра М. Б. Барклая-де-Толли, 128 тыс. солдат, и вторая – под командованием П. И. Багратиона, 52 тыс. солдат и 758 пушек на обе армии. На Волыни стояла 3-я армия Тормасова, прикрывавшего от возможного наступления из Австрии. Первая армия заслоняла столицу, Санкт-Петербург, вторая – Москву. Между армиями – солидный промежуток в сотни километров.
Император Александр со своей главквартирой при первой армии расположился между Лидой и Расейняем. Наполеон привык действовать на европейском театре, где расстояния невелики. Выбирая удобный момент и диспозицию, давал одно-два крупных сражения, решающие исход кампании. А тут получилось – на огромном фронте в 600 км стоят русские полки.
Кавалерия Наполеона провела разведку, нащупала разрыв между первой и второй армией в 200 км. Туда Бонапарт распорядился вводить войска. Получался клин, который не даст русским объединить силы. От предвкушения вероятной и близкой победы Наполеон уже потирал руки. Если еще дать бой, то впереди Москва, древняя столица. Оттуда он будет диктовать ненавистному русскому императору свои условия для перемирия. Он не варвар и не хочет уничтожить Россию. Но одержать победу, взять богатые трофеи – очень важно, потому что все силы потом можно направить на Британию, давнего врага Франции.
Получив 10 июня ноту от французского посла об объявлении войны, император срочно собрал Генштаб. Благо от Зимнего дворца до Генштаба – только площадь перейти. Постановили: выдвинуть из тыловых районов воинские части, а пока первой и второй армиям сдерживать врага, в большие сражения не втягиваться, изматывать, под его давлением отходить. Коммуникации французов будут растягиваться, подвоз боеприпасов, прибытие подкрепления запаздывать. Возникнут трудности с провизией, ночлегом, лечением раненых.
Быстрой связи не существовало. Пока гонцы на перекладных лошадях мчались в штабы армий и корпусов, Наполеон уже далеко продвинулся вглубь России.
По тому, как забегали штабные да был объявлен сбор начальствующего состава, Алексей понял: война началась. Из истории были скудные воспоминания: Бородинская битва, сдача Москвы и ее пожары, позорное отступление французов, а потом заграничный поход русских войск. В основном вспоминалось то, что еще в школе проходили. Мозг не в состоянии запомнить все имена, даты, детали.
Вскоре объявили тревогу и построение. Когда полк замер в единой шеренге, командир объявил о нападении Франции. О том, что Наполеон уже подмял многие европейские страны, наслышаны были все офицеры и часть солдат из тех, кто пограмотнее. Подполковник был краток, призвал к исполнению воинского долга, верности царю и отечеству.
До вечера должны были собрать все имущество, уложить на подводы и завтра утром выступить. О, какая началась суета! Солдаты сновали как муравьи: перетаскивали боеприпасы, шинели, провизию. Это еще хорошо, что не было тяжелого вооружения. Для пушек потребовались бы упряжки лошадей в шесть-восемь голов, да и скорость их передвижения невелика.
Все же егеря – легкая пехота. Однако утром колонна выглядела внушительно: лошади, повозки, люди вытянулись едва не на версту. Из города на запад, на смоленскую дорогу, выбирались не только егеря, но и другие полки. Пыль, ржание лошадей, топот множества ног – шум сильный. Алексей обернулся, посмотрел. Почему-то вспомнился ролик группы Status Quo «In the army now». Там новобранцы бегут до изнеможения, преодолевая препятствия. Но им даже легче, нет тяжелых ружей, ранцев за спиной.
Периодически устраивали привалы. В первую очередь накормить-напоить лошадей. Солдаты ели сухой паек – хрустели ржаными сухарями, грызли вяленую рыбу, ели соленое сало. Лето – продукты портятся быстро. В походе горячую пищу принимали утром и вечером, на биваках. В обед – всухомятку, вода из фляжек. Кое-кто из новобранцев натер ноги. Если неправильно намотал на ногу портянку, в казарме можно перемотать. А в походе выйти из колонны не могли, даже если оправиться невтерпеж. Все по команде, на привалах. Солдаты завидовали ездовым. Те на облучке подводы или фуры. Фурами называли крытые подводы. В них перевозили провизию, порох, перевязочные материалы – все то, что могло испортиться под дождем или палящим солнцем.
Трудно всегда в первый день. В марш надо втянуться, Алексей по себе знал. За день прошли верст тридцать. Устали и с наслаждением легли на траву на берегу речки, когда объявили отдых. Но воинский бивак – не пионерский лагерь. Выставили караулы. Повара стали разводить костры, устанавливать котлы. Алексей выбил пропылившуюся одежду. Утром, как правило, случается роса. Сядет на пыльный мундир, и он станет грязным, только стирать. Проще выбить о дерево. В походе все равны. Старшие офицеры ехали верхом, только командир полка на таратайке – одноколке на два места, но без складной крыши, как на кабриолете. Ротные и взводные шли пешком, каждый во главе своей колонны. Единственное облегчение – без ранцев, их имущество было на повозках. Постепенно втянулись. Если первый и второй день шли молча, чтобы не сбивать дыхание, то уже с третьего дня шутками перебрасывались, некоторые напевали.
Через три недели пришли в Смоленск и остановились лагерем. У всех одно желание – помыться. Привык русский человек по субботам в баню ходить. А тут три недели без помывки и в пылище. Командир объявил привал на несколько дней. Выставили караулы, солдаты бросились к реке – постирать исподнее, с себя смыть пот и пыль.
На следующий день с утра командир полка через вестового вызвал к себе Алексея.
– Бери несколько егерей по своему усмотрению и проведи разведку на запад верст на десять. Не видно ли неприятеля? К вечеру чтобы доложил.
– Так точно!
Командиры полков и дивизий в полном неведении: где неприятель? Какие силы имеет и где? А уж пленного бы взять да допросить о планах – вообще удачей бы было.
Алексей мечтал после марша передохнуть, но на воинской службе выбирать не приходится. Алексей выбрал четырех наиболее толковых егерей, с ними зашагал по дороге на запад. Все дороги в России грунтовые и указателей нет, не Запад. Поэтому здраво рассудил: не пойдут французы по полям, тем более лесом. Наибольшие шансы их встретить – на дороге.
Судя по деревням близ дорог, французов здесь еще не было. Трудились крестьяне, избы не разорены, живность во дворах хрюкает, мычит и кудахчет. Неприятель, пройдя здесь, все бы сожрал, как саранча. На большое многотысячное войско с собой припасов не взять. Наверняка фуражиры наполеоновского войска шастают по деревням вдоль дорог, где идет армия. А по мере продвижения будут удаляться все дальше. Для России это направление многострадальное: и ляхи с Лжедмитрием здесь шли, ныне Наполеон, а позже и гитлеровцы. Правда, все потом здесь же уходили в сильно потрепанном виде.
Алексей с селянами разговаривал. Как деревня или село называется? Да не видели ли здесь французов? Советовал забрать детей, наиболее ценные вещи да живность и уходить. Детей и рухлядь на подводу, к ней же корову за рога привязать – все детишкам молочко будет. Селяне слушали, разинув рты. Некоторые до сей поры не знали, что Наполеон войну начал. Да и кто бы их известил? Читать не умеют, да и газеты сюда не доходят. И радио еще нет.
По прикидкам, уже десяток верст прошли. Плохо, что карты нет, узнать свое местоположение. Уже в обратный путь поворачивать пора. Пока дойдут, вечер будет. Алексей хотел напоследок пройти по лесной дороге до конца. Со слов селян, недалеко, за лесом, – поле. Взглянуть – и назад, чтобы совесть чиста была.
Вышли на опушку, по дороге через поле несколько конных скачут, причем в их сторону. Форма на них синего цвета, как у наших пехотинцев. Но что-то не понравилось Алексею. Приказал подсыпать затравочного пороха на полки, занять позиции за деревьями, изготовиться к стрельбе. Стрелять по команде и первого всадника не трогать. Была мысль – взять пленного. Только не ошибиться бы! Вдруг свои? А всадники все ближе. На казаков не похожи – те в мохнатых шапках, на форме газыри. Газыри – такие узкие карманчики по обеим сторонам черкески, где хранили порох и пули, как раз на одно снаряжение ружья. И не из наших кавалерийских частей – цвет униформы отличается, головной убор. Алексей предположил: польские уланы.
Скомандовал:
– Целься! Слева направо – каждый свою цель!
Такую команду в его взводе отрабатывали давно. Первый слева егерь целится в первого слева неприятеля, второй егерь – во второго и так далее. Иначе может получиться, что в одного врага попадут три пули, что избыточно, а в другого – ни одной. Перезарядиться можно не успеть, и этот уцелевший всадник через секунды будет здесь и начнет рубить саблей. Вот уже до всадников сто шагов.
– Пли!
Залп штуцеров, на опушке дым. Когда рассеялся, вверх поднялся, стали видны результаты. Убиты все, кроме одного. Его ногу придавило убитой лошадью. Именно ей в голову целился Алексей. Двое недвижных лежат на земле, еще одного волочит по земле лошадь. Он убит, свалился с седла, но нога зацепилась за стремя.
Теперь надо действовать быстро. Если французы недалеко и слышали выстрелы, примчатся узнать причину.
Двоих егерей Алексей отправил ловить лошадей и забрать у убитых оружие. Тяжелое вооружение, вроде пушек, если удастся захватить, сдается в цейхгауз. А ружья, пистолеты, сабли – трофеи того, кто взял. Их можно продать или оставить себе: если состояние трофейного ружья хорошее, купит казна. В общем, трофеи – это деньги для того, кто захватил, и в них заинтересованы. С лошадьми так: если бы полк был кавалерийский, можно оставить, а можно продать казне после осмотра ветеринаром. Вдруг хромая или старая? Верховая лошадь стоила дорого. В егерском полку лошадь себе оставить нельзя, полк пехотный. Потому как для лошади конюшня нужна, сено или овес, сбруя. А казна купит и передаст в кавалерийские полки на замену раненых или убитых скакунов. Лошади, как и люди, тоже несли потери в боях. А также потребны были для вновь формируемых полков.
Еще с одним егерем подбежали к убитой лошади, помогли выбраться из-под нее улану. Сразу отобрали пистолет и саблю, а руки связали сзади. Двое егерей уселись на лошадей, за седлами – трофеи, сабли скручены, как хворост в вязанку. Кобуры с пистолетами – у второго. На третьей лошади – улан. И не потому на лошадь его посадили, что жалко. Видимо, при падении лошадью ногу повредил, хромал и морщился. Идти пешком – обузой будет.
К своим шли быстро. Алексей впереди, за ним конные, замыкающим еще один егерь. То ли путь уже знаком, то ли лошади помогли, а к своим добрались быстрее, чем до встречи с уланами. Пленного сразу в штаб сдали. Похвастались, что лошадей трофеями привели и троих из неприятельских кавалеристов убили. Получилось – первыми открыли счет убитым, пленным и трофеям. Писарь записал исправно. Да и как соврать, если лошади – вот они, как и сабли, и пистолеты. Лошадей осмотрели, признали справными, к службе годными. И оружие приняли. Алексей получил в полковой кассе деньги, разделил на всех поровну. Вылазка получилась полезной и приятной для кошелька. А еще – егеря сразу уверились, что Алексей везучий.
– Господь благоволит, – перешептывались они.
В везение или сглаз, порчу – верили. Потому добровольцев в последующие вылазки находилось больше требуемого.
Между тем первая Западная армия Барклая-де-Толли отступала от Дриссы на Полоцк и Витебск, а вторая из Слонима отходила на Несвиж, Бобруйск и Мстиславль. Наполеон задержался в Вильно на 18 дней. Он полагал, что русские собирают силы, чтобы дать решающее сражение. И вот тогда, используя преимущество в силах, он их разобьет.
Император Александр должен в таком случае подписать мирный договор на условиях Наполеона. Бонапарт уже размышлял, сколько золота истребовать и какие товары. А его разведчики докладывали, что русские ожесточенно сражаются арьергардами и отходят.
По манифесту царя с 6 июля стал проводиться набор в народное ополчение. Для его комплектования, снабжения, финансирования образовали особый комитет. Дворянство и купечество, помещики на собственные средства вооружали и одевали воинство из крепостных мужиков, добровольцев из разночинцев. Церковь собрала и передала на нужды армии два с половиной миллиона рублей, сумму огромную по тем временам.
Наполеон вышел из Вильно 4 июля, а уже 8 июля маршал Даву занял Мценск.
Багратион со своей армией обошел Минск с юга и двинулся на Бобруйск, которого достиг 27 июля.
А на занятых французами землях уже стихийно начали образовываться отряды самообороны. В стороны от наступающей армии разъезжались фуражиры. Большая французская армия требовала ежедневно много провизии, причем не только для людей, но и корма для лошадей. Кормить одной травой нельзя, обязательно нужен овес, и много. Иначе брюхо у лошади будет пучить и падает выносливость. В день каждой лошади нужно ведро овса и трава. Учитывая, что лошадей десятки тысяч – кавалерия, артиллерия на конной тяге, обозы, – то и овса столько набрать проблематично. А отнимут у селянина, чем свою живность ему кормить и семью? Кто смог из крестьян, попрятал запасы в лесах или схронах за околицей. Так ведь все не упрячешь. Куда денешь кур, гусей, поросенка? Их кормить надо. Выпускать в лес? Разбегутся или дикие звери сожрут. А для фуражиров – самая пожива. И хочешь не хочешь, а взялись селяне за вилы, за косы, за цепы. Стали бить, убивать непрошеных визитеров. Маршалы сразу фуражирам дали охрану. Ранее в Европе не было такого: у крестьян отбирали съестное, но защищаться они не решались. А Россия – страна варварская. Где это видано, чтобы вилами в грудь или цепом по голове?
На охрану фуражиров большое число солдат пришлось отвлечь, которые в сражениях нужны. На занятых землях приходится оставлять в городах гарнизоны, а еще патрулировать дороги, иначе всех гонцов и посыльных перебьют. И получалось: крупных сражений еще не было, а армия Наполеона таяла. Пространства в России огромные, и, если до Урала идти, армии не останется. Первоочередная задача французов – взять Москву, а перед тем навязать бой, разгромить русскую армию. Тогда полная свобода действий. Бонапарт злился. Уходило время, а русские ускользали. Огромную армию поить-кормить надо, платить жалование, а трофеев нет. Наполеон и его маршалы надеялись разжиться трофеями в Москве. Кто там бывал, говорили, что купола церквей позолочены, а во дворцах кремлевских богатства невиданные. Наполеону нужна слава победителя, власть над миром, его маршалам – слава великих полководцев и трофеи, да побольше, а простому солдату – добыча, которую можно в ранец уложить и с собой унести.
Отступавшие русские первая и вторая армии соединились 3 августа под Смоленском. Наполеон в Витебске сделал остановку: все же пройдено по чужой территории почти четыреста верст, солдатам нужна передышка. И лишь десять дней спустя, 13 августа, он выступил на Смоленск. Армия его отдохнула, зато конные лазутчики совершали рейды вглубь территории, проводили разведку – где и какие силы русских расположены. Однако русские тоже вели разведку.
Выбор командира полка вновь пал на Алексея. Впрочем, подполковник отправлял сразу три группы лазутчиков в разных направлениях. Единой линии фронта ни у русских войск, ни у французов не было. Потому как не было позиционной войны, когда противники копают траншеи, оборудуют редуты. Почти ежедневно позиции менялись. Особенно это касалось кавалерии (на тот момент самого мобильного рода войск). У русских кавалеристов было меньше – гусары, уланы и казаки. Они тоже проводили свою разведку, причем вылазки совершали дальние. Порой обходили противника с фланга, шастали по его тылам.
Алексей выбрал четверых добровольцев, хотя желающих было намного больше – добытые в прошлый раз трофеи вдохновляли егерей. Только на войне бывают и неудачи, без них невозможно.
Алексей не обольщался, брал самых ловких да еще метких. От прошлой вылазки он оставил себе пистолет в набедренной кобуре. Конечно, лишний вес, но как оружие последнего шанса очень хорош. Опробовал его заранее, боем остался доволен. По крайней мере, на двадцать шагов без промаха уложил три пули в деревянный чурбак.
Шли южнее Смоленска. Сначала изредка попадались русские подразделения. То ли из отставших, то ли лазутчики из пехоты. Подозрительно посматривали друг на друга – не враги ли?
Потом вышли к обезлюдевшей деревне. Боев здесь точно не было, как и фуражиров. Избы и дворы пустые. Ни людей, ни живности, ни трупов. Обычно бегут, когда противник поблизости. Алексей зашел в одну избу, благо двери нараспашку. У сундука крышка поднята, и он пуст. Нет беспорядка, который бывает, когда хозяева покидают избу в спешке, спасая свою жизнь.
Стало быть, собирались и уходили не второпях, спокойно. Алексей подошел к печи, потрогал. Печь слегка теплая, значит, еще утром топилась. Селяне – народ обстоятельный, впопыхах ничего не делают. Раз ушли крестьяне из деревни, стало быть, враг рядом. В избу вбежал егерь.
– Господин подпрапорщик! Французы, человек десять, пеши. И, похоже, пьяны.
– Всем к крайним домам и занять позиции.
– Есть!
Алексей и сам пустился бегом к околице, прижимаясь к заборам, чтобы незаметнее быть. Крайняя изба в деревне. Забежал за тын. Справный хозяин жил, потому как забор не из горбыля, для дешевизны, а из распиленных вдоль тонких бревен. Такой тын только медведю сломать по силам. Щели есть, наблюдать удобно.
К деревне и в самом деле по дороге идет отделение французов. Судя по активной жестикуляции, громкому разговору, нетвердой походке, солдаты явно навеселе. Наверняка где-то бражки нашли, потому как хлебное вино, как именовалась водка, в полосе боевых действий не продавалось. Вино селяне не делали, ибо виноградники не сажали. Да и не созрел бы виноград, смоленские земли – не Крым. Иной раз делали яблочный сидр, у кого сады были. Французы, как и итальянцы, выпить были любители, но потребляли у себя на родине красное вино.
Французов вдвое больше, чем егерей. Если сделать залп, перезарядиться не успеть. Правда, французы на дороге как на ладони, а егеря под защитой забора. Все же решился.
– Как только французы поравняются с крайней избой, по моей команде – залп. И сразу в штыки. Потом штыки примкнуть. Помните: пленный нужен.
В обычной пехоте штыки постоянно примкнуты к ружьям. У егерей штыки на привязи на поясе. И они короче обычных пехотных, как тесаки.
Французы все ближе. Вот же беспечные: входят в деревню – и без дозорного. Ну, будет вам наука, кто уцелеет!
– Целься! – вполголоса сказал Алексей.
И тут же в голос:
– Пли!
Грохнул залп. Несколько неприятельских солдат рухнули в дорожную пыль. Остальные стали срывать с плеч ружья.
– Вперед! – закричал Алексей. – Бей! Коли!
У него как у командира штыка не было. Зато очень выручил пистолет. Алексей выбежал на улицу первым. Один из французов вскинул ружье, и Алексей выстрелил. На такой короткой дистанции не промахнешься. Пуля угодила в грудь, и враг упал. А слева и справа от Алексея уже егеря. Ударили в штыки, ибо французы не успели изготовиться к отражению атаки, все же алкоголь тормозит реакцию. Троих сразу закололи, еще одного егерь Синцов оглушил прикладом штуцера. Двое уцелевших не стали искушать судьбу, бросили ружья, подняли руки. Вот повезло егерям, такое редко бывает! Двое сдались и целы, еще один сидит на дороге, раскачиваясь. А семеро убиты. Коли не были бы пьяны, возможно, расклад был бы иным.
– Убитых стащить во двор.
Это чтобы сразу в глаза не бросились, все равно ведь искать будут.
– Оружие трофейное собрать! И эти двое пусть товарища своего ведут!
Ба! Французики залопотали, да на итальянском. Не лягушатниками оказались, а союзниками, из Италии или Неаполитанского королевства. Для Алексея язык знаком. Сразу объяснил пленным, что требовалось. Поняли, подчинились. Для егерей удивление: оказывается, Алексей по-чужому толмачить способен!
Обратно в полк шли не налегке: у каждого егеря кроме своего штуцера еще по два-три ружья, да с припасом пороха и пуль в подсумках. И каждое ружье по двадцать фунтов почти. Итого – полтора пуда весу. Но ничего, дотопали. Из трех групп лазутчиков первыми вернулись, да с пленными и трофеями. В штабе решили допросить. Французский язык многие офицеры знают, пусть и не в совершенстве. А итальянский – никто. Алексей вызвался толмачить, чем удивил подполковника.
– Ужель знаешь?
– Самое необходимое, – поскромничал Алексей.
Командир полка задавал вопросы, Алексей переводил. Служа в Византии, освоил латынь и греческий. Латынь позже стала базисом для итальянского. Многие слова понятны, но не все – это как русскому общаться с белорусом или украинцем. Часа два переводил, пока командир полка все выяснил. Оказывается, итальянцы заблудились. Вместо своего тыла пошли на восток, а все потому, что нашли в захваченном селе вишневую наливку, целый бочонок. Ну и опорожнили, не пропадать же добру. Кое-что про свой полк сумели рассказать, но о дислокации других частей ничего не знали. Впрочем, солдаты всех армий о планах командования знают мало, как и младший командный состав.
А через день, после проверки трофейных ружей, снова деньги в полковой кассе получили. Егеря радовались. Оказывается, война – прибыльное дело. Алексей ухмыляется. На войне везет не всем и не всегда. Будь итальянцы трезвыми, исход мог быть другим. Но все же в кармане бренчали монеты, что не могло не радовать.
Алексей в группу для разведки отбирал одних и тех же. Во-первых, проверены в деле, на них можно положиться. Совместно пережитые опасности сплачивают. Вот и егеря стали приятелями. Обедали за одним столом, вместе проводили свободное время, хотя это редко случалось. Война – не прогулка на пикнике.
В прифронтовой зоне с обеих сторон активизировались мародеры и грабители. Полиции нет, как и градоначальников с чиновниками, по крайней мере, на оккупированных землях. В одном селе ограбили лавочника, в другое перебрались. Всегда во время природных катастроф – наводнений, ураганов, в случае военных действий – находятся лихие людишки, для которых такое время самое желанное. Кто-то в ополчение шел, чтобы с оружием в руках страну от супостата защищать. А другие бесчинствовали, надеясь набить мошну, попить, погулять, покуражиться да остаться неузнанным, ненаказанным. Многим сошло с рук, не до них было. Некоторых опознали после войны и судили. Кое-кого убили либо солдаты противостоящих армий, либо те, кто смог дать отпор. С одним таким случаем столкнулся и Алексей. Снова с группой егерей отправился лазутчиком. На этот раз зашли далеко, верст за пятнадцать от своих. А все потому, что противника не видно.
Вошли в село. Кое-кто в селе остался, видны любопытствующие. Завидев егерей, тут же прятались. Кое-где кудахтали куры, роясь в пыли. Уйти могли те, у кого лошадь и подвода да родня в пределах досягаемости, чтобы было, где пересидеть, пока лихолетье не закончится. Семьи большие, с детишками в голом поле или в лесу жить не будешь. Кто не мог село или деревню покинуть, прятались в погребах, на задних дворах – банях, сараях. Французы в первую очередь занимали избы на постой.
Село большое, храм каменный, видимо, зажиточное. Обычно село богатое, если промыслы в нем есть – солеварня, изготовление шкатулок расписных либо выпечка печатных пряников, ткачество. Русский народ на выдумку хитер да и не ленив.
Вдруг услышали женский крик – истошный, надрывный. Так кричат, когда надежды на помощь нет, когда смертный час подходит.
– За мной! – скомандовал Алексей.
Кричали от третьей избы. Ворвались во двор через распахнутую калитку. В избу дверь тоже распахнута. Алексей на ходу пистолет из кобуры достал, курок взвел. Первым делом он влетел в сени, за ними комната. На полу, рядом с входом, убитая женщина. Лужа крови, голова почти отсечена от тела, вероятно, топором – от сабли след иной. Дальше, у дверей в светелку, на полу борьба идет. Жилистый мужик лет сорока навалился на девушку, разорвал на ней сарафан. Одной рукой пытался стянуть с себя штаны. Да так увлекся, что не услышал стука сапог егерей.
– Ах ты ж скотина! Заместо французов с бабами воевать вздумал?
Недалеко от насильника на полу окровавленный топор валялся. Не удержался Алексей, выстрелил негодяю в тощий зад. Заорал тот благим матом. Алексей приказал:
– Вывести его во двор и повесить. Смерть от пули слишком для него почетна!
Егеря схватили мужика, поволокли к выходу. За насильником кровавый след от ранения тянется. Алексей подошел к девушке, протянул руку, помог подняться. Та руками пытается порванный сарафан свести, прикрыть груди.
– Она тебе кто? – показал на убитую женщину Алексей.
– Матушка.
И заплакала в голос.
– Мужики остались в селе?
– Не знаю.
– Тогда ищи плотника, пусть делает матушке домовину. А сама могилу рой. Как схоронишь, уходи из села. Либо мародеры и насильники придут, либо французы.
Чтобы не смущать, вышел во двор. Егеря уже сыскали в сарае веревку, перекинули через перекладину ворот и живо вязали скользящий узел. Насильник понял, что последний его час наступает, взмолился:
– Пощади! Незаконно жизни лишать без суда!
– О суде вспомнил? А что же ты хозяйку без суда зарубил? Ничего, если крещеный, сейчас с апостолом Петром встретишься.
На мужика накинули петлю, вдвоем натянули веревку. Ногами засучил, засипел. Дергался недолго.
– Свершилось правосудие!