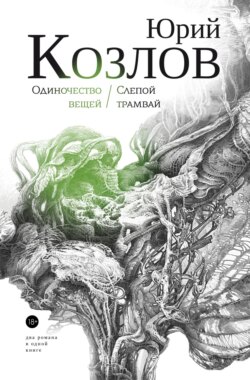Читать книгу Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1. - Юрий Козлов - Страница 3
Одиночество вещей
Часть вторая
У дяди в зайцах
ОглавлениеМашина была не то чтобы безнадежно неисправна, но и, конечно же, не до такой степени исправна, чтобы пускаться на ней в дальний путь.
Каждый раз после поездки, поставив машину на стоянку, а с недавних пор в кирпичный гараж-коробок на пустыре, придя домой, отец подробно, с каким-то даже сладострастием перечислял неисправности.
Казалось бы, дело за малым: взять да наведаться в автосервис. Однако отвращение к автосервису пересиливало у отца страх ездить на неисправной машине. «Автосервис без блата, – сказал как-то отец, – еще хуже, чем социализм без привилегий». – «А ну как встанешь, скажем, в туннеле под площадью Маяковского?» – спросил Леон. «Будут орать, – вздохнул отец, – будут оскорблять, но, по крайней мере, за дело. Когда у нас оскорбляют за дело, значит, уважают, считают за человека. Это звучит как музыка».
Таким образом, отец позорно капитулировал перед автосервисом, малодушно бежал от здравого смысла. То был путь миллионов. Суть происходящих в стране событий, казалось, заключалась в определении рубежа, до которого эти самые миллионы готовы позорно капитулировать, малодушно бежать. Пока что рубеж был (если вообще был) за горизонтом.
В середине мая, доставив Леона из больницы домой, отец заявил, что машине конец: засорился карбюратор, сгнил бензонасос, выходит из строя электронный блочок зажигания, которого днем с огнем.
Несколько дней отец не ездил, пытался дозвониться в автосервис, естественно, безуспешно. Бывалые люди советовали отправиться туда к пяти утра, но предупреждали, что можно неделями ездить к пяти утра и все равно не попасть.
Тут как раз приспела повестка из районного ГАИ. Оказывается, машина два года не была на техосмотре. ГАИ грозило штрафом. Пройти техосмотр в ГАИ было невозможно, потому что невозможно было попасть в автосервис и исправить машину. «Невозможно» представлялось единым и неделимым, как Россия в безумных мечтах белогвардейцев.
Отец впал в безысходную ярость, сравнимую со знаменитым гневом Ахиллеса, Пелеева сына. Вновь начал ездить на неисправной машине, одной лишь силой гнева преодолевая неисправности.
Так, впрочем, ездил едва ли не каждый второй советский автовладелец.
«Где два года, там и три. Бог троицу любит, – определился отец насчет ГАИ. – Прижмут, скажу, работал в Антарктиде, только вернулся, что они меня, посадят? Может, уже и не будет скоро никакого ГАИ».
Схожим явилось и решение, точнее, нерешение относительно автосервиса. Пока машина ездит, пусть себе ездит, что с того, что часто глохнет, у других еще чаще глохнет, и ничего, ездят люди, да и реже стала глохнуть, сама, видать, исправляется.
Иррациональная вера в самоустранение неисправностей, чудотворную природу мотора оставалась уделом едва ли не каждого второго советского автовладельца.
А между тем время дальней поездки настало скоро, а именно первого июня, когда Леон, благополучно закончив восьмой класс, перешел, освободившись по состоянию здоровья от экзаменов, в девятый.
Надо было куда-то ехать из бесхлебной, жаркой и вонючей Москвы.
Собственная – на шести сотках в Тульской области – дача строилась десятый год. Пока что «строительство» выразилось в том, что посреди их овражистого участка вырыли за триста пятьдесят (это еще когда!) глубокий котлован под фундамент, который немедленно до краев наполнился водой.
Весной вода заливала весь участок вместе с оврагом, и смотреть, как идет «строительство», приходилось с сухого пригорка издали. Летом вода в котловане изумрудно цвела, в ней угадывалась простейшая жизнь. Осенью по поверхности плавали флотилии красных и желтых листьев, подмерзшие берега хранили слепки птичьих лап и звериных копыт. Зимой все шесть соток представляли из себя плохо залитый шишковатый неосвещенный (если только луной) каток. «Может, что-то изменилось в дачной политике? – спросила однажды мать. – И мы уже не садоводы, а рыбоводы? Вдруг нам надо разводить карпов, а мы не знаем?» На других участках дела обстояли примерно так же. Только светился трехэтажный с башнями дворец председателя садоводческого товарищества, которое так и называлось – «Товарищ».
Было время, снимали халупу в местечке с социалистическим названием «Семьдесят второй километр».
Но в этом году съемные переговоры закончились неудачей. Отец как чувствовал – не хотел звонить таксисту, владельцу этой самой халупы. Позвонил только после того, как мать заявила, что, если он и сегодня не позвонит, она пойдет и отдастся таксисту прямо в машине. Леона как раз выписали из больницы. Он никуда не выходил, сидел дома с головой, обмотанной бинтами, как янычар в чалме, с ноющим, залепленным мазью, заклеенным специальной светонепроницаемой нашлепкой глазом. Потому и слышал разговор. Таксист (как выяснилось, уже и не таксист, а помощник крупье в казино «Нимфа») запросил сумму в… конвертируемой валюте. «Увы, Коленька, – даже обрадовался, что переговоры оказались короткими, отец, – мы люди неконвертируемые. Что? Да, Карл Маркс написал “Капитал”, но это не про то, как сделать капитал, а как сделать, чтобы никто никакого капитала не сделал. В особенности помощник крупье из казино. Да, Коленька, живу по Марксу. Нет, боюсь, поздновато мне разносить напитки играющим, хотя, конечно, все в жизни может случиться. От сумы, тюрьмы, подноса с напитками не зарекаюсь».
Раньше каждое лето Леон с матерью или отцом, а то и все вместе по месяцу живали в домах отдыха Академии наук. Отец покупал путевки через свой институт. Он и в этом году подал заявление. Но отказали. «Они перестали считать научный коммунизм наукой, – с грустью констатировал отец. – Отныне придется заниматься научным коммунизмом без летнего отдыха». – «Неужели никак нельзя с отдыхом? – вздохнула мать. – Еще в прошлом году можно было». – «Все течет, все меняется, – процитировал отец, надо думать, знавшего толк в отдыхе Гераклита, – в прошлом да, в этом нет. Куда, кстати, мы в прошлом году ездили? Неужели в Литву?» – «Там были сложности с компотом, – напомнила мать. – Всем, даже неграм, консервированный, русским – из сухофруктов. И с лампочками напряженка. Ты еще в сортире вывинтил, чтобы мы могли перед сном почитать». – «Мелочной народец, – согласился отец, – но в этом году Литва нам не светит». – «А Подмосковье?» – «Глухо. Я узнавал. Даже этого старого пня, нашего завкафедрой отфутболили». – «Но ведь надо же его куда-то везти? – с жалостью и ужасом посмотрела на Леона мать. Она была уверена, раз у него забинтована голова, он ничего не слышит. Только страшно смотрит одним глазом. – Не держать же его все лето с простреленной башкой в городе?»
Тогда-то и вспомнили про новоявленного фермера-арендатора дядю Петю из деревни Зайцы Куньинского района Псковской области.
Отыскали письмо.
Отец внимательно изучил тетрадный, исписанный аккуратным – буква к букве – почерком листок.
Леон ожидал, что он выскажется по сути письма, отец же пустился в сомнительные графологические изыскания.
По его мнению, у дяди Пети был «неразработанный» почерк. Так пишут люди из народа, для большинства из которых время писания навсегда заканчивается со школой. Вот они до старости и пишут как школьники.
Если же человек из народа вдруг увлечется кляузами, доносами, перепиской с официальными инстанциями, апелляциями, поисками правды (по отцу все это находилось в одном ряду), почерк его разрушается, теряет чистые первозданные линии, приобретает размашистую шизоидную мерзость.
– Что удивительно, – продолжил отец, – человек при этом не становится ни лучше, ни грамотнее. А почерк портится.
Леон и мать переглянулись.
– Пете теперь придется много писать, – заключил отец. – Гораздо больше, чем раньше.
Некоторое время Леон и мать молчали. Мысль отца была слишком затейлива, чтобы вот так сразу ее постигнуть.
– Когда неприспособленному, с девственным, замороженным алкоголем разумом человеку приходится много писать, излагать на бумаге заявления и просьбы, – снисходительно разъяснил отец, – он может сойти с ума! Ты там присматривай за дядькой! – весело подмигнул Леону.
Леон подумал, что немного сумасшествия в жизни – это вполне допустимо. Как барбарис в плове, долька лимона к осетрине, вишня в стакане с коктейлем. Но когда отец в результате сумасшедшего рассуждения приходит к мысли, что его брат может сойти с ума из-за того, что ему придется много писать (?), призывает сына, чудом избегнувшего психбольницы (мерзавцы, не хотели верить, что он случайно прострелил себе голову!), присматривать за этим самым, могущим сойти с ума из-за писания дядей, – это уже Зазеркалье, поход грибов, как если бы грибы двинулись с ножами и корзинками на людей, суд деревьев над дровосеком, трибунал рыб над утонувшим по пьянке рыбаком. Всякое здравое слово тут начинает восприниматься как спасительная, отбивающая дух сумасшествия специя.
– Он просит пятьсот рублей, – бросила в дымящееся сумасшествием блюдо эту специю мать, – скажешь, что не в долг, что не надо возвращать, пусть Ленька поживет у него летом.
– А ты уже послала? – мгновенно стряхнул дурь отец. Как только о деньгах, усмехнулся про себя Леон, сразу сумасшествию конец, недавний безумец вмиг становится не только нормальным, но еще и скупым. Что в общем-то странно, так как нет на свете ничего более сумасшедшего, нежели пустые, с каждым днем обесценивающиеся советские деньги.
– Нет, – ответила мать. – Сами отвезете.
– Отвезем? На чем? – взъярился отец.
– На машине, на чем же еще? – спокойно ответила мать. – Не думаю, что туда можно долететь на самолете.
– Ты соображаешь, что говоришь? На какой машине? – чуть не задохнулся отец. – Машина сломана!
– Починишь! – отрезала мать.
Леон подумал: она перебарщивает со специями. Отец, пошатываясь, выбежал из комнаты.
Леон пожалел отца. Слишком много неразрешимых вопросов, свистя, летели в него, безоружного, как вражеские дротики. Отцу следовало быть каким-то сверхъестественным деловым рыцарем, чтобы с честью их отразить. Он таковым не являлся. Единственно, что мог: дать в долг (или без отдачи) брату пятьсот рулей, но это было не бог весть что в талонно-купонной разоренной стране. Леон подумал, что, вероятнее всего, проведет лето в Москве.
Собственно, это не очень его огорчило. Из жизни Леона ушло то, что сообщает физическому существованию видимость смысла, а именно переживания. Ему было все равно, где проводить время: в Москве, у дяди Пети в Зайцах, где-нибудь еще.
Леон ходил через день в поликлинику на перевязки. Медсестра разматывала чалму, пинцетом отдирала присохшие тампоны, накладывала новые, закручивала вокруг головы свежую чалму.
Мать с утра уносилась читать лекции. Ей удалось прицепиться к издыхающему, как она выразилась, обществу «Знание».
Отцу, похоже, спешить больше было некуда. За завтраком он просматривал (если их к этому времени приносили, что случалось все реже, как если бы вся печать в стране сделалась исключительно вечерней) газеты. Затем энергично потирал руки, как алкаш перед выпивкой, подсаживался к телефону. «Так-так, – начинал разговаривать сам с собой на разные голоса, как в радиопостановке. – На московских станциях технического обслуживания автомобилей начался рабочий день. Механики, электрики, жестянщики и прочие специалисты готовы обслужить клиентов. Они ожидают заказов. Звоним на Десятую линию Красной сосны, пять. Что там? Ту… Ту… Сосна-Сосна, я – Береза, прием! Не отвечают. Беспокоим Пролетарский пр., двадцать четыре, корп. три. Занято. Что у нас на Сталеваров, семь дробь один? Ура! Девушка, могу я… Бросила трубку. Связь нарушена. Выхожу вторично. Сталеваров, семь дробь один, как слышите, как слышите?»
В конце концов отец отправлялся в гараж в наивной надежде самолично исправить машину.
На следующее утро снова подсаживался к телефону.
«Так-так, – услышал однажды Леон, – нас записали на декабрь следующего года. Каких-нибудь полтора годика, и подойдет наша очередь».
И все это тянулось, пока не закончилось.
А закончилось с получением второго письма от дяди Пети, написанного уже гораздо более «разработанным» почерком. В письме дядя Петя изъявлял готовность принять «племяша» с условием, чтобы Леон «помогал с птицей и кролями» плюс к этому привел обширнейший перечень, чего привезти из столицы, просил в долг уже не пятьсот, как раньше, а тысячу рублей.
– Манка, гречка, мука, сахар, соль, курево, дрожжи… – с недоумением перечислил отец. – Он что, думает, у нас тут Рим? Третий Рим? Водка! Для расчета с ханыгами. Сам ханыга! Вот ему водка! – сделал неприличный жест рукой. – Насчет тысячи даже не знаю. Обнаглел.
– Семьсот, – сказала мать, – я вчера получила гонорар в «Знании», дашь ему семьсот.
– Тронемся послезавтра в понедельник, – вздохнув, посмотрел на Леона отец. – Книг побольше возьми. Дяди Петина библиотека оставляет желать лучшего.
– На неисправной машине? – удивился Леон.
– Думаешь, полный кретин у тебя батька? – подмигнул отец. – Есть такое волшебное слово: транзит! Надо всего-то допилить своим ходом до первой станции на трассе. Транзитников они обязаны обслуживать вне очереди, потому что транзитникам ехать дальше. На похороны. Мало ли куда? Вам что, не нравится мой план? – недовольно воскликнул, заметив, что мать и Леон кисло помалкивают.
– Он бы сгодился в любой стране, – сказала мать, – за исключением нашей. Никто не станет с тобой разговаривать на станции. С таким же успехом можешь надеяться, что встретишь на шоссе космических пришельцев и они починят машину.
– Нет выхода? Никаких надежд? – уныло спросил отец.
– Денег побольше захвати, – посоветовала мать, – может, за пределами Москвы еще интересуются деньгами. И водяру. За водяру на руках донесут.
– Да где взять? – спросил отец. – Ковер, что ли, продать?
– Спятил? – испугалась мать. – Единственная ценная вещь в доме. Только за доллары. И не сейчас. Такие ковры скоро станут на вес золота.
Они говорили о гигантском, вишневого цвета ковре, подаренном отцу Ашхабадским музеем истории КПСС. На ковре в обрамлении традиционного восточного орнамента были вытканы белые профили Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Ковер отцу подарили в середине семидесятых годов после республиканской партийной конференции, где он выступал с докладом. Тогда на Востоке хорошо дарили. Сейчас бы, конечно, ашхабадские коммунисты никому не подарили ручной работы ковер с четырехголовым призраком коммунизма. Сами бы продали через аукцион «Сотби».
Недавно родители, опасаясь, что сложенный на антресолях ковер сожрет моль, повесили его у себя в спальне. Тем самым объявив себя перед всеми входящими в квартиру врагами демократии и прогресса, воинствующими ортодоксами.
– Спрошу у Гришки, – решил отец, – вдруг у них еще дают в буфете? Нет, попробую с переплатой у грузчиков в гастрономе. Значит, в понедельник! – хлопнул Леона по плечу.
Без чалмы, без въевшихся в кожу тампонов, без нашлепки на правом глазу Леон вроде бы снова стал нормальным человеком.
Вот только внешне немного другим.
Леон остановился в прихожей перед зеркалом.
Он и раньше не отличался полнотой, нынче же сделался концлагерно худ. Черты лица заострились. Кожа на нетронутой левой стороне лица казалась матовой, как бы подсиненной изнутри. В больнице Леону побрили голову, и сейчас у него подрос уголовный пепельный ежик. Он был похож на падшего ангела или на вставшего на путь исправления демона. Но это если смотреть слева. С правой же стороны лица, откуда выковыривали дробь, где был ожог, где накладывали якобы незаметные косметические швы и специальные (как из наждака) стягивающие пластыри, кожа была серо-розовая, негладкая, как бы исклеванная острыми птичьими клювами и исхоженная когтистыми птичьими лапками-крестиками. Эдакий мусульманский орнамент носил Леон на правой стороне лица, как на знамени Аллаха или по краям вишневого ковра с четырехголовым призраком коммунизма, бродящим в пустынях Туркмении. Иногда он был почти неразличим, иногда (когда неудачно падал свет) казался отвратительнее, чем был на самом деле. «Ничего, парень, – сказал Леону хирург, закончив ремонт лица, – отрастишь бороду, никто ничего не заметит». – «Как у Маркса?» – нашлись силы пошутить у Леона. «Да хватит как у Ильича», – ответил хирург. Леон представил себя с бородой как у Ильича, но в глазах поплыло, и он заснул.
Оставалось утешаться, что могло быть хуже, что он мог превратиться в истинного Квазимодо.
И никак было не привыкнуть к правому глазу. Мало того что в нем поселился ветер, он вдруг начинал видеть не так, как левый, как положено человеческому глазу. Давал смещенное, то мозаично-пятнистое, то строго черно-белое, как на контрастной фотографии, то в невообразимом смешении ярчайших цветов конусовидное изображение действительности. Левым глазом Леон смотрел как человек. Правым как насекомое: стрекоза, пчела, бабочка или муха. А иногда как птица, потому что окружающий мир неожиданно уходил вниз, рассыпался крупой под ногами.
Но это случалось не так уж часто.
В остальное время Леон видел совершенно нормально, если не считать ветра в правом глазу.
Дело в том, что в правом глазу Леона, точнее, не в самом глазу, а в мягких тканях за глазом, так сказать в заглазье, пробив тонкую височную кость, засела дробина. Извлечь ее без сложнейшей нейрохирургической операции (в Союзе таких, естественно, не делали) не было никакой возможности.
В больнице изготовили рентгеновский снимок. Леон видел светящуюся точку посреди смутных теней, неясных очертаний, как комету, летящую внутри его черепа.
Врачи объявили, что подобная «в капсуле» дробина в принципе не может причинить особенного вреда. Нехорошо только, что она засела в непосредственной близости от зрительного нерва, который лишь по счастливой случайности не задела. Случившееся «нехорошо» неизмеримо лучше того «нехорошо», которое могло случиться. В иные моменты (в зависимости от колебаний внутричерепного давления) не исключается плотное прилегание дробины непосредственно к зрительному нерву. Правый глаз при этом, возможно, будет слезиться. На этот случай опытные врачи предусмотрели специальные глазные капли, которые Леон отныне должен постоянно иметь при себе.
Леон оценил юмор врачей. Правый глаз был неизменно сух. Прилегание дробины к зрительному нерву выражалось в том, что дробина дробила картину мира, но Леон скорее предпочел бы окриветь, чем вступить в новые отношения с врачами.
Он понял, что врачей не миновать, как только пришел в себя на полу в крови, с опаленно-прожаренной, начиненной дробью, как черным перцем-горошком, головой.
Впрочем, сначала, после калейдоскопическо-ворончатого (от слова воронка, а не ворона) кружения, после недолгого (а может, долгого, кто знает?) провала, когда сознание вернулось настолько, что он сумел отличить жизнь от смерти, понять, что номер с коммунизмом не прошел, первая оформленная мысль Леона была вовсе не о врачах, а о том, что дело не сделано.
Вторая мысль: почему не сделано?
Изображение в правом глазу было разбито вдребезги. Левый видел нормально. Если не считать, что как бы через монокль красного стекла. Уши слышали. Леон вспомнил, что, уходя в коммунизм, не слышал звука выстрела. Был какой-то мерзостный пук. Из дула ружья, как из сдвоенной трубы, курился вонючий дымок. Он еще успел подивиться: как тихо при коммунизме! Леон догадался, что дело не сделалось потому, что патроны от долгого лежания в коробочке утратили боевую мощь. Порох отсырел, а может, высох капсюль. Только красный галстук на шее пионера-тетерева не потерял цвета. Леон понял, что ему с его глазами и ушами не дождаться Красной Шапочки – коммунизма. Действие, как в устаревшей Программе КПСС, сюрреалистически сместилось: вместо Красной Шапочки пожаловал охотник!
Третья мысль: можно ли доделать дело?
Леон пошевелил руками и ногами. Вроде бы слушались. Сумел даже сесть на ковре. Но лишь на мгновение и с немедленной потерей сознания. Нечего и думать было по новой заряжать стволы. Но если бы ценой сверхъестественных усилий и удалось, где гарантия, что очередные патроны выстрелят как полагается?
Четвертая мысль была революционно-демократической: что делать?
Отдохнув на спине, Леон перевернулся на живот. С заливаемым кровью лицом (любое движение заставляло кровь, как жизнь при товарище Сталине, бежать лучше и веселее), дополз до закрытой на задвижку двери. Как в фильме ужасов, поднялся на подгибающихся, воздушных ногах, печатая по белой двери кровавые абрисы ладоней. В вертикальном положении Леон почувствовал, что, несмотря на то что вместо выстрела получился пук, голова тяжела, как гиря. Удивился: да как же можно быть живым, когда в голове столько свинца? После чего собрал последние силы, крикнул в кухню, откуда доносились позывные программы «Время» в стеклянно-рюмочной (как раз чокались) окантовке: «Мама! Я хотел собрать ружье, а оно… выстрелило! У меня кровь из головы, мама!» И уже ничего не видел, не слышал, валясь в коридор навстречу до боли родному, в русых локонах, широкоскулому пьяноватому лицу.
Очнулся в больнице.
Так что, если быть точным, только пятая его мысль была о врачах, причем мысль эта отнюдь не являлась продуктом свободного сознания, а была строго детерминирована, то есть обусловлена неоспоримым фактом пребывания Леона на больничной койке в крови и в бинтах.
Леону понравились врачи, непосредственно занимавшиеся своим врачебным делом: копавшиеся длинными, сверкающими в огне ламп операционной инструментами в его правом глазу, выковыривавшие из головы прижарившиеся, как гренки к яичнице, свинцовые дробины, обрабатывавшие, подрезавшие ножницами обожженную кожу. Они были суровы и немногословны, эти врачи с погасшими глазами, серыми от усталости лицами. Чем-то они напоминали учителей.
Совсем не понравился Леону каким-то образом прознавший про него врач-психиатр из районного психдиспансера.
Леон неоднократно беседовал с ним в ординаторской.
В ординаторской было убого и несвободно, как в кабинете следователя. И так же негусто с мебелью: продавленный кожаный черный диванчик, похожий на сапог, стол, стул, вешалка, на которой висели серенькие белые халаты, почему-то с расплывшимися штемпелями: «Киевский райпищеторг г. Москва». На окнах, однако, отсутствовали решетки, да и разговаривал психиатр относительно спокойно, насколько это было возможно для врача из районного психдиспансера, разговаривающего с уличенным в попытке суицида подростком.
Сидя за столом, врач задавал вопросы и непрерывно писал. Леон, вжавшись в изношенный сапог-диванчик, недоумевал: неужели скудные, однозначные его ответы дают основания для столь бурного, в духе Федора Михайловича Достоевского, сочинительства?
Психиатр сразу заявил, что не надо ему вешать на уши лапшу про «несчастный случай». В красках живописал Леону, что того ожидает в случае постановки на учет в психдиспансер, куда, как известно, ставят на учет всех несостоявшихся самоубийц. В институт – только в самый тупой, гидромелиоративный, в армию – исключительно в стройбат к чуркам, за границу ни в жизнь, разве только со стройбатом в Афганистан восстанавливать разрушенное, к этому идет, раз в два месяца на собеседование, каждый год, как штык, на обследование с электрошоком, барбитуратнитрат-бромидами внутривенно и внутримышечно. Потом, правда, врач заметил, что да, конечно, время сейчас либеральное, точнее, развальное, но ведь, совсем как недавно отец, процитировал Гераклита, все течет, все меняется, не может нынешний маразм длиться вечно, кто-нибудь да остановит крепкой рукой либеральные розвальни. «Родители у тебя кто?» – поинтересовался врач. Леон ответил. «Они тебе лучше объяснят», – сказал врач, а затем (в десятый, наверное, раз) поинтересовался: что все-таки побудило Леона свести счеты с жизнью? И Леон в десятый же раз повторил, что произошел несчастный случай, не собирался он сводить счеты с жизнью. На что психиатр пустился в рассуждения, что вполне понимает Леона: не хочется жить после того, как совершишь гнусность, превосходящую меру человеческого разума. И все смотрел, смотрел в глаза Леону не тусклым, как у остальных врачей, а блестящим птичьим взглядом. И все писал, писал, как будто склевывал что-то с нищего ординаторского стола.
Предположение психиатра, как ни странно, сообщило Леону волю к жизни, так как если чего еще в жизни он не совершил, так это именно гнусности, превосходящей меру человеческого разума. Пока что гнусности, совершенные Леоном, вполне укладывались в эту самую меру. Даже оставалось свободное местечко. А психиатр гнул свое: помешать обдуманному самоубийству может только Господь Бог. С единственной целью: чтобы согрешивший покаялся, облегчил душу. При упоминании Господа Бога блестящий птичий взгляд психиатра становился проникающе-змеиным. Под этим взглядом Леон змеино же соскальзывал то ли в сон наяву, то ли в длинный, как тело анаконды, обморок. Потом просыпался на кирзовом диванчике со странной легкостью в теле, но со свинцовой тяжестью в затылке, снова видел перед собой пишущего психиатра.
Леон не сомневался: психиатр не в себе.
Когда он явился на очередную беседу, из ординаторской вышел угрюмый синелицый, как марсианин из произведений Рэя Брэдбери, парень с перевязанными до локтей руками, как будто в толстых белых нарукавниках. «Что, – хмыкнул парень, – и тебя раскалывает на малолетку?» – «Малолетку?» – удивился Леон, «Вот придурок, – выругался парень, – даже если бы я изнасиловал, придушил и закопал малолетку, на кой мне кончать с собой? Какая тут взаимосвязь?» – и, нехорошо рассмеявшись, пошел по больничному коридору мимо коек, на которых хрипели не поместившиеся в палаты, привезенные ночью переломанные мотоциклисты.
Последняя беседа с психиатром получилась протокольная. Он попросил Леона рассказать с точностью до минут, чем он занимался с тринадцати ноль-ноль до пятнадцати сорока в день накануне. «Несчастного случая?» – уточнил Леон. Психиатр поморщился, но не стал вспоминать ни про гнусность, превосходящую меру человеческого разума, ни про Господа Бога, якобы ожидающего от Леона покаяния. Как-то он охладел к Леону, услышав, что с девяти до четырнадцати тридцати тот находился в школе (это могли подтвердить одноклассники и учителя), а с четырнадцати тридцати до шестнадцати двадцати играл в футбол на школьной спортивной площадке, что опять-таки могли подтвердить две команды по семь игроков в каждой, а также русский физкультурник, изображавший из себя судью.
На сей раз в глазах психиатра не наблюдалось блеска, тусклы были его глаза, как и у остальных врачей в больнице. «Выздоравливай, – зевнул он в лицо Леону. – Если понадобишься, позову, – и, когда обрадованный Леон схватился за ручку двери: – А вообще-то самоубийство, особенно для мужика, трусость. Если, конечно, не гомосек и не схватил СПИД. У тебя пока нет СПИДа. Живи и радуйся!»
Леон вышел.
У окна ждал парень. На сей раз он шел вторым. Повязки на его руках за это время сделались значительно тоньше.
– Чего придурок лепит? – поинтересовался парень.
– Лепит, что самоубийство – трусость. Особенно для мужика. Если, конечно, не гомосек и не схватил СПИД, – честно передал Леон.
– Ага, трусость! – разозлился парень. – Попробовал бы сам, козел!
– Ты как? – шепотом поинтересовался Леон.
– Не видишь, что ли? – усмехнулся парень. – Вены резал. Левую путем развалил, а правую… – махнул забинтованной рукой. – Как ее разделать, если левая рука уже не действует? Эта вена, – брезгливо продолжил парень, – она такая синяя, как червяк, скользкая, падла! Я и так, и так… Одно понял: надо быстрее сечь, пока руки слушаются.
– Что ему говоришь? – кивнул Леон на дверь ординаторской.
– Понятно что, – пожал плечами парень, – баловался с бритвой.
– Опасной? – зачем-то уточнил Леон.
– Ага, если бы опасной или скальпелем, – хмыкнул парень, – зубами бы догрыз. Дурак я, лезвием «Нева»! Тупой черной совковой сволочью!
Тут из ординаторской вышел психиатр, и они замолчали.
Леону было смертельно скучно в больнице.
Через пару дней он отправился на поиски бритвенного парня, но обнаружил того выписывающимся, бранящимся с санитаркой из-за пропавшего полотенца. «Тот солдат тоже говорил, что не брал, – бубнила санитарка, – а сам пять штук на портянки!»
Парень был не радостен, не грустен, но спокоен. Что-то даже насвистывал себе под нос. Марсианская синева на его лице несколько разбавилась. Теперь обескровленное лицо парня было цвета голубоватой раковины, какие в последние годы потеснили в квартирах и учреждениях неизменные белые.
– Больше не вызывал? – спросил Леон, лишь бы что-нибудь спросить.
Он давно уяснил: самые достойные люди те, кто не ищет общения с другими, а если случается в силу обстоятельств познакомиться, совершенно не стремятся к продолжению знакомства. Бритвенный парень был именно таким. Не он пришел к Леону. Леон пришел к нему. Леон крайне редко по собственной воле ходил к кому бы то ни было.
– Ящик, что ли, не смотришь? – спросил парень. – Вчера по Москве передали: взяли дядю, который душил малолеток.
– Вот как?
– А ты думал, – усмехнулся парень, – ему и впрямь интересно: самоубийство или несчастный случай? Плевать он хотел! По милицейской линии разнарядка: проверить всех, кто на себя покушался, может, кто из них? Ладно, мне пора, – вскинул на плечо сумку, пошел к лестнице.
Леон остался на месте. Бежать за парнем он не собирался. Пусть даже тот очень достойный человек.
Леону стало грустно. Ему всегда становилось грустно, когда он чего-то не понимал, но понимал, что это «что-то» вровень или выше, но никак не ниже его понимания или непонимания. Ему казалось, они с бритвенным вроде как братья по несостоявшейся смерти, какие-то в мнимом этом братстве прозревал Леон объединительные бездны, а бритвенный, похоже, не придавал этому ни малейшего значения.
Леон смотрел парню вслед и не мог отделаться от мысли, что парень знает что-то такое, что Леону бы тоже не худо знать, но вот парень уходит, и теперь Леон ни в жизнь не узнает. Если, конечно, не принимать за это сообщение, что совковым лезвием «Нева» вены не вскрыть. Миновав пролет, парень остановился.
– Эй! – крикнул не оглядываясь. – Еще стоишь?
– Ухожу, – ответил Леон.
– Если ты хотел покончить с собой, – обернулся парень, – а у тебя ни хрена не вышло, это не означает, что, когда ты выйдешь из больницы и тебя вдруг кинутся убивать, ты будешь благодарен этим людям, – и – мягкий топот кроссовок по каменным скорбным ступенькам.
А вскоре и самого Леона выписали из больницы, перевели на амбулаторный режим.
Все эти дни, сидючи ли дома за книгой, насекомьи ли выставясь из окна в пятнисто-мозаичный двор, в поликлинике ли, в так называемой чистой перевязочной, где медсестра, поджав губы, вместе с кровавой коркой отрывала от головы присохшие тампоны, Леон частенько вспоминал слова парня.
Едва только выйдя из больницы на залитый солнцем теплый асфальт, он подумал, что было бы очень неплохо, если бы кто-нибудь прямо сейчас убил его. Только кому он был нужен – шатающийся дистрофик с изуродованным лицом, с головой в бинтах, как в чалме или в шлеме пилота? Недолетевшего до цели пилота?
Но когда Леон выбрался на улицу во второй, в третий раз, ему уже не очень хотелось, чтобы его убивали. А еще через несколько дней он развил, дополнил мудрейшую, как ему открылось, мысль парня: «Если ты хотел покончить с собой, а у тебя ни хрена не вышло, это не означает, что, когда ты выйдешь из больницы, тебе снова захочется покончить с собой». Леон понял, что выздоровел. Больше он не будет пытаться покончить с собой.
В своей комнате в книжном шкафу Леон обнаружил цветную фотографию класса, сделанную в этом учебном году. Долго всматривался в маленькие, как гривенники, лица, с трудом вспоминая, как кого зовут. Единственная царская золотая пятерка живо поблескивала в затертом тусклом ряду. Но и до Кати Хабло Леону дела не было. О чем с ней говорить? Его более не интересовали ни будущее, ни судебный (от слова судьба) ход планет.
Как, впрочем, и все остальное.
Образовалась пауза, годная разве лишь на то, чтобы шлифовать до евангельского совершенства проклятую мысль, от которой Леон избавился. А отшлифовав, убедиться, что и она никуда не годится. Леону открылось, что, пока мысль жива, она не нуждается в шлифовке. С утратившей же жизнь мыслью можно делать все что угодно.
Мать читала лекции в издыхающем обществе «Знание».
Отъезд, естественно, пришлось перенести.
Отец пытался починить машину, а когда не пытался, челночил по городу в поисках водки.
Водка с трудом, но собиралась. Все разных сортов, как если бы отец был настоящим водочным гурманом. Или хватающим что попадется алкашом. Истина, как всегда, находилась посередине.
Пузатенькая польская «Житна». Длинношеяя «Пшеничная», почему-то ашхабадского ликеро-водочного завода с верблюдом в кружочке. Забытая партийная семисотпятидесятиграммовая «Посольская», зябко укутанная в белую шуршащую бумагу. Пяток реликтовых четвертинок «Российской» в синеватых – с пузырьками – бутылках.
Отец, как заботливый старшина, ежевечерне пересчитывал по головам формирующееся в рюкзаке на кухне водочное ополчение. «С таким рюкзачком мы нигде в России не пропадем!» – без конца повторял он и радостно потирал руки.
Мать и Леон устали выражать восхищение водкособирательной энергией отца. В многотрудном этом деле он явил энергию, достойную Минина и Пожарского.
В магазинах не было ничего. Разумно было бы озаботиться и съестными продуктами. Но отец всякий раз приносил… водку. «Когда нечего купить, тянет на водку», – сокрушался он. «Ты, Ваня, больше по магазинам не ходи, – поморщилась мать, – жратву я сама добуду».
В воскресенье вечером накануне отъезда Леон заглянул в кухню.
Отец сидел на стуле. На полу перед ним раскрытый рюкзак с бутылками. Отец доставал по одной, лучисто смотрел, опускал обратно, награждая снисходительными шлепками по крепким стеклянным задам.
– Собираюсь, – отец смутился, поскучнел, как обычно смущается и скучнеет человек, когда его отвлекают от интересного, требующего сосредоточенного одиночества дела.
– Где маленькие достал? – подбодрил его Леон.
– У грузчиков в гастрономе, – оживился отец. – Вот ведь какое дело, – испытующе посмотрел на Леона, – идет к тому, что это будут единственные на Руси деньги. Жидкие купюры. Изначально все заложено. Грамм – копейка, рубль, червонец, да хоть тысяча. В зависимости от инфляции. Вот эти, – кивнул на четвертинки, – готовые двадцатипятирублевки. Эта, – приподнял польскую «Житну», – полусотенная. Ну а эта красавица, – трепетно прикоснулся к шуршащему платьицу «Посольской», – трехчетвертная. Семидесятипятирублевка. В сущности, никаких других денег в оставшееся для России время уже не понадобится.
– А литровую? – поинтересовался Леон. – Отчего не ввести сторублевку?
– Непредсказуемая купюра, – быстро отозвался отец, и Леон понял, что он над этим думал, – может вытеснить и обесценить все остальные. Тяжеловата в употреблении. Нет, сторублевку не потянем.
Тут ввалилась полумертвая от стояния в очередях мать. Как робот, прошагала на кухню, поставила сумки на пол, со стоном села на табуретку, опустив голову и руки.
Леон смотрел на ее русые локоны, широкоскулое лицо, голубые, но сейчас бесцветные от усталости глаза и думал, что мать – самый что ни на есть народ. В очередях, где она сегодня весь день стояла, никому и в голову не могло прийти, что эта женщина – преподаватель научного коммунизма.
Если раньше коммунистичность матери носила во многом служебно-внешний характер – в аудиториях, на партсобраниях, семинарах, ноябрьских и майских демонстрациях, единых политднях и т. д., – сейчас сделалась затаенно-внутренней, идущей от сердца, превратилась в тот самый праздник, который, по утверждению Хемингуэя, всегда с тобой. Главным образом, конечно, в очередях.
Это свидетельствовало, что народ, плоть от плоти которого была мать, ненавидящий коммунистов народ, тем не менее носил в сердце коммунистичность, выражающуюся хотя бы в том, что предпочитал оставаться с праздником очередей, но не трудиться. Народ ненавидел коммунистов по-коммунистически. То есть в лучшем (для коммунистов) случае хотел отобрать у них добро (как это в свое время проделали с народом сами коммунисты), в худшем – истребить всех коммунистов (как те, когда были в силе, истребляли народ). Получалось, что народ коммуни-стичен, а коммунизм народен. Леону казалось странным, что бесспорные эти мысли не приходят в голову нынешним теоретикам. А если приходят, они почему-то об этом молчат. Стало быть, все, что сейчас происходило, всего лишь обольщало душу народа, в действительности же (как и всякое обольщение) шло против его сердца. Неужто, упорствуя в коммунизме, отец и мать не отрывались от народа?
– На первое время еды хватит, – кивнула на сумки мать. – Потом отец еще подвезет.
Отец засуетился, растащил сумки по углам, выдернул из рюкзака «Посольскую».
– Единственная радость, – достал из холодильника колбасу, банку шпрот, поставил на стол стаканы. – Единственная пока еще доступная и пока еще радость. Особенно после дня в очередях.
– Ты же хотел с собой, – в безнадежном, как зола, взгляде матери мелькнула искорка жизни.
– «Посольскую»? В Зайцы? – воскликнул отец. – Не поймут! К тому же Петя отныне трезвенник!
Они выпили, закусили, повеселели. Отец расправил плечи. У матери заблестели глаза, на щеках заиграл румянец. Она сделалась очень даже симпатичной. И усталость как рукой сняло.
Жизнь, еще мгновение назад ненавистная нынешняя жизнь, вновь показалась родителям достойной обсуждения.
Впрочем, обсуждение оказалось кратким. Ибо все у родителей было давно обговорено: и про обольщение народа, и про верные коммунизму сердца.
Выпили по второй.
– Сволочи! Э, да что говорить! – махнул рукой отец, предложил по третьей.
Мать отказалась и ему не позволила. Отцу и Леону завтра ехать на неисправной машине.
Родители ушли из кухни. Их веселые голоса доносились из прихожей. Они никак не могли отыскать резиновые сапоги, без которых Леон пропадет в Зайцах.
Леон плеснул себе «Посольской».
В общем-то, ему не хотелось, но он не мог забыть, как только что преобразились на его глазах усталые и опустошенные родители. И Леону захотелось преобразиться. В момент, когда наливал, правый глаз стал видеть по-насекомьи. Бутылка предстала голубой мозаичной рыбой, вставшей на хвост. Водка в стакане претерпела спектральное разложение. То ли жидкую радугу, то ли пылающий ацетон проглотил Леон, чудом не пронеся теряющий форму, плавящийся в руке стакан мимо стрекозьего рта.
Обычно, когда картинка в правом глазу распадалась, наполнялась дробным свинцовым ветром, Леон попросту прикрывал правый глаз, предпочитая насекомьему видению темноту. А тут, хлебнув «Посольской», заев колбасой, исполнившись сил и уверенности, прикрыл левый человечий глаз и полетел, пополз, поскакал по изменившейся квартире, как оса, муравей или кузнечик.
Леона выручало то, что практически каждый человек с нормальными рефлексами может однажды пройтись по собственной квартире с закрытыми глазами без особого риска что-то разбить или на что-то налететь. Вытянув вперед руки (лапки?), Леон отважно ступил в дробящийся, мозаично-жидкий, как бы разноцветно текущий в берегах-стенах коридор.
Мать с отцом к этому времени отыскали в прихожей один сапог и сейчас увлеченно спорили, где может быть второй. Леон не горел желанием принять участие в поисках, поэтому завернул в родительскую спальню, где на стене висел знаменитый ковер с белыми профилями классиков марксизма-ленинизма.
Сейчас, впрочем, ковер более напоминал экран компьютера, на котором шла многосложная электронная игра. Профили замесились на экране в ком из теста. Он ежесекундно менял форму, словно неведомый игрок собирался что-то из него вылепить, да только никак не мог решить, что именно.
Леону прискучило прихотливое мелькание. Он решил поменять глаза, перейти в человечий зрительный режим.
Но вдруг белый ком на экране-ковре четко и окончательно превратился в профиль (посмертную маску), в котором Леон с изумлением узнал… собственное лицо, каким оно станет, если он доживет до глубокой старости. Проклятая же мысль бритвенного парня, которую Леон столько времени шлифовал и наконец отшлифовал до евангельского совершенства, вдруг зажила собственной жизнью, побежала белыми буквами по ковру, как некогда другая мысль буквами огненными по мрамору Валтасарова дворца в Вавилоне: «Если ты хотел покончить с собой, но у тебя не вышло и ты выбрался из больницы живой, тебе все равно не жить, потому что убьем тебя мы!»
Это другая мысль, успел подумать Леон, как по ковру пробежало, угасая, продолжение: «Если хочешь, чтоб мир был твой, присоединяйся!» Тут же профилей на ковре стало пять. Последний – старческий Леонов.
В правом глазу дернулось, он стал вновь видеть по-человечьи. Но Леон не обрадовался возвращению. Его не оставляло чувство, что с человечьего мира уже снята посмертная гипсовая маска.
Выехали из Москвы ранним утром, которое провели в очереди за бензином. Так что уже и не ранним, а просто утром.
Первый раз машина заглохла на Ленинградском проспекте. Затем периодически глохла в самые неподходящие моменты (во время обгона), в самых неподходящих (на перекрестках, когда давали зеленый свет) местах. Лишь высочайшим классом других водителей, а скорее всего, случайностью можно объяснить тот факт, что в них никто не врезался.
Дергающаяся, пунктирная, с руганью езда продолжалась до автострады Москва – Рига, которую немецкая строительная фирма «Вритген» довела пока только до Волоколамска.
На автостраде заглушка чудесным образом прекратилась. Сто с лишним километров пролетели с ветерком. Отец приободрился, стал мечтать, как они сегодня с дядей Петей тяпнут за ужином водочки под копченого угорька. Дядя Петя отписал, что в озере, на берегу которого стоит его дом, тьма угрей и судаков. Леон пожалел отца, мечты которого в последнее время свелись к водке и еде, еде и водке. Стоило миновать Волоколамск, на узком в выбоинах, как будто его расстреливали с самолетов, шоссе беспечальная езда закончилась.
Они как раз затесались в колонну автобусов, везущих детей в пионерский лагерь. Пару раз отцу удавалось запускать заглохший двигатель на ходу, так что только падала скорость и автобусы сзади возмущенно сигналили. В третий раз пришлось мертво встать посреди шоссе, скатиться на обочину не удалось, так как именно в этом месте шоссе было ограждено высоким бордюром.
Неловко так получилось.
Вставшие автобусы гудели, как библейские иерихонские трубы. Потом стали объезжать, и каждый проплывающий водитель лаял сверху из кабины. Первым отец вяло отвечал, затем угрюмо смолк, подняв стекло, как воротник на пальто. Водитель последнего автобуса даже ничего и не пролаял, просто брезгливо посмотрел на набычившегося за рулем отца, как на живую кучу навоза.
– Так дальше ехать нельзя! – воскликнул отец, долбанул кулаком по рулю.
Тишину пустого шоссе нарушил жалобный, как крик подстреленной цапли, звук сигнала. Ужин с водочкой и копченым угорьком становился проблематичным. Не в смысле водки, которая была с собой, а в смысле копченого угорька, до которого надо было доехать. Леон удивился, что отец так поздно уяснил, что так дальше ехать нельзя.
– Но тогда как? – прорычал отец.
– С исправным двигателем, – сказал Леон.
– С исправным двигателем не получается, – спокойно ответил отец. – Никак не получается. Хоть умри.
Леон чуть было не поинтересовался: а, собственно, почему? Но удержался, так как вступать в разговор на эту тему значило торить дорогу в безумие, повторять зады только что прослушанных по радио новостей экономики. В магазинах пусто, а на складах и в неразгруженных (почему?) вагонах гниют продукты. Свое зерно под снег, чужое за золото. Нет бутылок, а их, оказывается, миллионами крушат на пустырях бульдозерами. Экономическая (и прочая) жизнь в стране была иррациональна. Все тропинки, дороги, сработанные немцами автострады вели не в Рим, но в безумие. Сбиться с пути было попросту невозможно.
Отец сам был сеятелем иррационального – преподавал научный коммунизм. Но почему-то раздражался, когда иррациональное прорастало из теории в практику повседневного существования. Отец предпочитал, чтобы урожай собирали другие.
Кое-как на второй передаче (почему-то в этом режиме двигатель меньше глохнул) добрались до ближайшей бензоколонки.
– Это невозможно! – отец ткнул пальцем в красную мигающую точку на приборе, свидетельствующую, что бензин на исходе. – Мы в Москве залили полный бак, а проехали меньше двухсот километров. Как же так?
Судорожно дернувшись, машина (на второй передаче) стала напротив кирпичной будки, из окна-бойницы которой, как некормленая рыба из аквариума, смотрела хозяйка бензоколонки.
Отец выскочил из машины, хлопнув дверью.
Леон тоже решил размяться. Вышел и чуть не упал, так стремительно бросилась под ноги мозаично расчлененная насекомья земля. Но взгляд выправился, вынырнул, как самолет из штопора. Леон устоял, схватившись за дверцу.
Отец тем временем приблизился к окошку. Там имелась небольшая витринка с запчастями.
– Не все безнадежно в стране, – удовлетворенно произнес отец, – рынок работает. Запчастей как в Америке. Все куплю! Дядя Петя перебьется, вернусь, пошлю деньги по почте. Всего двести километров от Москвы, чудеса!
– Ты там внизу читай! Купит он! Ишь ты, купщик! – хрюкнула хозяйка.
– Ничего, – улыбнулся провинциальной ее наивности отец, – переплата меня не пугает.
– Там все расписано, – улыбнулась столичной его наивности хозяйка. – Читай, мужичок!
– Только для сдатчиков сельхозпродукции, пайщиков потребкооперации, – прочитал отец. – Аккумулятор (СФРЮ) – сто килограммов шерсти-сырца. Свечи зажигания (ФРГ) – двадцать килограммов… чего?.. бычьих семенников. Генератор (НРБ) – шкуры коровьи, принимаем собачьи, сырые, пять, собачьи пятнадцать штук. Тромблер (Италия) – тыквы, одна тонна. Сволочи! – крикнул отец.
– Да будь просто за деньги, – довольно хмыкнула хозяйка, – тут бы очередь от самого Ржева стояла. Ну, насмешил, мужичок!
Леон почувствовал, что в ее власти продать отцу и генератор и аккумулятор, только вот отец не нашел подхода к прихотливому, избалованному сердцу хозяйки. Потому ничего она ему не продает. Еще Леон обратил внимание, что хозяйка – не старая еще женщина. Но близость к дефициту, за который люди готовы на все, убила в ней сострадание к (этому самому, готовому на все) ближнему. Если нет сострадания к ближнему, человеческое (не важно, мужское, женское) лицо превращается в говорящую задницу.
– Ну хоть бензина, красавица, налей, – зловеще и спокойно произнес отец.
Леону не понравилось, как он сказал. Так, наверное, разговаривал перешедший Рубикон Юлий Цезарь. Лютер, очнувшийся на горе после удара молнии.
– Двадцать литров налью, – с сожалением ответила хозяйка. – Больше не положено, у меня полторы тонны на сутки. – Но встретившись глазами с отцом, быстро передумала. – Могу, конечно, и сорок.
Леон испугался: неужели отец сейчас чиркнет спичкой и сожжет, как в американском фильме, бензоколонку?
– И канистру? – слова отца звучали как приказ.
– И канистру, – как эхо, отозвалась хозяйка.
Леон перевел дух. Он не подозревал в отце способностей в духе Кати Хабло. Сейчас отец вполне мог приобрести за наличные и генератор, и аккумулятор, и тромблер. Но открывшаяся в водах Рубикона, ослепительном свете Лютеровой молнии истина была столь значительна, что не предполагала размена на мелкие личные выгоды. Подразумевался иной – куда более крупный – выигрыш. Хотя, если вдуматься, мог ли быть для советского автолюбителя выигрыш крупнее, чем аккумулятор, генератор и прочее? Стало быть, отец собирался выигрывать не как автолюбитель.
Леону только оставалось надеяться, что он знает, что делает.
– Какой тут ближайший город? – строго спросил отец.
– Нелидово, – испуганно выдохнула хозяйка.
– Сколько километров?
– Пятнадцать. Через два километра поворот направо, там указатель.
– В Нелидово есть станция техобслуживания?
– Улица Ленина, шесть.
Расплатившись, отец залил бак и канистру, сел за руль, тяжелой рукой повернул ключ зажигания. Машина немедленно завелась и не смела глохнуть, пока выезжали с бензоколонки, ехали по шоссе до поворота на неведомое Нелидово, и после поворота держалась молодцом.
Как будто внезапно обретенная отцом власть над действительностью распространялась на неодушевленные предметы, к каким относилась машина.
Как будто в закручивающемся над страной смерче хаоса отец прозрел некий стержень, взявшись за который можно было, подобно Богу, усмирить смерч. Углядел звено, ухватив которое можно было вытащить из ревущего, взбесившегося дерьма всю цепь.
Отец, уверенно ведущий ревущую на второй передаче, как это самое дерьмо, машину, объяснил, что это за стержень, что за цепь.
– Сволочи! – сказал отец. – Они забыли, кто в этой стране хозяева, сволочи!
Леон с интересом посмотрел на отца. Насекомий глаз дрянно подшутил: волевое отцовское лицо вдруг сделалось нематериальным, как призрачные профили на вишневом ковре. «Они хозяева? – удивился Леон. – Опять?»
И все равно любо было смотреть на подтянувшегося, посуровевшего, обретшего под ногами почву отца. Двухдневная его щетина, наводившая прежде на мысль о некоей деградации, сейчас выглядела победительно и мужественно, как на лице солдата, который сидел в окопе, стрелял в неприятеля, и, следовательно, не было у него времени побриться черным совковым лезвием «Нева».
Только вот источник, откуда отец черпал живую силу, был мертв, и охраняли его привидения.
Леон подумал, что слишком уж дробно-подробными сделались его мысли. И бессмысленными, как рассыпающаяся по стеклу дробь. Заключенная в патрон дробь стреляет, хоть и не всегда. Рассыпающаяся по стеклу – никогда. Леон рассыпал свою дробь. Отец свою собрал в патрон. А побеждает всегда тот, у кого дробь в патроне.
– Все, что сейчас происходит в стране, – мерзость! – с невыразимым отвращением произнес отец. – Подлейшая, вреднейшая чушь! И исправлять надо, как умеем! И лучше всего – как умеем лучше всего! Только так. Иначе… – недоговорил, настолько непереносимым было «иначе», злобно, как в прицел, сощурился, стиснул зубы.
А между тем уже бежал вдоль дороги в зелени травы и деревьев, в безлюдье и запустении деревянный город Нелидово.
И встали на пустынной, залитой солнцем центральной площади, в середине которой, как и положено, помещался приземистый остроплечий идол в блатном кепарике на несоразмерном подставце-кубе. Как будто готовили под размером побольше, но в последний момент урезали смету. Потому-то, знать, и казался идолок обиженным и злоумышляющим. Эдаким вздернувшим плечики хулиганом пер на народ, поигрывая в кармане ножичишкой.
За спиной хулигана виднелся трехэтажный, под красным знаменем каменный (бетонный) райком или горком. Впереди – низкий ряд кривых деревянных домов-магазинов, в которых угадывалась вонючая пустота. По правую руку (одесную) – каменный (кирпичный), вымоченный дождями, иссеченный вьюгами, недоразрушенный храм-скелет с переплетенной, завязанной в узлы арматурой вместо куполов. В узлах густо расположились грачи и вороны – последние, по всей видимости, православные существа на Руси.
Нелидово не производило впечатление места, где можно приятно провести время: отдохнуть, пообедать, погулять, осмотреть достопримечательности, купить в дорогу продуктов (вообще что-нибудь купить), в особенности же починить машину. Хотя какие-то машины нет-нет да и проскакивали по площади.
– Хватит стоять! – машина взревела. Они подлетели к райкому-горкому, как коммандос на джипе. – Со мной или посидишь? – отец выхватил из бумажника красно-золотое, иконное, с гербом удостоверение Академии общественных наук при ЦК КПСС.
– Посижу, – Леон понял, что ему не угнаться за помолодевшим отцом.
Отец рванул по ступенькам, как спортсмен.
Леон выбрался из машины. Воздух в Нелидове был прозрачен и чист. Очевидно, на заводы, которых здесь не могло не быть, уже не завозили сырье. Или повыходило из строя оборудование одна тысяча девятьсот четырнадцатого года. Грачи и вороны разлетались с купольной арматуры. Служба закончилась.
Леон обратил внимание, что лестница, возносящая здание райкома-горкома над площадью, устроена своеобразно. Первая и последняя ступени чрезвычайно широки.
Леон вспомнил, что подобные ступени, кажется, называются стилобатами. И еще вдруг ни к селу ни к городу вспомнил про свободу, у стилобата которой кто-то когда-то в чем-то клялся. Леон, как ни старался, не мог доподлинно вспомнить, кто это был, когда жил и зачем клялся, зато с уверенностью вспомнил, что клятвы своей тот, неведомый, не сдержал.
Свобода, подумал Леон, похожа на неискушенную провинциальную девушку, которой лихие молодцы обещают то любовь до гроба, то законный брак. А в итоге запирают в публичный дом. И еще подумал, что у райкомовско-горкомовского стилобата звучали не менее страстные клятвы в верности партии. Но если свободу еще можно было вообразить в образе обманом загнанной в публичный дом честной девушки, партию – только в образе пожилой, густо намазанной, выходящей в тираж проститутки, знававшей лучшие времена, но более не могущей содержать многочисленных молодых сутенеров. Конечно, и та и та вызывали жалость. Но если первую следовало жалеть, как Сонечку Мармеладову, вторую, как… старуху-процентщицу?
Леон, впрочем, не успел додумать до конца эту мысль, пустить ее прыгать дробью по стеклу.
Сопровождаемый кем-то безликим, серокостюмным, на верхнем стилобате появился отец. Серокостюмный вычертил в прозрачном нелидовском воздухе многоугольник сложнейшего маршрута. Обилие ломаных пересекающихся линий наводило на мысль о пятиконечной звезде Соломона или шестиконечной звезде Давида, а то и древнеиндийской, опороченной Гитлером, свастике. Даже не верилось, что в Нелидове возможна такая путаная езда.
– Симпатичные ребята, – отец сел за руль, твердой рукой запустил двигатель.
Мотор заработал как часы. Словно машина была металлическим на колесах членом партии, осознавшим прежние заблуждения, окончательно определившимся среди геометрических фигур.
– Только немного растерялись, – добавил отец. – Выпустили из рук вожжи. Хотя им здесь, в глубинке, все карты в руки. В Москве партии нет, а здесь… Даже не верится. Ничего, – засмеялся весело и энергично, – сумерки – не ночь. А ночь для партии – время наслаждений.
– Куда мы едем? – спросил Леон.
– Что? – лицо у отца было одухотворенным, как у поэта в момент сочинения стихотворения. Сопричастность чему-то значительному, одному лишь ему известному читалась на лице отца. Точно таким же, конструктивно-задумчивым, погруженным во что-то свое, бесконечно родное и одновременно в государственно-общественное (не менее свое и родное), помнится, однажды вернулся отец после встречи с секретарем ЦК КПСС. Вскоре они переехали из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную. У отца вышла толстая книжка в «Политиздате». Его повысили по службе. Вероятно, и в государстве с обществом дела пошли на лад. – Куда едем? А на станцию техобслуживания, – спохватился отец. – Потом в гостиницу.
– В гостиницу? – не поверил Леон.
– Не ночевать же в машине, – ответил отец. – В восемь у меня выступление перед здешним партхозактивом. Первый секретарь пристал с ножом к горлу: выступи да выступи. Неудобно отказываться. Тем более он звонил на станцию. Тут все как в старые добрые времена. Ну, а утром – вперед!
Некоторое время ехали молча. Машина подскакивала на ухабах. Деревянное черное Нелидово выглядело странно притихшим, обезлюдевшим – ни трезвых, ни пьяных! – в ранний летний вечер. Сюда доставали белые ночи. А потому дома, колодцы, неторгующие киоски, задумчиво пережевывающие траву вдоль обочин коровы, белые и пестрые куры и петухи, чистые небеса, дальние горизонты – все как бы очутилось в прозрачном светящемся мешке. С ветром обнаруживалось мерное колыхание мешка, как будто Господь Бог (кто же еще?) шагал с мешком за спиной неизвестно куда.
Леон почувствовал, как отдаляется от обретшего себя отца, как твердеет между ними воздух, превращаясь не в слово – нет, в свободонепроницаемую стену. Потерявший себя, попивающий, парадоксально философствующий, небритый, не могущий починить машину отец был ему неизмеримо ближе, нежели нынешний, вернувшийся в свободонепроницаемость, как в пуленепробиваемый жилет.
Вероятно, тут имел место ущерб в мировосприятии. Только кто из них был более ущербен? Ситуация запутывалась тем, что мировоззренческий ущерб (Леон был в этом абсолютно уверен) имел такое же право на существование, как и так называемая норма. Поскольку один лишь Господь Бог, несущий в светящемся мешке за спиной Нелидово, доподлинно знал, что ущерб, а что норма. Но молчал, поощряя соревнование, в котором в победителях неизменно оказывалось нечто неизмеримо более худшее, нежели норма или ущерб.
Голодное нищее Нелидово, издевательски раскинувшееся среди плодородной земли, лесов, озер – одним словом, среди Божьего мира, где все изначально было предусмотрено для сытой счастливой жизни, казалось в высшей степени свободопроницаемым. Леон приравнивал тезис «Бог есть свобода» к очередному (какому по счету?) доказательству бытия Божия. То был как бы невидимый локомотив, к которому манило прицепить раздолбанный, сгнивший на запасных путях, ржавый состав, чтобы он умчал его небесной магистралью к благости.
Но что-то не сцеплялось.
Локомотив оставался немощным на свободопроницаемых нелидовских просторах. Господь Бог повагонно свалил Нелидово в светящийся мешок да и вскинул на плечо. Только вот ходил он, похоже, по кругу, как ходят растерявшиеся, заблудившиеся или водимые бесами. «Значит, не свобода, – подумал Леон, – другой уголек потребен этому локомотивчику».
Леон вдруг увидел прямо в небе, там, где солнце лежало уже не на носилках, а в гробу, и был тот синий гроб украшен белыми звездами, недвижный локомотив, определенно иностранного вида, бессильный сдвинуть с места длинный состав из черных нелидовских изб, коробчатых пятиэтажек, разрушенных храмов с кружащимися над ними православными врановыми, брошенных полей, бетонных со стилобатами и без оных райкомов-горкомов; огорченного, пенсионного вида Бога в железнодорожной фуражке, а рядом отца, почему-то в ленинском блатном кепаре, снисходительно похлопывающего Господа по плечу: «Хреновый из тебя железнодорожник, дед! Может, где и можешь, но не на нашей Октябрьской дороге!» Леон провел рукой перед лицом, отгоняя отвратительное видение.
Уже стояли перед шлагбаумом, запрещавшим въезд на территорию станции техобслуживания. По обе стороны проезда тянулись плотные ряды машин. Было удивительно, что в небольшом нищем Нелидове столько легковых автомобилей. И еще более удивительно, что все они неисправные.
Отец решительно (он теперь все делал решительно) поднял шлагбаум.
Наглый, самовольный их въезд в святая святых вызвал у находившихся там клиентов и обслуживающих их мастеров (выглядело, впрочем, как если бы суетящиеся, что-то нашептывающие, невпопад улыбающиеся клиенты обслуживали прохаживающихся, суровых, надменно-брезгливых мастеров в черных промасленных комбинезонах) два сильнейших, но параллельных, то есть не приводящих к немедленному действию, чувства: живейшую неприязнь и упорное нежелание замечать. Конечно же, всем хотелось немедленно выразить неприязнь, но как это сделать, если объект неприязни как бы не существует?
– Пойдем со мной, – сказал отец.
– Не будешь запирать? – удивился Леон.
– Здесь можно не запирать. Эй, любезный! – зычно обратился отец к проносящему на плече, как бревнышко на субботнике в Кремле, новенький глушитель мастеру. – Где директор?
Из вырвавшегося из уст того матерного шипа: «А ххху… зна… бля… ктор… там на… рху…» – можно было заключить, что кабинет директора находится на втором этаже (станция была двухэтажной), а вообще-то директор может быть где угодно.
Но он оказался у себя в кабинете, директор по фамилии Апресян.
Перед кабинетом имелось подобие приемной. На железных, с облупленными фанерными сиденьями стульях маялись нервные люди, держащие в руках единообразно свернутые в трубочки заявления. Один из них вдруг посмотрел на отца и Леона в эту самую бумажную трубочку, как адмирал Нельсон в подзорную трубу.
– У меня назначено, – коротко проинформировал очередь отец и, не дожидаясь возмущенных возгласов, проследовал вместе с Леоном в кабинет.
Директор нелидовской станции техобслуживания легковых автомобилей «Жигули» Апресян о чем-то тихо и раздумчиво совещался со смуглым, заросшим щетиной человеком в дорогой кожаной куртке, не могущим быть не кем иным, как бандитом или рыночным (а может, не рыночным, а каким-нибудь оптовым) торговцем.
– Слюшай… – недовольно обернулся этот самый бандитствующий торговец.
– Пусть товарищ Апресян послюшает, – перебил отец. – В приемной полно людей. Русских, между прочим, людей, местных жителей. А он целый час занят с… кем?
– Слюшаю вас, – тускло произнес Апресян.
– Слюшай, ты как разговариваешь? – изумился торгующвй бандит. – Ты кто, фашист, этот… из «Памятника»? Почему сеешь междунационалистическую рознь?
– Товарищ Апресян, – возвысил голос отец. – Пригласить людей из приемной?
– Слюшаю, слюшаю вас, – Апресян сделал знак рыночнику замолчать.
Оскорбленный, тот отошел к окну, задымил «Данхиллом».
Отец заявил, что прибыл в Нелидово по решению… подпольного ЦК, чтобы провести специальный семинар с местной властью. Семинар состоится сегодня в восемь вечера в актовом заде райкома-горкома. Не худо бы и товарищу Апресяну поприсутствовать.
– Ты с какой горы свалился? – не выдержал одной из проживающих вблизи гор национальности рыночник. Его сознанию оказалась не чужда некая примитивная образность. – Где эта подпольная ЦК? Какой семинар? Нет никакой ЦК, разогнали вашу ЦК! Ты где живешь? Где ходишь?
– Помолчи, Аслан! – махнул рукой Апресян. – Вы много говорите, – обратился к отцу. – Если вы пришли, чтобы пригласить меня на семинар, я с благодарностью принимаю ваше приглашение. Больше ко мне вопросов нет, товарищ… как вас?
– Есть, – вздохнул отец.
– Слюшаю вас, – усмехнулся Апресян. Отец коротко изложил суть дела.
Апресян снял телефонную трубку, распорядился прислать к нему какого-то Гришу.
Потянулись минуты томительного ожидания.
Говорить отцу, Апресяну, неизвестной национальности рыночному бандиту было решительно не о чем. Но и никак было не разойтись – в такой противоестественный узел завязались доминирующие в обществе силы: недобитая партия (ее в данный момент представлял отец), рынок (небритый торговец), связующее звено между властью (перелицевавшейся партией) и рынком – Апресян – коррумпированный мафиозный хозяйственный руководитель, жаждущий приватизации. Ждали Гришу – народ, рабочий класс, во благо которого, как утверждалось, революционно изменялись в стране производственные отношения.
Наконец объявился Гриша, оказавшийся тем самым малым, несшим на плече (явно на сторону) членистый новенький глушитель, изъяснявшийся шипящим, как змея или проколотая камера, матом. Каким-то он показался при пристальном рассмотрении дефективным, Гриша, с открытым, как клюв у птицы, ртом, скошенными лбом и подбородком, отчего лицо его напоминало рыцарское забрало.
– Гриша, – сразу же поставил отца в невыигрышное положение коварный Апресян, – мне позвонил первый секретарь нашего горкома, да-да, тот самый, которому ты делал «Волгу», попросил помочь товарищу. Посмотри. Дефицит, сам знаешь, у нас по записи для инвалидов и ветеранов. Товарищ не инвалид и не ветеран. Расчет на общих основаниях, – повернулся к отцу, – с первого июня по решению трудового коллектива мы перешли на договорные цены.
– Загоняй в угол на третий подъемник, – бросил Гриша и, не дожидаясь ответа, покинул кабинет.
Отец и Леон устремились следом. В дверях услышали, как Апресян и докуривший свой «Данхилл» торговец гортанно заговорили на незнакомом языке.
Очередь по-прежнему безропотно ожидала, свернув заявления на ремонт в белые трубочки. Рехнувшийся смотрел в свою сквозь окно на небо, уже как Коперник в телескоп. Впрочем, он мог смотреть куда угодно и как угодно: ни победы над неприятельским флотом, ни новой звезды ему было не высмотреть.
– Быдло, – достаточно внятно, чтобы очередь расслышала, пробормотал отец, – проклятое быдло! Сколько можно сидеть, терпеть! – махнул рукой.
Странно.
В кабинете Апресяна отец был как бы чрезвычайным и полномочным представителем несчастного русского народа, томящегося в приемной, пока два восточных человека обговаривают темные делишки. Добившись же чего хотел, вдруг, как ракета от пустой ступени, отделился от оставшегося в томлении народа, более того, вздумал его судить.
Каким-то он сделался многоликим, обретший под ногами почву отец. Прежде он был одинаков – подавлен, неуверен, растерян – со всеми: с Леоном, матерью, сантехником, врачом, членом ЦК КПСС, директором Института Маркса – Энгельса – Ленина, однажды вечером смятенно позвонившим ему домой. Нынче же меньше чем за час: вдохновенно-победителен в райкоме-горкоме, вельможно-вымогающ с Апресяном, презрительно-высокомерен по отношению к свернувшей в трубочку заявления на ремонт очереди. Леону открылось, что свободопроницаемый человек неартистичен, высокоморален и скучен, как… Господь Бог. В то время как свободонепроницаемый – эффектен и театрален, как… сатана.
С Гришей отец решил быть народным в самом скверном – партийно-вельможном – понимании народности. Понес какую-то похабщину с покушениями на юмор.
Гриша сдержанно хмыкал, кривил лицо-забрало.
Липовая отцовская народность осталась невостребованной.
– Мразь! – прошипел отец, когда Гриша уселся за руль, чтобы самолично поставить машину на подъемник. – Мразь! Я должен унижаться перед такой мразью! – Гнев изрядно обеднил эпитетами отцовскую речь. – Боже мой, во что превратилась наша страна!
После чего, отринув похабствующую народность, отец коротко проинформировал Гришу, что, если тот сделает все как надо, с него, отца, помимо оплаты по грабительскому прейскуранту, еще и поллитра.
Глаза у Гриши, равнодушно нависшего над мотором, потеплели. Лицо-забрало просветлело, как, должно быть, светлели лица под настоящими забралами у настоящих рыцарей, когда прекрасные дамы им кое-что обещали.
– Добро, – обнадежил Гриша, запустил руки в мотор, тут же и вынес приговор: – Реле залипает. Не проходит ток от генератора, вот и вырубается.
– Ну и? – тревожно выдохнул отец.
– Зачистить язычки, – широко (во все забрало) зевнул Гриша, показав собственный, обставленный редкими черными пеньками зубов, язык, уставший зачищаться самогоном, – и все дела. Минутное дело.
Приговор был легок, как десятирублевый штраф вместо отнятия водительского удостоверения.
– Ты там и другое посмотри, – нашелся отец, – чтобы мне не плакать о поллитре.
– Масло могу поменять, фильтры, – служебно перечислил Гриша, – сход-развал гляну. Чего еще? Клапана в норме. Приходи через час.
– Ты уж не подведи, браток, нам далеко ехать, – отец незаметно сбился на неуверенно-просящий тон.
«Вот она, наша русская свобода», – подумал Леон. Гриша не удостоил ответом.
– Мразь! – прорычал отец (далось ему это слово!), когда вышли на воздух. – Власть и водка! Больше ничего этому народу не нужно. Чем тупее, злее, враждебнее к нему власть, тем она ему милей, потому что понятней. А водочка – политика! Водочка – жидкая душонка народа, вот и щупать-щупать его за душеньку!
Хорошо ведет себя, послушненько – снизить ценочку. Не выполнил пятилетний планчик, не собрал колхозный хлебушек – приподнять. И чтобы ничего своего, все общественное! Чтоб головенку из нищеты не смел высунуть! Чтоб все мысли: как бы выжрать да ноги с голодухи не протянуть. Вот тогда, мразь, будет слагать песни о мудрой партии. Или какая там будет власть.
– Уже было, – возразил Леон, – да и сейчас продолжается. Водочка, конечно, душенька, но не вся душенька водочка. А главное, нет перспективы.
– Есть перспектива! – трубно, во весь огороженный двор станции техобслуживания крикнул отец.
Если у Гриши глаза всего лишь потеплели от обещанной водочки, у отца – воспламенились белым космическим огнем от решительно никем не обещанной, скорее отобранной, перспективы. Она пьянила отца сильнее водки. Внутри свободонепроницаемости он обрел непостижимую свободу. Или сошел с ума. Что было в общем-то одно и то же. Беда стране, где у подлых людей глаза воспламеняются от водки, у образованных – от свободы внутри несвободы. Двум встречным огням по силам спалить мир.
Преследующие мастеров клиенты, убегающие от клиентов мастера на мгновение замерли, как в детской игре, пораженные вестью, что, оказывается, есть перспектива.
– Есть перспектива, – повторил отец уже значительно тише.
– Какая? – тоже тихо, как будто они сговаривались на кражу, спросил Леон.
– Мировая революция! – вдруг завопил отец. – Ее просрали, предали, променяли на счета в швейцарских банках! Но они забыли, проклятые ублюдки, забыли, забыли, что… – в голосе отца сквозь праведный гнев прорезались причитающе-кликушеские интонации.
– Забыли что? – Леон был совершенно спокоен за отцовский рассудок. Свободонепроницаемые люди с ума не сходили. Потому что были сумасшедшими.
– Забыли, что мировая революция – тысячелетняя мечта народа-богоносца! – громко и спокойно возвестил отец.
То было какое-то безумие при ясном разуме. И шансов восторжествовать у него было куда больше, нежели просто у безумия или просто разума.
Присутствовавшие во дворе съежились, втянули головы в плечи. Они были бессильными песчинками на страшном холодном ветру мировой революции. И, несмотря на либеральное чтиво последних лет, многоротый демократический ор на митингах, свободные выборы, на которых они каждый раз фатально избирали не тех, в глубине души осознавали это, так как были изначально, всем своим существом враждебны труду, не желали признавать, что налаженный, организованный до мелочей быт (без дощатых, продуваемых ветром мировой революции сортиров) есть самая что ни на есть культура, причем наиболее близкая и доступная народу, так как он сам ее создает (должен создавать) и сам же ею пользуется (должен пользоваться). И не было в их душах Бога, ибо Бог был не только и не столько свободой, сколько трудом, великим трудом, так как иначе не создал бы все сущее за каких-то жалких шесть дней.
Потому-то, знать, никто не возразил отцу: ни вороватые мастера, ни унижающиеся (здесь, а у себя на работе, надо думать, не менее вороватые) клиенты, ни мусульмане, развернувшие возле станции торговлю шашлыками из местного мяса по баснословным ценам. Только крохотный, украдкой писающий у забора мальчик слегка удивился, услышав разом про Бога и революцию. Про Бога ему иногда говорила бабушка. Про революцию – учителя в школе. Но говоря про Бога, бабушка никогда не вспоминала про революцию. Учителя, говоря про революцию, – никогда про Бога.
– Ни один нормальный человек сейчас, если только он не законченная сволочь, не может мечтать о мировой революции, – сказал Леон. – Это противоестественно и аморально.
Разумные, однако, слова его прозвучали совершенно безжизненно. Как будто он говорил диким зверям за вегетарианство. Только где звери, где хищники? Хищен, как ни странно, был сам прозрачный луговой нелидовский воздух, давненько не нюхавший мясца.
– Наверное, – легко, как стопроцентно уверенный в собственной правоте человек, согласился отец. – Но против воли Божьей не попрешь.
– Божьей воли? – удивился Леон. – В чем она?
– В том, что наш народ отказался от Бога и от свободного труда, – отец ронял слова, как свинчатку, – принес себя в жертву.
– Мировой революции? Или… Богу?
– В жертву, – вздохнул отец, – чтобы сделать все другие народы несчастными. Если, конечно, получится.
– Значит, мировая революция…
– Неизбежна, – подтвердил отец, – пока ее хочет Бог и покуда существует наш народ. Русский народ будет существовать до тех пор, пока Богу угодна мировая революция.
Так за разговором минул испрошенный Гришей час.
Отца изумил длиннейший перечень работ, указанный в шуршащем фиолетово-расплывчатом счете, который ему предстояло немедленно оплатить в кассе. Изумляла и сумма. Как будто за этот час Гриша по винтикам разобрал и заново собрал машину, исправив, заменив, проверив все, что только можно было исправить, заменить, проверить.
Между тем он решительно не производил впечатления выбившегося из сил, проделавшего титаническую работу человека. Гриша стоял возле машины под щитом «Курить строго воспрещается!», покуривая, и улыбка на его стальном лице-забрале напоминала неразгаданную улыбку Моны Лизы Джоконды.
Отец сник, победоносное коммунистическое его веселье, как снег, растаяло в лучах Гришиной улыбки, удивительно скверно дополняющей перечень якобы совершенных работ.
В этой улыбке, как в узелке, который не смог поднять былинный богатырь Святогор, сквозила неподъемная земная сила. В бездонную пропасть улыбки свистящими валунами летели пятилетние и семилетние планы, миллиардные капиталовложения, нулевые циклы, всесоюзные ударные стройки, денежные, аграрные и прочие реформы, хозрасчет, самоокупаемость, госприемка, химизация и мелиорация, рабочий контроль, приватизация, военные патрули, съезды, отряды самообороны, пленумы, продовольственные и непродовольственные программы, мятежи, Чернобыли и Семипалатински, исторические и неисторические решения. В улыбке бесследно растворялось все хорошее и плохое. И только шире, загадочнее она становилась. Невольно думалось: есть ли что-то в мире, чтобы встало костью поперек глотки, смахнуло веником с лица-забрала оскорбляющую Бога улыбку?
Отец, стиснув зубы, оплатил чудовищный счет, пожертвовал самой невзрачной (зеленой, с кривой наклейкой) бутылкой водки, как пожертвовал Бог несчастным русским народом.
А пожертвовав, обнаружил на аккумуляторе какие-то болты с шайбами и хомутики.
– Это что? – хмуро поинтересовался у Гриши.
– Где? – бутылка бесследно, как астероид в космическом пространстве, исчезла в черных промасленных глубинах Гришиного комбинезона. – А… – небрежно смахнул обнаруженное на промасленную же ладонь. – Лишние, я там новые поставил. – И снова улыбнулся отцу улыбкой Джоконды.
Отец, теряя сознание от бессилия пред этой улыбкой, с белым, как чистый лист, лицом, оставивший в кассе сто с лишним рублей, осиротевший на бутылку водки, сел за руль.
Всю дорогу вслух, как будто один был в машине, нетвердым голосом убеждал себя, что, наверное, все-таки Гриша сделал все, что указано в гаргантюанском перечне, они, мастера, делают все мгновенно, автоматически, ведь не глохнет, не глохнет же машина, клапана не стучат, тормоза вроде лучше схватывают, определенно мягче едет, просто великолепно едет, новая так не ездила. Ну а если… Он вернется! Он покажет этой мрази!
А с верхнего стилобата райкома-горкома невыразительный серокостюмный посматривал на вылезающих из машины отца и Леона с объяснимым сомнением. Первичный благородный порыв, безжалостно укрощать в себе который советовал Талейран, успел остыть. На лице серокостюмного прочитывалось мучительное желание повнимательнее вглядеться в документы этого преподавателя из несуществующей более Академии общественных наук при ЦК КПСС. Зачем прибыл в богоспасаемое Нелидово? О чем собирается толковать с аппаратом райкома-горкома?
Видимо, отец, как самолет в небе, излучал отличительный партийный сигнал «свой», потому что в момент рукопожатия тревога ушла с лица серокостюмного. Он дружески повел отца боковыми (жреческими) ходами к храму-сцене. Леону было велено подняться по главной лестнице в зал и сидеть там вместе с активом в креслах.
Внушительный деревянно-коврово-бархатный зал, с бело-гипсовым алтарным, укутанным в кумачи Ильичом, был заполнен, как по весне погреб картошкой, едва ли на четверть. Человек семьдесят, не больше, коммунистов – аппаратчиков и хозяйственников – пришло на встречу с отцом. «Достаточно, – подивился остаточной организованности коммунистов Леон, – если принять во внимание, что партия разогнана и они понятия не имеют, кто он такой».
Серокостюмный перечислил названия книг, учебников, написанных отцом, его научные звания. В зале раздались снисходительные ностальгические аплодисменты. Так аплодируют доброму прошлому, неизбывная прелесть которого с каждым прожитым днем все очевиднее, но которое не вернуть, нет, не вернуть.
Отец взошел на трибуну, сумрачно вперился в угасающе шлепающий ладонями зал.
– Тут у меня листки, – отец, к изумлению Леона, потряс в воздухе коричнево-желтыми, сухими, как осенние листья, квитанциями со станции техобслуживания. – Набросал, как положено, тезисы перед выступлением, – гипнотически обвел зал круглыми совиными глазами. – А потом подумал: а зачем, собственно, как положено, кем положено, когда положено? Хе-хе… – картаво, как алтарный Ильич, если бы он вдруг выпростался из кумача, рассмеялся. – Вот я сейчас их! – торжественно, как фокусник, вознамерившийся извлечь за уши из цилиндра кролика, поднял руки с листками вверх и… спохватившись, что, если и впрямь разорвет, на станции потом ничего не докажешь, скомкал листки, быстро спрятал в карман, предъявив напряженной аудитории пустые руки. – Что мне в коммунистах Нелидова? – с горчинкой в голосе продолжил отец. – И что коммунистам Нелидова во мне, незваном госте? Мне не привыкать излагать расхожие прописные истины. Вам не привыкать слушать заезжих ораторов, думаю, немало их тут перебывало. Не лучше ли употребить случайную нашу встречу, – вдруг гладенькой скороговоркой, как покушающийся на интеллигентность бонвиван в безнадежном разговоре с девушкой, произнес отец, чудом выпустив слово «мадемуазель», – для определения истины в конечной инстанции, если, конечно, таковая существует. Не конечная инстанция, естественно, а истина. О, она сродни тайному разветвляющемуся подземному ходу, – шелестяще прошептал отец, – раздвоенному змеиному жалу.
Леону было не отделаться от ощущения, что отец, привычно долбанув водяры, заев бесформенным, как сдувшийся дирижабль, магазинным огурцом, излагает все это на кухне матери и друзьям-сослуживцам. Только на сей раз кухня сильно раздалась вширь и ввысь, из кумачей снисходительно посматривал гипсовый шеф-повар, матери не было, а вот друзей-сослуживцев (поварят) прибавилось.
– Я! – Леон вздрогнул: на кухне отец не смел истеричничать. – Я, Иван Леонтьев, русский, коммунист с августа тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, доктор философских наук, автор книг и учебников, кавалер трех орденов и четырех медалей, лично знакомый с Жоржем Марше и Фиделем Кастро, не говорю о нашей бывшей партийной номенклатуре, хочу впервые в жизни, подчеркиваю, впервые в жизни, совершенно откровенно, как пред Господом Богом, которого нет, здесь, в Нелидове, поделиться своими мыслями с вами, незнакомыми, неведомыми мне людьми!
В зале послышался недоуменный ропот.
– А вы, – подобно Демосфену, взметнул руку отец, – вольны, если вам не понравятся мои мысли, стянуть меня с трибуны, вышвырнуть вон!
На это сомнительное, хоть и демократичное, предложение зал откликнулся бурными аплодисментами.
– Откуда, – спросил отец, надо думать, не сильно ими ободренный, – поползла смута, ввергнувшая нас в экономическую и национальную катастрофу? Извне? У меня нет иллюзий насчет Запада, но смута пришла к нам не оттуда. Тоска по иному качеству жизни, да, имела место, но у нас были возможности, благодаря поездкам, а также нашим специальным магазинам, отчасти утолять эту тоску, разве не так? Изнутри? Нет. Хозяйство функционировало в общем-то исправно, государственная машина, хоть и нуждалась в определенном усовершенствовании, действовала. На выборы являлись девяносто девять и девять процентов избирателей. Снизу? Нет. Народ был чист и спокоен. Из партии люди выходили исключительно со смертью. Единственная критика, которую позволяла себе наша храбрая интеллигенция: что мало принимают в партию деятелей науки и культуры, писателей и журналистов, отдают почему-то предпочтение рабочим, хотя интеллигенты не менее верны. Случаи массового неповиновения властям были единичны и не носили осмысленного политического характера. А как же диссиденты? – спросите вы. Не будем лукавить, товарищи. Даже забавно было иметь в каждом районе своего карманного диссидента, зачастую мы сами создавали их, чтобы народ держался бодрее, не терял бдительности, не только теснее (куда теснее?), а и веселее сплачивался вокруг партии. Вы помните, как наши прекрасные советские люди по первому намеку ломали им заборы, били стекла, писали матерные письма, вытаптывали огороды. Как наши честные, любящие партию продавщицы обвешивали и обсчитывали их в магазинах, им же за то хамили, плевали в харю, после чего мы сажали диссидентов на пятнадцать суток, а то и на три года за хулиганство или за распространение венерических заболеваний, какому секретарю райкома какая статья нравилась. Как наши добрые ангелы-медсестры вкалывали им хинин под видом успокоительного, и эти диссиденты, выйдя из больницы, падали без чувств, и тут уже было налицо нарушение общественной нравственности – пьяная наркоманическая скотина валяется без чувств возле больницы, где ходят дети, опять можно сажать в тюрьму, запирать в сумасшедший дом. Как пожарники опечатывали их поганые жилища, а стоило им сломать сургуч, их тащили в суд, выписывали штраф за нарушение правил противопожарной безопасности. Как их морили в карцерах и КПЗ вместе с клопами и тараканами, и они потом ползали по карцерам и КПЗ, как эти самые недомеренные клопы и тараканы. Ха-ха-ха… – зловеще, в тишине и одиночестве, рассмеялся отец. – А пионеры, наши славные Павлики Морозовы, бросали им в очко сортира дрожжи, и дерьмо сносило диссидентские сортиры, как праведный гнев советского народа-богатыря. Нет, друзья, смута пришла к нам не снизу. Народ нам верил до последнего. Вспомните, как он встрепенулся на андроповские новации. Сколько писем, доносов, сигналов сразу хлынуло во все адреса, как укрепилась дисциплина на предприятиях, выросла производительность труда. Яснее народ не мог выразить, чего он ждет от партии, но мы позволили пропасть народному порыву втуне. Так откуда же пришла к нам смута? – по примеру античных ораторов отец завершил вводную часть повторением коренного вопроса, сообщая речи тем самым широчайший разлив, как бы помещая слушающих в Ноев ковчег. Им ничего не оставалось, кроме как внимать из ковчега отцу, парящему над библейскими словесными водами ястребом, но не голубем.
– Мне горько об этом говорить, но порча пришла к нам сверху, то есть от самих себя! – он вновь вскинул вверх руку, но на сей раз пружинно, динамично, как бы подавляя возможные возражения из зала, которых, впрочем, не последовало. Тих, смущен был зал, как тих и смущен бывает человек, впервые в жизни явившийся узнать судьбу к колдуну или астрологу. – Кто, – вкрадчиво спросил отец, – погуливал цветущими пряными южными ночами вдоль шумного моря на огороженной охраняемой даче, доверительно говорил собеседнику, что так дальше жить нельзя? И собеседник с соседней дачи согласно кивал. А в санатории поблизости, тоже огороженном, тоже охраняемом, много было таких, кто искренне считал, что нужно так, как есть? Единицы. Их держали за ортодоксов, выживших из ума маразматиков, не принимали в расчет. Но спустимся пониже, на наш, так сказать, срединный уровень. В баньках, под водочку, под пивцо, на рыбалках-охотах вечером у костерка кто из нас не заводил привычную шарманку, что дальше так нельзя, и все наши споры были о том, до какой степени нельзя и как именно валить: обвалом или постепенно, медленным отступом? Эта мысль змеей, – образ змеи определенно сейчас доминировал у отца, потеснив мразь, – вползла к нам в головы, свила там гнездо. Змеиное гнездо! – зачем-то торжествующе и гневно уточнил отец, как будто змея могла свить какое-то иное. – Позволить угнездиться в голове подобной мысли – все равно что заболеть СПИДом! Когда власть начинает сомневаться в своем праве контролировать действительность, она перестает быть властью! – отец вколотил неожиданно родившийся из пены слов тезис в тишину зала, как сверкающий на солнце гвоздь в сухую доску.
Леон обратил внимание, что многие, в особенности почему-то женщины, усердно конспектируют. А кто не конспектирует (видимо, за неимением блокнотов), смотрит на конспектирующих с завистью.
– И завершая затянувшееся вступление… – отец выдержал паузу. – Не волнуйтесь, дальше пойдет быстро, как по маслу, которое вскоре исчезнет.
Зал оживился: «Уже исчезло!»
В оживившийся от исчезновения масла зал отец послал второй гвоздь-тезис, скрепляющий сказанное намертво:
– Мы, власть предержащие, окончательно и бесповоротно утвердились в мысли, что дальше так жить нельзя, в то самое время, когда народ окончательно и бесповоротно утвердился в мысли, что так жить можно, более того, только так жить и нужно! Вот, если коротко, суть трагедии.
Зал загудел: «А Чернобыль? А пшеница за золото? Куда делись нефтяные миллиарды? Чурбановщина! Адыловщина!» И зааплодировал. Аплодисменты пересиливали. Громче всех, стоя, аплодировал широкоплечий, стройный молодой подполковник в красных петлицах мотострелка.
Отец подождал, пока в зале стало тихо.
– В мире нет ничего более неправдоподобного, чем истина, – произнес мягко и увещевательно. – Истина, в отличие от закона, имеет обратную силу. Мы действуем, как будто ее не существует, а потом страшно удивляемся, когда нас судят за то, что мы действовали не по истине. Нас обязательно будут судить.
То была старинная российская мозоль: страх, ожидание репрессий неизвестно (или известно) за что. Отцу не следовало на нее наступать. Люди имеют обыкновение злиться не на мозоль, а на того, кто наступил.
– Нельзя ли конкретней? Ближе к делу! Что вы имеете в виду? О какой истине говорите? Сформулируйте! Какая тема семинара? От какой вы партии? – закричали из разных рядов.
– Конкретней? – вдруг завопил, выпучив глаза, отец. Старательно конспектировавшая женщина с укладкой, с человеческим, но уже начинающим каменеть лицом (наверное, недавно поступила на работу в райком-горком) испуганно выронила ручку. – Ближе к делу? – усиленному микрофоном отцовскому голосу-ястребу стал тесен актовый зал. – Хорошо, я буду краток. Когда вещь разделяется в себе, она перестает быть полноценной функциональной вещью. Точно так же партия, разделившись в себе, перестала быть властью. А может ли существовать без власти огромное многонациональное государство? Нет, без власти оно обречено на распад и гибель. Посмотрим, по какому же принципу разделилась партия. Добро бы одна часть полагала, что дальше так жить нельзя, а другая – что можно. То был бы спасительный раскол – начало исцеления. Нет, партия разделилась по иному принципу, точнее, совсем не по принципу. Одна часть выступает, чтобы разрушить все до основания. Другая – тоже разрушить, но не до основания, а, скажем, до второго или первого этажа. В главном – разрушить – разногласий нет! Это текучее непринципиальное разделение по принципу сообщающихся сосудов. Люди будут бесконечно перетекать туда-сюда, делая конфликт неразрешимым. Пока вода не зацветет и ее к чертовой матери не выплеснут! Разделение партии гибельно для государства еще и тем, что ни одна из сторон не сумеет окончательно победить, взять всю власть. Но даже если и возьмет в результате какой-нибудь ошеломительной провокации, это ничего не изменит. Почему? Думаю, никому здесь не надо объяснять, что наши противники на самом деле никакие не демократы, а худшая, наиболее циничная, продажная, карьеристская и беспринципная часть партии. Либеральствующие эластичные стукачи, бывшие помощники, спичрайтеры, консультанты, референты, советники, прочая мразь, доедавшая объедки с секретарских столов, готовая написать, доказать, обосновать что угодно. Всех их в свое время поперли с партхлебов. Они затаили злобу. Расставшись с партбилетами, не изменили холуйской сути. Почему же нам не скрутить, не прижучить разбушевавшуюся мразь? Почему мрази окончательно не заморочить людям головы, не истребить нас? Отвечу: потому что и для нас, и для них вся полнота власти при тех идеях, какие мы сейчас исповедуем, гибельна! Взять власть – нам или им, неважно! – значит в считанные месяцы развалить страну! Мы – два кончика одного змеиного языка. Окончательно и бесповоротно сможет победить лишь третья, равно опасная нам и им сила, которая обопрется на фундаментальное, природное, от Бога сидящее в каждом человеке с рождения и до смерти. То есть на те рельсы, по которым человек едет, как поезд, не замечая их. Что это за рельсы? Да вы не хуже меня знаете, тут тайны нет: национальное чувство, инстинкт собственника, затем – с оговорками – религиозность, применительно к нашей стране – вера в очищенное от скверны учение Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина!
Громовое добавление сброшенного с парохода (поезда?) современности Сталина вызвало в зале замешательство. Подполковник-мотострелок горячо зааплодировал. Некто с демократическими усами, в модной джинсовой рубашке выкрикнул: «Позор!»
Отец в ответ улыбнулся так пронзительно и горько, что залу внезапно открылось: отец не сомневается в собственной правоте, но она причиняет ему боль. Таким образом, доверие к нему, как к человеку, не ищущему ни выгоды, ни популярности, то есть фанатику или юродивому, несказанно укрепилось.
– Посмотрим, – продолжил отец, – каков нынче в обществе расклад сил? Расколовшаяся, тонущая в словах власть и пока что помалкивающий народ, тот самый, давно решивший как жить, но за который мы решили, что так жить нельзя. Вероятно, нет необходимости объяснять, что ни мы, ни наши противники не можем опереться на религию, так как за семьдесят с лишним лет церковь превратилась в один из наших государственно-партийных департаментов, коррумпированных и прогнивших ничуть не меньше остальных департаментов. Опираться на церковь, живя среди безрелигиозного народа, смешно и политически наивно. Не разыграть нам и картишку частной собственности, так как и для нас, и для противника настоящая крепкая частная собственность – смерть! И мы, и они можем политически существовать только в условиях распределительной системы, когда на распределении сидят наши люди и распределяют нам и кому мы скажем. Нашему государству еще долго оставаться марксистским.
В марксистском государстве принуждение и распределение есть два источника, две составные части власти. Разве только демократическая, сбросившая, как змея старую шкуру, партбилеты, мразь хапает наглее нас, прет в частнособственнические структуры, не понимая, что будет выброшена, подобно использованному презервативу, как только эти структуры достаточно окрепнут.
Нужда будет в таких, кто может производить, организовывать, генерировать идеи, а не в таких, кто – распределять, воровать, генерировать маразм. Нет ни нам, ни им спасения в национальном. Ибо и мы, и они исповедуем марксизм, а марксизм изначально и прежде всего враждебен любой национальности. Царская Россия, с ее государственными и общественными, основанными на национальных особенностях русского народа, частной собственности, православной религии институтами, одинаково неприемлема для нас и для демократов. Не для того мы ее в свое время уничтожили, чтобы сейчас восстанавливать. Мы что-то нескладно бубним про коммунистическую перспективу. Они хотят по новой освоить страну, как будто это только что открытая Колумбом Америка, куда хлынут деловые предприимчивые люди и все вмиг переустроят, перебив для начала путающихся под ногами туземцев. Нам (по нашей идеологии) нищий злобный негр, коротающий ночи в подземке, готовый за понюх кокаина перерезать пол-Нью-Йорка, согнанный с земли араб с автоматом, хрипящий рикша, деклассированный европейский подонок-террорист куда милее своего русского – рабочего ли, колхозника, запуганного интеллигентика. Негр, араб, рикша, террорист – пусть отрицательно заряженные, но частицы экономически живого мира, в них лютая злоба, энергия нетерпения, они – сухой горючий материал революции, бикфордов шнур дестабилизации так называемого мирового сообщества. В то время как нынешний русачок – чисто наше творение. В нем – равнодушие к собственной участи, генетическая неспособность к действию, терпение на грани смерти. Этот материал намок и смердит, как грязная шерсть под дождем. Он никогда не воспламенится, в лучшем случае погано надымит, в худшем – задушит сырой массой привнесенное извне пламя. И нашим противникам чужд и отвратителен природный русачок. В ненависти к нему они даже последовательнее нас. Они ставят на ничтожнейшего западного посредника-спекулянта, такого же рикшу, террориста на своем социальном уровне, приезжающего сюда, чтобы скупить-украсть последнее. Ему они готовы с потрохами запродать Россию, только бы она не досталась русскому. Неприятие национального – наше родовое, марксистское, тут ни мы, ни они через себя не переступим. Хотя, конечно, возможны исключения, – голос отца вдруг потускнел, сделался усталым и монотонным. – У нас – секретарь райкома, посещающий молебны, тайно ссужающий бумагу патриотической газетке. У них… Рабинович во главе комитета по возрождению русского земства.
Плечи отца оплыли над трибуной, как восковые. Леону вдруг открылось, что невозможно нормальному человеку верить в проклятый марксизм. И одновременно открылось, что невозможность нормальному человеку в него верить есть главная причина ирреальной в него веры ненормальных людей. «Они не люди, – подумал Леон, – они что-то другое».
– И для нас, и для них, – поднял плечи, победил слабость отец, – не существует в мире ничего более опасного, нежели национальная идея в естественном своем развитии, то есть органичное стремление того или иного народа жить нормальной, достойной жизнью. Но что же народ? – спросил отец.
По залу пробежал ветер: да надо ли о народе, нам ли не знать, что он тьфу, ничто!
– Надо, – вздохнул отец. – К сожалению, надо, поскольку это наш единственный и последний строительный материал. Другого не осталось. Был импортный – китайский, восточноевропейский, кубинский – да хреновый попался прораб, сдал налево ни за х…!
Конец фразы утонул в аплодисментах.
– Я буду вынужден повториться, – продолжил отец, и Леон понял, что только мысль о том, как он сладко выпьет и вкусно закусит после лекции, не иначе, поддерживает в нем силы. – Мы предали свой народ. Семьдесят с лишним лет мы перевоспитывали русский и примкнувшие к нему народы в новый – безнациональный, безрелигиозный, бессобственный – народ, готовый жрать стальные танковые гусеницы вместо хлеба, пить ракетное ядерное топливо вместо молока, гордиться, что у нас самая большая, самая вооруженная в мире страна, перед которой трепещет мир. Народ, результаты труда которого не видны. Который, как сухари, сгрызает собственные леса и недра, меняя их на то, что когда-то в изобилии сам выращивал. Которому для счастья не нужно ничего, кроме химической водяры, трупной колбасы да нищенской пенсии, до какой он, как правило, не доживает, так как стал под нашим управлением самым короткоживущим, допенсионным народом в мире. А для гордости – твердой уверенности, что на болотах точно так же давят и мордуют эстонца, на отравленных хлопковых полях – узбека, ну и повсеместно и непременно – старшего русского братана. И вот, когда народ стал таким, как мы хотели, когда мы расширили пределы его терпения практически до бесконечности – лишили его возлюбленной водки, колбасы, хлеба, молока, жилья, транспорта, одежды, роддомов, больниц, лекарств, моргов, чистого воздуха, кладбищ, пригодной для питья воды – всего, чего только можно лишить! – а он знай себе терпит, выстаивает в очередях да ходит на митинги с кумачами: «С Лениным – на тысячи лет!» или без кумачей: «Убийцу-Ульянова из Мавзолея вон!», мы вдруг надменно заявляем своему народу: ты не такой, ты мерзкий, недемократичный, уголовный, спившийся, не умеешь и не хочешь работать, возделывать землю, владеть собственностью, тебе не по уму современная технология, у тебя трясутся с похмелья руки, из-за тебя страна отстала на десятки лет, ты недостоин нас, знать не хотим тебя, ублюдка!
И вновь в зале установилась неправдоподобная тишина. У конспектирующей с начинающим каменеть лицом женщины ручка приросла к блокноту, такими неложащимися на бумагу были отцовские слова. Отцу внимали уже не как пусть парадоксальному, но партийному лектору, а как экстрасенсу, новоявленному психотерапевту, медиуму, впавшему в транс. Только бы не вздумал вызывать дух Ленина, испугался Леон.
– Мы оказались в положении декабристов, – продолжил отец, – то есть страшно далекими от народа. Но с одной поправкой: мы взяли власть! Все семьдесят лет мы жили неизмеримо лучше народа, слаще ели-пили, а в последние двадцать лет еще и поездили по миру, посмотрели, как там. Мы увидели, что наша «хорошая» жизнь – дерьмо в сравнении с той, И мы решили открыто и бодро двинуть себя и народ к новой жизни. Но… народ не пошел! Не принял, подлец, нашей милости. Он бы пошел в лагеря, отвоевывать Польшу, Финляндию и Аляску, построил бы еще один БАМ, осушил Каспийское море, пустил вспять реки, чтобы они затопили города, но… не пошел за нами в трудовой, правовой, изобильный европейский рай. Не отдал родимую очередь за водя-рой, гудящей, как улей, родной завод, где можно ни хрена не работать, сидящий на дотации у государства колхоз, никчемную контору, где десятилетиями миллионы бессмысленно протирают штаны с девяти до шести. У нас закружилась голова от успехов, мы купились на мнимую покорность народа, кажущееся его неучастие в собственной судьбе. А он, мерзавец, переиначил жизнь под нами на свой ублюдочный манер, выкопал, гад, навозную яму, в которой, опившись, подыхает и тянет нас за собой! А мы… – с величайшим изумлением в голосе произнес отец, – не хотим! Мы хотим жить в особняках, пить баночное пиво, ездить на «Мерседесах», отдыхать на Канарских островах! Мы подтянулись в саунах и бассейнах, на теннисных кортах, нам нравятся видеокамеры и доллары, но наш народ, мразь, не может нам этого дать! Да пусть гадина подавится своим Лениным! Его поганые трясущиеся руки изначально враждебны такому тонкому инструменту, как видеокамера! Уже выкачали почти всю нефть, вырубили под корень леса, а долларов все равно не хватает! Да, в перестроечные годы мы увидели истинное лицо своего народа и… ужаснулись. Это лицо дебила, уголовника, вурдалака. Лицо… настоящего коммуниста. Но других народов у нас не осталось, – мрачно подытожил отец, как уронил ведро в колодец. – Конечно, – продолжил, хмыкнув, – не одно поколение марксистов мечтало по-коммунистически править некоммунистическим, трудолюбивым, законопослушным народом. Но это, увы, несбыточная мечта.
Попавшийся народ или погибает, или, обдираясь в кровь, уходит, или же превращается во вполне коммунистический. Мы воспитали самый коммунистический народ в мире. Это прискорбно, горько, негуманно, но если мы не хотим, чтобы народ пожрал нас, как пожрало Франкенштейна созданное им чудовище, мы должны править, удовлетворяя глубинным запросам нашего народа-коммуниста, которые давно определяются и формируются отнюдь не нами на наших бестолковых съездах и пленумах, а им самим, вот что страшно. Народ уже понял, что мы кость в его горле, проходимцы, уставшие от развала и безумия коммунизма, изменники, возмечтавшие жить по-европейски, возжаждавшие сытенького покоя, тогда как народ жаждет голодных кровавых судорог. И я не понимаю, – растерянно произнес отец, – почему народ до сих пор нас терпит? Номинально мы в кабине паровоза, но состав идет в розовеющем тумане своим путем. Скоро хлынет кровь. Мы не можем ни притормозить, ни поддать пару, даже не видим рельсов, по которым идет состав. Разве что всемерно усилить, укрепить госбезопасность. Но, боюсь, поздно. Если мы хотим жить, если нам дорога великая идея, мы должны стать плоть от плоти, кровь от крови народа-коммуниста, – голос отца начал каменеть, как, впрочем, и лицо соседки Леона, твердой рукой возобновившей конспектирование. – Не мы семьдесят лет назад заложили программу в этот компьютер, – гремел отец, – не нам, неучам, следовательно, вносить коррективы. Программа будет доведена до конца! С нами или без нас. Но лучше, конечно, с нами. Компьютерная сеть защищена от всевозможных посягательств. Как бы мы ни лупили по клавиатуре, как бы ни насиловали процессор, нам не переиначить программу. А потому… – выдержал немую оглушительную паузу, выбросил вперед руку, как будто швырнул камень в морду сомневающимся. – Долой сомнения, будь они прокляты!
Зал заревел, зааплодировал, затопал. Они устали от неопределенности, от абстракционистского смешения красок, от не-решения вопросов. Хотелось определенности, хотелось черно-белого, хотелось решать вопросы силой и страхом. Как только и могли эти люди.
Потому-то никакие вопросы в стране не решались.
– Не к тому национальному, о котором завывают недобитые писателишки-почвенники, – переревел зал отец, и Леону сделалось за него страшно, так он набычился, побагровел, так страшно вздулись у него на шее жилы, – не к тихому крестьянскому ладу, чтобы плыть в избе, как в подводной лодке, не к березкам, полям и родительским погостам стремится наш великий народ, а к мировой ядерной державе без России и Латвии, единому человечьему общежитью, где не будет белых и черных, а будут все одинаково смугленькие! Ядерные отходы от производства ракет и атомных электростанций – вот родительские погосты нашего народа! Миллион ракет, могущих уничтожить мир сто семьдесят пять раз, – вот его национальная гордость! Так пусть гордится! Дадим ему ракеты вместо хлеба, жилья, товаров, больниц, книг и загранпаспортов! Вернем Восточную Европу, Аляску, Финляндию, Карс, Ардаган и Афганистан! Тайная страсть нашего смугленького, без России и Латвии, – не подняться до чужого уровня, а опустить остальной мир до себя, мордой в парашу, как смазливенького мальчишку в тюремной камере. Наш великий народ – враг частной собственности. Так избавим его от этой мерзости, все заберем себе! Земля, недра, леса, поля, реки и небеса, заводы и колхозы, музеи и картинные галереи – все, все, все должно принадлежать райкомам, горкомам и обкомам. А можно – мэриям, префектурам, городским управам, плевать, как мы себя назовем! Ну а нефть, хлопок, золото, алмазы – все, что можно продать за доллары, должно принадлежать ЦК и Политбюро, мэрам, президентам, членам Государственной Думы, да хоть посадникам, князьям, боярам, великим каганам! Народу ненавистна религия, взывающая к милосердию. Так пустим народ по храмам, церквам, квартирам этих обзаведшихся видеокамерами и компьютерами гомосексуалистов-священников! У нас должно быть стопроцентное атеистическое государство! Народ не может существовать вне исторической перспективы, сказки о светлом будущем. Это как пучок сена перед мордой голодного злобного ишака, до которого он никогда не доберется, скорее сдохнет. А потому… – отец перевел дух, набрал воздуха, заорал, как будто ему прижгли раскаленной кочергой пятки: – Да здравствует мировая революция! Да здравствует всемирный коммунизм! Партия, или что там вместо нее, торжественно провозглашает: нынешнее поколение всех людей на планете будет жить при коммунизме! Партия и наша всемирная интернациональная Родина едины! Слава великому кагану – всемирному генеральному секретарю ЦК КПСС, или чего там вместо КПСС! – покачиваясь, сошел с трибуны. Хотел было спуститься со сцены, но зал колыхнулся навстречу, отца подхватили на руки, понесли. Только проплывающие в воздухе нечищеные ботинки и увидел Леон.
Опустили в фойе. Откуда-то появились цветы. Отец оказался в цветах, как знаменитый оперный певец, писатель-сатирик или… покойник.
Леон с трудом пробился к нему, окруженному возбужденным партийно-костюмным народом.
Триумф, казалось, был полным. Отец эльфом (куда подевалась усталость?) летел к лестнице, раздаривая райкомовским женщинам цветы.
Однако Леона не оставляло ощущение, что радостный подъем, деятельное оживление, заряженность на немедленные действия – все это неестественно, неискренне, неконструктивно и бессмысленно, как сухой лед, извлеченный из ледника. И как сухой же лед, свистяще испаряющийся прямо на глазах, недолговечно. Как будто умирающий поднялся со смертного одра и двинулся куда-то, печатая шаг. Так было не из-за отца или райкомовских людей, а… по какой-то иной причине, над которой они не властны и пред которой бессильны.
Что бы ни делали.
По лестнице отец и Леон спускались в полном одиночестве.
– Поздравляю, – сказал Леон, когда сели в машину. – Лекция прошла успешно, – и зачем-то добавил: – Почти как Нагорная проповедь у Христа. В том смысле, что толку не будет никакого.
Отец недоверчиво повернул ключ зажигания. Мотор завелся с первой попытки.
Было около десяти часов вечера. В воздухе держалась светлая ясность. Две инверсионные самолетные полосы перечеркивали небо крест-накрест, заклеивали его, как окно в прифронтовом городе. А может, то были лямки рюкзака, в котором Господь Бог, подобно мешочнику, носил Нелидово по кругу, не зная, что с ним делать.
По-прежнему безлюдным оставалось Нелидово. Между партийным райкомом-горкомом и остальным Нелидовом как бы простерлась светлая воздушная пропасть. Единственную живую группу удалось разглядеть на боковой травяной улочке: цепочку солидных гусей, а позади определенно беспартийного, махорочно-морщинистого деда в мешках-штанах, с двустволкой за ватным плечом.
Гостиница, куда их определили, была пока еще партийной, то есть в ухоженном, укромном (посреди хвойного парка) месте, с холлом в коврах и чистыми коридорами, но уже с наложенной рыночной лапой: из запыленного «БМВ» извлекал богатые кожаные чемоданы проезжий немец; по лестнице спускался, насвистывая, похабного вида золотозубый в перстнях то ли цыган, то ли грузин, явно бывший здесь как рыба в воде, хотя такое сравнение в высшей степени оскорбительно для рыбы; нелидовская проститутка в черных сетчатых чулках в упор рассматривала не то чтобы смущающегося, а как что-то бы прикидывающего в уме немца.
Рыночной (еще какой!) оказалась и цена за номер.
Вот только съестное никак не уживалось в регулируемом рынке, как будто невидимый регулировщик направлял съестное обочь рынка.
– Нет теперь у нас буфета, – зевнула отцу в лицо администраторша, – был, да закрыли, жрать нечего. Через парк – ресторан «Двина», до часу ночи оркестр.
– А выпить? – зачем-то спросил отец.
– «Камю», – цинично ухмыльнулась администраторша, – «Смирновская», баночное пиво.
Номер оказался удобным и просторным. Что было совершенно невероятно для советской (неважно, рублевой или валютной) гостиницы, исправно (без подтекающей воды) действовала сантехника. Рядом с окном стоял крепкий письменный стол. Имелся и низенький, так называемый журнальный, рябая столешница которого хранила главным образом следы стаканов и бутылок, но никак не журналов.
И не было надобности зажигать свет в номере, так как Господь Бог еще бродил с Нелидовом в рюкзаке по кругу, а в присутствии Господа всегда светло.
Едва они разложили на псевдожурнальном столике бутерброды с ветчиной, разрезанные и посоленные огурцы, конечно же, подавившиеся помидоры, сваренные вкрутую яйца, оплывшие, вспотевшие в полиэтилене равнобедренные треугольники сыра, едва Леон налил себе в стакан какого-то тягучего, с трудом покидающего бутылку сока, а отец, энергично потерев руки, как бы мгновенно и безводно их ополоснув, плеснул в свой стакан прозрачнейшей «Посольской», в дверь постучали.
Замычав, отец отставил стакан, крикнул: «Да! Войдите!» – что можно было бы перевести с русского на русский как: «Нет! Не входите!» Но русские люди не большие мастера переводить с русского на русский. Тем более через дверь. Тем более такое слово, как «нет».
В номер вошел широкоплечий подполковник с красными петлицами мотострелка, тот самый, громче остальных аплодировавший отцу. Он и в зале показался Леону молодым, а вблизи предстал совершенным мальчишкой, не старше школьного русского физкультурника.
«Не слишком ли разбрасываются офицерскими званиями в нашей армии?» – подумал Леон.
– Извините, что отнимаю у вас время, – посмотрел на накрытый журнальный столик подполковник. – Собственно, я хотел переговорить с вами в райкоме.
– Присаживайся, пехота, – кивнул отец на пуфик. – Как ты думаешь, где здесь может быть еще один стакан?
– У меня вопрос, – не стал чиниться подполковник. – Только один, – улыбнулся, заметив, что отец помрачнел и насторожился. У него была открытая, располагающая улыбка. А сам он – с правильными чертами лица, голубоглазый, русоволосый, с ямочкой на крепком подбородке – вселял уверенность и спокойствие, как новенький исправный пистолет или автомат. То, что в России водились подобные подполковники, свидетельствовало, что не все в России безнадежно. – Есть стакан, – подполковник открыл портфель, достал самодельную, похожую на артиллерийский снаряд, флягу из нержавейки, отвинтил, как в термосе, верх. – Какой офицер без стакана?
– За знакомство, – отец налил подполковнику «Посольской».
– Валериан, – поднялся подполковник, – можно без отчества.
– Будь здоров, Валериан!
– Будь здоров, Иван!
Чокнулись.
Выпили.
Выпив, подполковник посинел глазами, прояснился. Хотя и до того был синеглаз и ясен. Леон подумал, что вопрос, приведший его к отцу, не терпит промедления. Как не терпит промедления перевооружение армии новейшим стрелковым оружием.
– Ваня, – сказал подполковник. – У меня очень мало времени. Через двадцать минут, – посмотрел на часы, – заступаю на дежурство.
– Ты закуси, Валериан, – посоветовал отец.
– Сначала я задам вопрос, Ваня, – ответил подполковник, – потом мы еще по одной выпьем, и я поеду.
– Хорошо, – согласился отец. – Задавай свой вопрос, а я пока сделаю тебе бутерброд.
– То, что ты говорил, Ваня, безусловно, правильно. Ты говорил, как я бы сам говорил, если умел. Но я не умею. Кое с чем, конечно, я бы мог поспорить, но не в этом дело. По существу, Ваня, ты абсолютно уверен, что только так можно? И только так нужно?
Возникла пауза, во время которой погибли все земные звуки, растертое же инверсионными полосами-лямками небо-рюкзак привалилось к окну, как будто ходящий кругами Господь Бог вознамерился подслушать разговор ученого-марксиста и подполковника-мотострелка.
– Нет, – нарушил паузу отец. – Я в этом не уверен, Валериан. Скажу тебе как брату: я абсолютно уверен, что можно и нужно, что только в этом спасение, но я отдаю на волю тех, кто возьмется спасать, что именно можно и как именно нужно. Я всего лишь слабый духом теоретик, Валериан.
Голос отца звучал тихо и твердо. Леон никак не мог определить: свободопроницаем или нет его голос? Неужели существует что-то более, вернее, не менее значимое, нежели свобода? – удивился Леон. Если да, то именно об этом сейчас говорили отец и Валериан.
– Но ты бы мог допустить, Иван, – подполковник смотрел в упор на отца, и глаза его были в один цвет с вечерним небом, – что можно и нужно не то, о чем ты говорил в зале, а нечто совершенно противоположное?
Вероятно, он имеет в виду право русского народа, подумал Леон, жить как он хочет. Свобода – итог общественного развития, плод просвещенного разума, но право жить народа, как он считает нужным, выше? Дух Божий! – вдруг догадался Леон. Ему потребны бескрайние российские пространства, чтобы нестесненно носиться! Ему не нужны здесь ни густая, как в Китае, муравьиная жизнь, ни неуемная, как в Америке, свобода. Потому-то Господь и выбрал для России третье, милое его сердцу, состояние тихого (а временами буйного) помешательства. Нежизнь и несвобода. То есть если жизнь – без радости. Если свобода – голодная, звероватая, чреватая. Выходит, подумал Леон, отец и Валериан хотят скорректировать Дух Божий; как будто Дух Божий – артиллерийская стрельба по русскому народу. Собственно, почему бы и нет? Кому на Руси корректировать Дух Божий, как не ученому-марксисту и офицеру-мотострелку?
– Я говорил, – внимательно посмотрел на Валериана отец, – о рыбаке, не в добрый час выходящем на рыбалку, а не о снасти, которую он берет с собой. Я благословлял действие, Валериан, а не сомнение. Слова же… – помрачнел, щедро плеснул в свой стеклянный и Валерианов нержавеющий стаканы водки. – Слова же, Валериан, всегда отыщутся. И для оправдания, и для осуждения. Только вот…
– Что «только вот»? – уточнил Валериан.
– Да не раз уж бывало в российской истории, – вздохнул отец. – И каждый раз впору было петь: «Все не так, ребята!» Если срывалось, еще туда-сюда, но если получалось – оказывалось неизмеримо хуже, чем было до. Это я говорю тебе, Валериан, как ученый.
– Ваня, – сказал подполковник, – это ответ на второй вопрос. А я его не задавал.
Некоторое время самозваные корректировщики Духа Божьего сидели молча. Тема была исчерпана. Причем как-то безнадежно и не к взаимному удовольствию. К тому же неумолимо подступало время Валерианова дежурства.
– Чуть не забыл, – Валериан опустил руку в портфель, достал литую черную, разделенную на два рога трубу. – Тебе на память, Иван.
– Мне? – недоуменно принял трубу отец. Неурочный светлый ночной луч скользнул по комнате.
Труба поймала его рогами-сечениями, моргнула красным.
– Танковый прицел, – объяснил Валериан, – на рыбалке, охоте полезная штука. И вообще. Ночного инфракрасного видения. Вот эту кнопку нажмешь и смотри. А как на звезды интересно!
У Леона забилось сердце. Ради такой вещи стоило жить. Знал бы он, что у него будет танковый прицел, ни за что бы не стал стреляться.
– Валериан, – растерялся отец, – право, не знаю. Наверное, это дорогая штука.
– Дорогая, – подтвердил Валериан, – но в Нелидове завод. Прицел идет здесь за литр самогона.
– Подожди, Валериан, – отец сунулся к водочному рюкзаку.
– Не суетись, Ваня, – Валериан поднял нержавеющий стакан. – Лучше выпьем за правду.
Отец, как репку из грядки, выдернул из рюкзака бутылку «Пшеничной». Другой рукой из сумки – книжку «КПСС – руководящая и направляющая сила перестройки», последнюю свою, ударно изданную несколько лет назад книжку. После нее издание книг у отца застопорилось.
– Да-да, за правду, – теперь он судорожно искал ручку, чтобы сделать надпись. – Она, конечно же, там, в электронном танковом прицеле ночного видения, наша русская правда, где ей еще быть? Вот только видят ее немногие. Черт, где же ручка?
– Скоро увидят все.
За сокрывшуюся в электронно-инфракрасно-оптических глубинах прицела ночного видения русскую правду решили выпить стоя.
Вне всяких сомнений, она была продуктом высочайшей технологии. Но при этом ее обменивали в Нелидове на литр самогона. Если допустить, что некоторые обмены происходили в ночи (когда же еще?) возле пролома в заборе, в кустах, в лесу, то легко можно было вообразить военно-заводского похитителя правды, отслеживающего в инфракрасный прицел крадущегося к условленному месту покупателя. А после – нового обладателя правды, провожающего в прицел уносящего за пазухой бутылку самогона довольного похитителя. Таким образом, в высокотехнологичное созерцание правды широко вливались вместе с самогоном первобытно-общинные меновые (рыночные?) отношения, что делало это самое содержание тайным и непостижимым, как случайный ночной пейзаж в прицеле инфракрасного видения.
Так вдруг посмотришь куда-нибудь, и одному Богу известно, что увидишь.
Отец и Валериан опустили пустые емкости на стол, глядя друг на друга зверски-дружественно.
– Мне пора, – сказал Валериан.
Отец долго думал, как надписать морально устаревшую книгу. Наконец придумал: «Валериану – русскому офицеру и другу».
– Спасибо, – серьезно произнес Валериан, – обязательно прочитаю. Прямо сегодня на дежурстве и начну.
– Не обязательно прямо сегодня, – смутился отец, – это, скорее, как память о прошедшей эпохе. Когда-нибудь.
– Разберемся, – протянул руку подполковник.
– Подожди, Валериан, – забеспокоился отец, – возьми «Пшеничную».
– «Пшеничную» не возьму, – твердо ответил Валериан. – Понимаю, – упредил отцовские упреки, – ты от чистого сердца, но честь офицера не позволяет уподобляться. А сей мерцающий в тумане сосуд, – кивнул на флягу, – тебе. Там спирт. Счастливо, Ваня. Спасибо за угощение. Бог даст, свидимся!