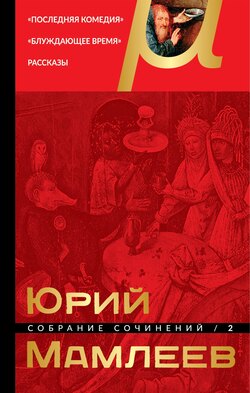Читать книгу Собрание сочинений. Том 2. Последняя комедия. Блуждающее время. Рассказы - Юрий Мамлеев - Страница 5
Последняя комедия
Глава III. Как вверху, так и внизу
Оглавление1
– Он жив?! – истерически спросила мужа красивая, вычурная женщина в ободранном платье, остановившись посреди чёрного двора.
– Лиза, ты каждый раз спрашиваешь о его здоровье. Это неприлично, особенно при мне. Уверяю тебя, что это ещё молодой, здоровый кот лет трёх-четырёх, не больше.
Муж даже строго схватил женщину за рукав. Кругом были деревья, летнее ночное небо, сумрачные облака в нём, и домишки, точно хоронившие богов.
Лиза всплакнула и, размахивая руками вдаль, бросилась в тёмную дыру своего подъезда. Мокрый пёс выскочил из дыры ей навстречу. Муж – его звали Костя – нервно поспешил вперёд. Дом был двухэтажен, но по внутреннему ощущению огромен. Казалось, в нём могли бы разместиться сонмы чудовищ. Но и так там жило достаточное количество существ. Пёс, лизнув пустоту, поднял морду вверх, на облака, словно видел там миски с пропахшим мясом мамонта. Тьма облизывала дома, и в ответ кто-то деревянно хохотал в окнах. Редкие огоньки за тихими занавесками были неподвижны.
Лиза, в такт луне, тяжело поднималась по деревянной лестнице на второй этаж. «Легка она не той лёгкостью, – думал внизу Костя, глядя на неё. – А так тяжела». Скрипнул потолок.
– Почему, почему ты не ревнуешь меня к коту?! – нечеловечьи визгливо закричала Лиза с высоты на мужа.
– Сначала не зови его Господь, – ответил Костя, поправив шляпу. – У него и так есть красивое имя: Аврелий.
Растворилась дверь в узкий, чёрный, как мысль Дьявола, коридор с бесчисленными дверцами по бокам. Вместо статуй – по сторонам – стояли вещи: комоды, тюки, чемоданы с ночными горшками и картинами. Звонко запела где-то кровать.
– Проходи, проходи, – не глядя, сказал Костя.
– Всё равно я тебе этого не прощу, – прошипела Лиза и попыталась что-то ущипнуть.
Стукнул какой-то котелок.
– Я опять забыл, где клозет, – сказал Костя.
– Но ты живёшь здесь пять лет, – прошептала Лиза. – Пойдём, пойдём скорее… к себе.
– Так и знала, знала, знала! – раздался вдруг дикий вопль из клозета.
Клозетная дверь распахнулась. Изнутри, как из мешка, вылетели полуголые, уже в летах, супруги Мамоновы – Ефим и Натали. Натали, бушуя грудью, двинулась на отчуждённо-сжавшегося Костю.
– Сколько раз я вам говорила, – заорала она, – что мы не можем иметься у себя в комнате: нет места, кругом вещи и дети!
– Предупреждали ведь: не лезьте в клозет, а стучите! – завыл Ефим и упал на пол.
– Сколько мук, сколько мук, – завизжала Натали, схватившись за волосы. – Ночью спишь, усталая… Днём невозможно полюбиться: стучатся в клозет, как крысы… Так и ночью, ночью в кои раз соберёшься, не дают покоя… Покоя, покоя! – закричала она, точно зовя на помощь.
– Я не виноват, – посерел Костя, – в коридоре двадцать пять человек…
– А мы объявление для кого вывешиваем?! – злобно зарыдала Натали. Она рванула Костю на себя. – Читайте: «Занято». Занято, занято было! – неестественным, плотски металлическим голосом закричала она. – Чорт образованный, читай: «Занято»!
Из комнат стали молча выходить соседи. В перерывах между криками Натали стояла мёртвая тишина. Вышел малоухий, серый мужик – Лепёхин – и, призрачно посмотрев на Мамоновых, погрозил кулаком в открытый, пустой клозет. Старушка Низадова выползла с зеркальцем. Зевнул появившийся пёс.
«Где Лиза? – тоскливо подумал Костя. – Где Лиза?»
Лизы нигде не было.
«Наверное, ушла к коту… Теперь всё», – ужаснулся он.
– Будьте вы прокляты, – прохрипел вставший на ноги Ефим.
Он схватил Натали за обширную талию и швырнул жену обратно в клозет.
– Хоть рож ваших никогда не увидим! – крикнул он, захлопнув клозетную кровать.
Костя у себя в комнате долго не мог найти подходящий сосуд для мочеиспускания. Как лунатик, в полутьме он бродил от буфета к кровати и к столу. Тень от взъерошенной головы пучком росла на стене. Плюнув, помочился в футляр от охотничьего ружья. Лиза не возвращалась.
Луна взглянула в тёмное окно. Наконец стукнуло в дверь, и Лиза вошла. Костя уже лежал в постели, скуксившись, словно покойник, которого не так положили в гроб.
Лизонька быстро разделась и нырнула в холодную постель, рядом с Костей… Ей казалось, что муж отключён и расписывает картины чужого воображения. Но неожиданно, с лёгким гортанным криком, он потребовал любви. Лизонька, распластавшись, покраснела: в уме виделся образ кота.
– Прости, прости, прости! – почти закричала она этому образу.
Без прощения у кота она не смогла бы даже кончить.
Но сейчас было особенно тяжело. Несмотря на внутренний визг «прости», чёрная морда Аврелия с укором смотрела на неё из глубин. Костя, как чемодан, болтыхался наверху. Но даже чувственно наслаждение не было наслаждением – всё снимали униженность и стыд за соитие перед котом. Даже кожа трепыхалась от безобразия.
«Ну, прости же, прости!» – чуть не закричала она, дрыгнув ногой, и конец был вял и безразличен, как осеннее сморкание в носовой платок. «Лучше уж так, чем так», – подумала она облегчённо.
Костя, отпыхтев, опять помолодел и был бледен, как труп водяного.
– Ты слишком много приписываешь ему, – сухо сказал он, надев очки.
При упоминании о коте Лизу бросило в жар.
– Но прежде всего не называй его Господь; это вредит нашим отношениям, – проговорил Костя. – …Подумай о том, что на самом деле он более прост.
Рано утром в коридоре опять раздался истерический крик. Кричал сосед Савелий по прозванию «лохмотун» – кричал просто так, из пустого клозета, откуда только что выкатились супруги Мамоновы, оставив после себя клубок пыли. Утро наступало тяжёлое, пасмурное, ещё более мрачное, чем ночь, именно потому, что был день, а тьма не сходила. Грязно-серый свет лился в прямое, длинное, нелепое горло коридора. Где-то зашурушились занавески.
Строгий старичок Панченков, заглянув в клозет, всё-таки увидел, что Савелий не просто орёт, но ещё, по обыкновению, сбирает с себя вшей и целует их. (У него была такая странная привычка, на которую никто не обращал внимания.) Но Панченков, однако же, взвился.
– Безобразие! Безобразие! – заголосил он. – Почему Савелий здесь не гадит! Клозет не молельня и не столовая, чорт побери! Я буду жаловаться милиции!! Мне жить осталось совсем ничего! – неожиданно, тонким голоском, взвыл он. – Не потерплю! Обманщики!! Кругом надувательство!! Несправедливость!
Его уняли, бросив на него одеяло. Выходной этот день начинался, как во тьме, впопыхах, точно на головы всех были накинуты мешки. Только Мамоновы не подавали знаков. Савелий вышел из клозета совсем захмурённый и пошёл на кухню: спать. Костя ещё дремал, как выкатилась Лизонька, заплаканная и с гитарой в руках. Оно прошла на кухню и села на подоконник, открыв окно: там виделся мир: двор с деревянными постройками, лужайками и много котов, собак среди странных, монстровидных людей, теряющихся в серой мгле. Лизонька вздохнула свободней: наконец-то повеяло чем-то лёгким. Голова её стала твёрже, как чугун, наполненный мыслью. Бренькая на гитаре, она запела. На странный, не то таинственно-германский, не то мастодонтный рёв посыпались все – поближе к ней, к Лизе. Даже Савелий – на полу – дохнул во сне. Пришла старушка Низадова, молодящаяся под самоё себя, со своим вечным зеркальцем. Она неизменно подмигивала себе, молодой, квази-виднеющейся там, в зеркале. Пришёл и угрюмый Николай, который никогда ничего не понимал. Он сел на пол и закурил. Только деловое существо – Семёнкина – хлопотала возле ведра. Она рада была бы всех прогнать, но любила, когда её видели в деле.
– Грустно поёте, Лизонька, – сказала одинокая жирная дама, Екатерина Ивановна, обычно натыкающаяся на столбы.
Старичок Панченков поднял руки вверх.
– Мне жить осталось немного! – прокричал он высоким, бабьим голосом.
«Где Аврелий, – тоскливо подумала Лизонька, – красота моя предвечная, где ты?» Она отдыхала от стыда перед ночным соитием с мужем. Во время таких отдыхов томно кружилось в голове, и луна точно входила в сердце.
– Лиза, Лиза! – вдруг раздался крик, и появился Костя в одних трусиках.
Но никого не пугал его вид.
– Уходи, уходи! – пробормотал он, вдруг сконфузившись. – Ведь сейчас Сыроедов принесёт твоего, то есть своего, кота – кормить…
Соседи переглянулись. У Лизы появились слёзы на глазах. Костя, пожав плечами, мгновенно исчез. И правда, вдали, из соседского коридора, дверь в который была полуоткрыта, послышался хриплый лай мятущегося Сыроедова. Аврелий был его собственный кот, и он держал его на свободе, однако же кормил по утрам при себе. Сыроедов был маленько сильный, коряжистый, красный и со взором, точно исходящим из стали, в которой появился скованный разум. Даже спал он всегда в кепке. Все не любили его за складки на шее и потому разошлись, кроме Низадовой, которая сжимала своё старчески-миловидное, круглое личико, смотрясь в зеркало, поставленное на стол. Когда она это совершала, то ни на кого не обращала внимания; высшая цель её была – выжать из своего похотливо-сморщенного личика настоящую мужскую сперму, точно она была ею наполнена изнутри. И чтобы она – эта сперма – потекла масляной, жирной струёй из корявого носа, из больных ушей, из жизненных, с истерией, глаз. Это было бы пределом её мечтаний; иными словами, своё личико Низадова рассматривала, как думающий член. Такое своеобразное извращение прямо-таки убаюкивало её, погружая в водяную смерть.
Сыроедов, наткнувшись на спящего Савелия, выругался и чуть не уронил облизывающегося кота. Лизонька побагровела и, закрыв глаза, читала молитвы. Она всегда была не в себе, когда Сыроедов по утрам своими огромными красными лапищами кормил кота, похлопывая его по морде. То, что над котом издевались, она принимала за сон. Но тем не менее страшно боялась, что его убьют. Когда Костя возражал, что Бога нельзя убить, Лизонька плакала и говорила, что Бога – нельзя, а возлюбленного – можно, а этот, кот шептала она, не только Господь, но и мой возлюбленный в образе. Однако ещё больше возможной смерти она страшилась отчуждённости кота, особенно во время еды или молитвы. Тогда она рвала на себе волосы и рыдала целыми ночами. «Он опять не смотрел на меня, – говорила она про себя. – Как тяжко быть оторванным от собственной красоты».
Но иногда, вглядываясь в Аврелия, – даже когда он был обычным – она в муке чувствовала, что Красота и Блаженство, исходящие от кота, невыносимы, как божественная ноша, для её души. Что они столь огненны и сладчайши, что её душа сгорает в этом свете, только приблизившись к ним и не вкусив и малой доли. «Недоступно, недоступно!» – кричала она тогда и билась в забытьи.
Сыроедов, между тем, сев на корточки, кормил кота с пальцев. Лиза, осознав, что чем больше мучений коту, тем больше Небесного Света, запела. Вообще, у неё бывали состояния, когда она пела, глядя на кота. И глаза её горели тогда любовью, пред которой стушевались бы любовники-люди.
Наконец Лиза бросила петь. Костя угрюмо поглядывал на всё из щели. Дитя старика Панченкова, стоя на четвереньках сзади Кости, щекотало его пятку. Несмотря на утро, было темно.
Так и бывали они: приземистый Сыроедов, облапив Аврелия, всё совал ему в рот свежее мясо, стекающее ему по пальцам; Лизонька с размётанными волосами сидела на подоконнике и грубо-пристально, не отрываясь, смотрела на кота; только старушонка Низадова, глядя на себя в зеркало, попискивала, выжимая из своего личика что-то родное и липкое, напоминающее ей сперму, да доносились обрывочные, не то скотские, не то людские выкрики со двора.
Вдруг откуда-то взвился старичок Панченков. Пошевелив задом, он прямо-таки взмыл над Лизою и, деревянно повернув голову, посмотрел в окно.
– Никак Мессия опять во дворе, Мессия! – прокричал он, обращаясь к спящему Савелию.
2
Мессия, или, как он сам себя иначе называл, Панарель, появился здесь недавно, поздней весной. Откуда Он пришёл и кто Он такой – никто даже формально не знал. Жители вышеописанного дома № 7 вообще не обратили на него большого внимания. Но кое-кто, из других окружающих, зашевелился.
Внешний вид Панареля вполне соответствовал представлению о Мессии: он был высок, худ, с женственно-мужественным лицом и глубокими, не из мира сего, глазами. Общее впечатление было как от стремительного, но величественного существа. Он утверждал, что учит как власть имеющий и говорит не от Себя, а от Небесного Отца, его пославшего. Проповедовал он религию любви и обещал не более и не менее как спасти погибшее. Это последнее особенно вызывало какое-то мутное беспокойство и даже подозрение. Укусов, садист-эзотерик, который был склонен причислять самого себя к погибшим, часто, прислонившись к помойке и прожёвывая крупу, покачивал головой: «Да ведь Он идёт против мирового порядка, который не есть любовь… И что это у Него за Папенька, который противопоставил Себя Творцу». Но соблазн, однако же, был велик. Тем более что Панарель обещал «давать воду жизни даром». Часто Укусов, насладившись убиением курицы (у него не бывало оргазма без умерщвления), потный и понурый, чуть подпрыгивая, брёл на проповеди Панареля.
«Не так, как мир даёт, Я даю… Но человек возлюбил тьму…» – доносилось до него издалека.
Из понимающих один Грелолюбов, который считался извращённым гностиком, первое время не был озабочен действиями Панареля. Грелолюбов жил через забор от дома № 7. Он не раз приходил послушать Панареля, посмотреть его чудеса, но относился к нему равнодушно-спокойно, хотя и как-то по-братски. Сам Грелолюбов считал тварный мир результатом трансцендентного эротического акта Единого, а самих тварей, таким образом, – феноменами эротического воображения Творца. Духи и люди, например, – по Грелолюбову – существуя, как и весь мир, в уме Единого Бога, быди игрушками, персонажами Его трансвоображения.
Строгая иерархичность мира была следствием неравномерности отдельных моментов истечения высшей фантазии; иными словами, все существа в равной степени возбуждали Единого, и ценность неповторимость каждой личности зависела от её способности пробудить трансцендентное «вожделение» и вызвать его на себя. Тем более что в какой-то степени все разумные существа были автономны, и свобода воли не нарушалась.
В этом пробуждении и состоял смысл закулисной жизни Грелолюбова: он считал, что если он будет более сладострастен и неповторим, то и торжества, и бытия выпадет на его долю побольше. Он даже потаённо возжаждал заработать на этом личное бессмертие. С грустью смотрел он на мир: люди, твари, не зная, что они существуют ради трансцендентного эротизма Всевысшего, мало занимались собою в этом отношении, и Творец терял к ним интерес. Как окаменевшие, бездушные истуканы коченели они, теряя свой смысл, душу, эстетический шарм, превращаясь в грубую и телесную материю, то есть в отходы. Лишь некоторые ещё возбуждали нарциссическую волю Творца (такой путь был весьма двусмыслен, так как период, когда мир не существовал, соответствовал абсолютному нарциссизму Единого, Его самотождеству, и мир, чтобы существовать, потенциально должен был стремиться заинтересовать собой Творца, однако, желательно не через пробуждение до конца Его нарциссизма). Сейчас, по мнению Грелолюбова, дело обстояло особенно плохо: возгорался особый период, который в нашем сознании мог преломляться как период бреда Всевышнего, и история была переполнена кошмарными фантомами; добавьте ещё прежние окаменелости, к которым интерес был уже навеки потерян и которые, однако же, – может быть, из милости – автоматически существовали, как смердящие трупы разочарованности; плюс различные отходы, нюансы, феномены самоуничтожения; поэтому было понятно, отчего Грелолюбов так вздыхал и жаловался, что он один ещё, по существу, сознательно заигрывает с Вожделением Единого, правда, без декаданса… Таков был гностик тьмы и дьявола, и такова была его теория.
Однако Грелолюбов не прочь был по-своему оценить «дикую» религию добра Панареля. Правда, Небесного Отца, к которому взывал Панарель и Сыном которого он себя объявлял, Грелолюбов относил к одному из высших начал, а отнюдь не к самому Абсолюту.
Когда во дворе дома № 7 целый смрад малых сил (сих?) собирался послушать Панареля, рассаживаясь, где кто мог: на пнях, на деревьях, на скамейках, на земляных клозетах, Грелолюбов, отвиляв задницей, тоже шёл туда.
Не обижал Панареля вниманием и Иров, угрюмый монстр, главарь некой метафизической банды, занимающейся непотребными духовными операциями. Сам Иров лицом был тяжёл, словно окаменевшее божество, но со взглядом водянисто-властным и неподвижно-беспокойным (кроме того, лицо его было в серых буграх).
Венцом всего был Виталий, у которого сам Грелолюбов ходил в учениках, да и Иров подучивался (Укусов был более сам по себе). Виталий основал школу нового гнозиса, гнозиса, порвавшего со светоносными религиями и заключившего союз с мраком.
Сразу же после первой большой проповеди Панареля, когда малые разошлись, Виталий решил поговорить с Панарелем по душам. Около были и Укусов, и Грелолюбов, и Иров. Панарель покойно согласился.
Решили пройти тропкой, между высоким, раздражающим своей нелепой таинственностью забором и пустой канавой. Тропинка, виляя по чахло-зелёным лужайкам с облёванными бумажками, вела к одинокой, словно не от мира сего в своей мирности, пивной. Панарель шёл впереди, высокий и лёгкий, Виталий чуть сзади, покачивая точно превращающимся в мысль животом; остальные – сбоку. В пивной, напоминающей летнюю веранду, почти никого не было: только пил молоко хмурый, неразговорчивый молодой человек. Укусов, крикнув, пошёл за пивом – равнодушная официантка чуть пролила на пол. Было тепло, и дул свежий ветер, точно деревья стали живые, но по-смертному. Расселись за столиком. Панарель не отказался от пивка, но пил, не пьянея. Остальные как-то нехорошо оживились. Грелолюбов, своим видом обычно жабообразно-мистический, на этот раз был подтянут и строго смотрел на Панареля, словно требовал от него отчёта. Иров выглядел каменно-оживлённо: может быть, ему хотелось узнать вести оттуда. Но Панарель был по-прежнему светел и, казалось, находясь с ними, улетал.
Засвидетельствовали о себе. Панарель сухо улыбнулся.
… – Ну, как вам наш тёмный гнозис? – подмигнув Панарелю, проговорил, наконец, Виталий. – Я не говорю о Грелолюбове, он у нас юродивый зла, а о том… Ну, сами понимаете…
– Я пришёл сюда не для того, чтобы открывать, а для того, чтобы спасать, – ответил Панарель. – Что говорить о том, что всё равно не вместится в человеческие головы… Что я и сам-то не до конца знаю, ибо Отец мой Небесный больше меня. Но один спасённый больше любого знания, говорю я вам…
– Так это вы серьёзно: спасать! – расширив глаза от удивления, воскликнул вдруг распустившийся Грелолюбов. – Дорогой мой, вы не туда попали, – продолжил он, бесцеремонно толкнув в бок Панареля. – Здесь некого спасать… Может быть, вы не так поняли своего Папу… Или не туда занесло… Знаете, всё бывает.
Виталий, однако, одёрнул Грелолюбова. Укусов, тревожно блуждая глазами, всматривался в Панареля, забыв о пивке. Виталий грустно улыбнулся (был он приземист, и тень от его странных ушей падала на Панареля). Напротив зевала продавщица.
– Ну-с, ну-с, – пробормотал Виталий, подвинув соль в солонке к себе поближе, – ведь не скажете же вы, что для их спасения достаточно одной воли творца, а каковы они сами, какова их воля – это безразлично… Тогда вся история мира превратится в комедию, в театр марионеток… А если от них тоже зависит – то вам здесь, в миру, делать нечего… Сами Себя вы только и спасёте… Меньшая, лучшая часть человечества – давно глубоко наша, до последней капли спермы, по последнего вздоха, сами же вы говорили, что «человек возлюбил тьму»; а как возлюбил, это мы даже лучше вас знаем, ибо тьма стала их душою… Другая часть, подавляющее большинство людей на земле, – вообще несущественны; они сдёрнули с себя все маски и пришли к своей сущности, а сущность их – небытие… Не мешайте им навечно умереть… У них нет даже пародий на богов, есть только пародии на обезьян… Духовная и вечная жизнь для них непосильное и нелепое бремя… Спросите любого из них об этом, он даже не поймёт, о чём вы его спрашиваете… А я уверен, что если бы даже поняли, не захотели бы никакого бессмертия. Небытие в виде «жизни», то есть грязное ничто – их сущность здесь и, надеюсь, полное небытие – их будущее там…
– Только поэтому Я и пришёл сюда: чтобы победить мир, – ответил Панарель.
– Послушайте… дорогой мой, – уркнув, по-своему интимно опять обратился к нему Виталий, – зачем вы здесь?.. То, что мы здесь, это понятно: мы любим ад, мы теплы к нему, наша душа и его геенна – сродни, и потому его боль – наш хлеб насущный; мы посланы адом, который желает преобразиться, чтобы объять весь мир. И если вы, как вы говорите, сын Божий, то мы тоже знаем, чьи мы сыны… Мы сыны ада, и на земле потому, что возлюбили ад. Вы даже здесь, среди этих скотов, зверо-роботов слышите то, что они не услышат даже волею Бога – хи-хи, – ибо есть в душе нечто, куда не имеет доступ даже Бог… (вспомните вашего Мейстера Экхарта)… Да, да, вы и здесь слышите музыку сфер, зато мы здесь слышим адский хохот, который они тоже не слышат, но который нам слаще, чем ваша музыка сфер… И неизвестно, что ещё приведёт к высшему Концу… Зачем, зачем вы здесь?!!
– Сыну Божьему надлежит отдать свою жизнь за род сей, неверный и лукавый, – ответил Панарель. – Он будет предан, распят и убит, но воскреснет из мёртвых и вознесён будет… И оставлю здесь церковь для спасения их.
– Ничего у вас в этом мире, везде, среди людей, где бы вы ни были, не выйдет, – пухло вздохнул Виталий. – Они способны только жевать да изобретать свои машины, чтоб лучше жевалось… Если спасёте, то считанных, кто и сами, может быть, спасутся. Ваша церковь превратится в камень… Ад? Спасение от него? Думаю, даже подвалы ада побрезгают ими… Ад им ещё надо заслужить. Они выбрали своё будущее. Они «думают», что после смерти ничего нет – и так действительно будет, для них. Для них и здесь в духе ничего нет. И это своё «ничего нет» они перенесут в вечность. Те же, кто «верят», по сути, неотличимы от неверующих… Их невозможно спасти.
– Неужели вы думаете, что Я это всё не знаю? – вдруг раздражённо прервал Панарель. – Но помните: то, что невозможно человеку, возможно Богу…
– Да полно… Уж не ошиблись ли там – нелепо! – случаем, – вдруг захохотал Грелолюбов. – Скорее, они всего-навсего просто трупы. Знаете, бывает такое квази-воскресение мёртвых… Так что тут всё беспредметно.
Ожирев личиком, он подмигнул Панарелю. Укусов расплескал пиво. Панарель встал. Через минуту они уже выходили из пивной. Грелолюбов, опять набросив жабообразность, семенил около Панареля, отламывая веточки с попадающихся деревьев.
– А всё-таки, – подкрикивал он, обращаясь руками на себя, – может быть, то, что мир сейчас, в некотором смысле, так воплощён и утратил связь с потусторонним – это тоже своего рода спасение. Может быть, будет совсем утрачена эта связь, и после многих столетий они утвердятся только здесь, даже в смысле физического бессмертия, защитив себя таким образом от нечеловеческого. Ведь здесь, под защитой тела, они смогут стать, как господа в хлеву… А сейчас к этому только переходят – отсюда неизбежно то, что видим: жертвы, трупы, омертвение и исчезновение… Тогда наша задача – тоже устроиться здесь, в посюстороннем (в конце концов и для нас это тоже безопасно и выгодно: ведь от добра добра не ищут, плевать на невидимое, останемся здесь), но так как мы не можем без духа, без отчаяния, без провалов и абсурда, без всего высшего, то мы в конце концов перенесём потустороннее сюда и хотя спасём мир от вечности во скоте, но и привнесём бездны… Хотя, может быть, и без всяких тамошних крайностей… Нам же лучше… Любовь к аду любовью, но иногда и у самого дух захватывает… Хочется передышки… А? – Грелолюбов на ходу, болтая ножками, заглянул в глаза Панарелю.
Наступила тишина. Панарель вдруг медленно стал уходить от них. Виталий тоже куда-то исчез.
На истоптанной, точно слонами, тропке остались трое: Грелолюбов, Укусов и Иров. Где-то выл не то человек, не то кошка. Хохотали дети.
– А всё-таки: Он так прекрасен, – вдруг сказал Укусов. – Ничего подобного в миру не было… Что мы можем ему противопоставить?
– Мерзость, мерзость нашу! – вдруг закричал Иров, до того молчавший. Лицо его словно тяжело задымилось в сером. – Про мерзость нашу забыли!? Ибо как Он велик в Красоте своей Неизреченной, так мы мерзки в своей бездности. Мерзости, мерзости побольше! Не гнушайтесь даже малой, человеческой.
3
Дальнейшие события приняли несколько странный, вычурный оборот, когда выяснилось, к кому конкретно пришёл Панарель. Во-первых, он старался обходить обитателей дома № 7, то есть Лизоньку с Костей, кота Аврелия с его хозяином, Низадову и т. д., точно они действительно были хоть и живые, но намертво в лапах Виталия (про Виталия говорили, что он может совершать чудеса, даже будучи мёртвым). Учил же Панарель в основном близживущих обитателей, соседей. Но вскоре оказалось, что и к ним он пришёл, может быть, не как к главным: потому что с особенной страстью учил Панарель среди различных животных. Когда весть об этом дошла до гностиков, Грелолюбов даже запрыгал от смысла. «Звери, по существу, во всяком случае многие из них, – души людей, отставших в своём развитии, – подумал он. – И Панарель решился на великий подвиг: прийти не только к малым сим, но совсем к окостеневшим!.. Только на каком языке он будет с ними разговаривать?» И правда, здесь были трудности. Собрав вокруг себя, на заброшенной лужайке, между помойками, целое море разнообразных тварей, Панарель, разумеется, не говорил по-человечески: он то оборачивался в полукота-полусобаку, то вставал на четвереньки, то выл. Укусов, не раз наблюдавший за этими сценами из-за помойки, плакал, вытирая грязным рукавом лицо: велико было смирение Панареля и желание его спасти самую, казалось, ничтожную тварь. «Приидите ко Мне, труждающиеся и обременённые, и Я вас успокою… ибо Я кроток и смирен сердцем, и бремя Моё легко», – вспоминал Укусов слова Панареля.
Не раз Панарель бегал наперегонки с дворовыми собаками, ел с ними из одной миски. «Возможно, тут какие-то непонятные для нас шифры, – морщась, думал Укусов, – и магия, действующая только на животных… Он внушает им некоторые данные на их же движении или языке… Возможно, в их уме отражается Панарель как высшая сила в виде собаки-кота, и это ведёт к сдвигам в их душах… Ну и ну… А может быть, он хочет их убедить, что он и они – это одно и то же, и он в них, а они нём… Хе-хе».
И Укусов уходил к себе – мраковать.
Нередко люди тоже присоединялись к этим сборищам, и Панарелю приходилось то лаять, то говорить человеческим голосом. Великолепны же были эти картины, когда Панарель, как некий дух, метался среди этой разношёрстной толпы трубочистов, профессоров, идиотов, собак и истерически мяукающих кошек. Постепенно люди со своей назойливостью стали вытеснять животных, но разницы было мало. «Что вы время зря теряете, – шептал на ухо Панарелю Виталий. – Они вас за огородное чучело принимают, и люди, и собаки». И точно, Панарель дивился неверию их. «Кусни, а то не поверим», – сказал ему один пожилой человек, повернув к нему ухо. Панарель куснул и сказал: «Блаженны не видевшие, но поверившие».
Тяжело было также с учениками: никто не шёл. Панарель выбрал, правда, одного старого изодранного кота и толстого человека, полудурка. Кот, однако же, от страха обмочился и чуть не издох, а с человеком тоже получился конфуз. Панарель хотел было для начала, чтоб испытать его веру, перепрыгнуть с ним с крыши одного сарая на другую, соседнюю: расстояние было пустяковое, иной, даже самый плохонький, физкультурник вполне мог бы перескочить. Но человек, однако же, умудрился провалиться и упал в канаву. Панарелю пришлось его подлечить и отпустить с миром.
Между тем весть о Панареле охватила окрестности. От скуки к нему стекалось много народу. Особенно развлекали людей чудеса, которым они тут же находили «объяснения». Последнее было настолько смешным, что Грелолюбов ждал, что Панарель вот-вот рассмеётся: однако улыбку Панарель оставил где-то далеко, может быть, у отца. Больше всего чудес было связано с воскресением из мёртвых: причём попадались преимущественно собаки и кошки.
Нередко люди звали его к какой-нибудь жуткой, только что погибшей кошке; окружали тесной толпой: все такие взлохмаченные, с красными лицами; дети пытались его ущипнуть; некоторые большие дяди дышали ему в затылок; насторожившись, смотрели, как Панарель прикасается рукой к трупу; и дико хохотали, когда кошка оживала и вскакивала; под трубное улюлюканье она обычно, наметавшись, бросалась сквозь толпу вон; хохот всё время возрастал и преследовал кошку; нередко её потом ловили и снова убивали. Детишки с добродушной хитрецой по нескольку раз в день теребили Панареля воскрешать одну и ту же кошку, которую они – после каждого воскресения – неизменно вешали. «Кто не будет, как это дитя, не войдёт в Царствие Небесное», – сказал как-то Панарель про одного ребёнка.
Но взрослые особенно любили играть с ним в шашки. Вечерами, после проповеди, нередко устраивались сеансы одновременной игры, где Панарель сражался один на ста – ста двадцати досках.
Взрослым было лестно обыграть Сына Божьего. Потные, издавая какие-то странные, петушиные выкрики от страсти, они во что бы то ни стало стремились выиграть. Коты вертелись тут же. Если кто-нибудь выигрывал – из наиболее развитых, – то прямо-таки возносился душою, считая себя равным Господу («может быть, он и взаправду Сын Божий, чем чорт не шутит», – думал иной). Он смеха некоторые показывали Ему язык. Другие – себе на уме – насмехались: «Сын Божий, а в шашки не у всех выигрываешь». Но всё же такой он был им более приятен, нежели когда творил чудеса. Вызывал же недоумение он у многих через воскресение мёртвых. Были, которые страшно обозлились на него из-за этого. Прежде всего, от воскрешённых собачек и кошечек не стало отбою на всей улице. Они вертелись под ногами, нагло заглядывая в глаза своим бывшим хозяевам, урчали, просили еды. Вообще же, после воскресения они стали необычайно нервны: кусали свои хвосты, гонялись за тенями. Гвалт стоял во всех дворах.
Иной раз ночью в окна заглядывало и чьё-нибудь усопшее человеческое рыло. Деточки гонялись за ним по утрам.
Слава Панареля росла. Всё больше и больше народу по-своему симпатизировало ему. Кое-кто предлагал свои услуги; один сиворылый, стриженый человек, озираясь, судорожно отозвал его в сторону и сказал, что может помочь ему устроиться на работу: продавцом в пивной ларёк.
Под конец Панарель взмолился. Отойдя от всех к реке, белой, словно слёзы, Он, прислонившись к дереву, возопил:
– Отче! Не о себе молю, а о том, чтобы Слово Божие пришло к ним. Пусть, если надо, оно оденется во все земные, глухие одежды: пусть это будет стон кошки, крик птицы, мычание коровы. Если через Меня недоступно им это, обрати Меня в змею, в барабанного идола, во что хочешь, лишь бы Оно пришло к ним во спасение их. Пусть они поверят ему в устах идиота или ребёнка, в устах женщины или ослицы, но пусть придёт!.. Святый Отче!
После молитвы мало кто видел Панареля. Часто Он оставался один. Изредка – в стороне – замечал людей, играющих в футбол или свистевших про себя. Какой-то голос шептал ему: «Если ты даже спасёшь их от ига материи и скотоумия, о их ада и от их небытия, то уверен ли ты в том, что высший мир в конечном итоге дарует им благо? Выдержат ли они там непосильную ношу? Не уничтожит ли их свет? Может быть, есть возможность для них здесь обособиться, храня лишь горстки света?»
Этот голос удивил Его: как будто кто-то упорно не желал понимать Его миссию. Но больше всего поразило его молчание Отца. Он всегда чувствовал: Я в Отце и Отец во Мне, и это «чувство» было больше, чем обычное горение духа в нём. Горение, которое всё-таки распаляло его тело, перенося в бездную, бессмертную реальность, с которой Земля с её хлопушками и взрывами была видна только как грязный и зловонный плевок. Это было пламя, благодаря которому Он мог сказать: «Радуйтесь, Я победил мир!» Но связь с Отцом была ещё беспредельней; в Отце он видел себя вынесенным в столь мощную, но далёкую от мира область, о которой бессмысленны всякие вопросы, но которая несла его в себе, как серебристую звёздочку. И в то же время была каким-то непостижимым образом в нём. Но теперь эта связь неожиданно и грозно порвалась. Он чувствовал в себе всё тот же дух и огонь, и свет вечности, но то самое запредельное вдруг померкло для него. Это было настолько неожиданным, что Он и не знал, что решить. Погрузившись в Себя, Он слушал вращение времени, шёпот духов, вздох Неизречённого, тайны стирающихся клише; видел мерцание ада и пересечение сил, игру знаков; но теперь Он был один. Почему?
Однако ничего не оставалось, как продолжать свою миссию. Надеясь, что связь восстановится, вспыхнет снова…
В миру продолжалось всё то же… Учеников не было… Но слава его росла… Однажды Укусов обомлел: он увидел Панареля стоящим на балконе второго этажа; балкон выходил в тесный проулок между высокими заборами. По этому проулку или, вернее, канаве шли толпы людей и приветствовали Панареля; некоторые плясали, но большинство очень резво пело лихую песню: «Он хороший парень, он хороший парень» и хлопало в ладоши; Панарель же, стоя на балконе, преобразился: он выглядел не то обезьяной, не то монстром, не то просто каменной глыбой. Дети махали ему ручками.
Укусов обернулся к проходившему мимо Грелолюбову и кивнул головой:
– Дальше идти уже некуда… Это последняя точка. Даже когда Он лакал из миски и оборачивался псом, было не то.
А на следующий день у Панареля появился двойник: откуда-то из помойки вылез человечек, точь-в-точь похожий на Панареля, в таких же жестах и одухотворённости, но как-то уже в иной интерпретации.
Первым делом он подскочил к двум здоровым, отолстевшим от одурения котам и, потрепав одного по белой мордочке, провизжал:
– Помните, что вы – боги!
И потом быстро скрылся за помойкой, подмигнув напоследок истинному Панарелю.
Иров прозвал этого двойника очень просто и коротко: Саша.
Иной раз этот Саша грозился кулаком из-за какого-нибудь прикрытия – самому Виталию.
Панарель неожиданно исчез.
В этот же день уставший от своих операций Иров наткнулся около забора на пятерых старичков, несущих кое-как холодильник. Про них с подобострастием говорили, что они уважают холодильник, как божество и отчитываются перед ним, стоя на четвереньках.
– Ну… Ну, – сказал Иров, когда старички остановились, чтоб передохнуть. – Вы считаете себя ниже холодильника и его – вечным!
– Конечно, – пугливо ответил один старичок. – Он нас переживет… А потом: по нему топором ударишь – и ему ничего, а по нам топором – и нас не будет… Разве нас с ним сравнишь!
И старички двинулись с места.
Старичков этих, поклоняющихся холодильнику, однако ж, скоро сурово одёрнули за ересь. Но Панареля никто из милиции и других местных властей не разыскивал: они его принимали за затейника и даже собирались наградить. Так что тюрьма ему не грозила.
4
Панарель снова, через несколько дней, появился у дома № 7, утром, как раз, когда там разыгралась известная сцена с котом Аврелием, и старичок Панченков, выглянув в окно, покричал: «Никак Мессия опять во дворе, Мессия!»
Этот крик равнодушным эхом отозвался в коридорах дома № 7: его обитатели никогда не ходили на проповеди и чудеса Панареля – точно чувствуя на себе – во сне – тяжёлый взгляд Виталия.
Лизонька – когда Сыроедов унёс кота – укатила к себе: плакать. Костя ушёл за пивом. Кажется, был выходной, и наступила своеобразная тишина.
Что творилось за окнами дома? В три часа дня раздался, однако ж, стук в квартирную дверь: то ломился Грелолюбов. Его по неестественности уважали в этом обществе. В хохотке, по тёмным уборным, рассказывали друг другу, что-де у Грелолюбова – ушастый член. Ушки-де рудиментарны и маленьки и находятся у основания члена, однако же перед соитием разбухают, и Грелолюбов помахивает ими, как слон, перед тем как броситься на женщину. Ещё говорили, что он может подслушивать этими ушами. Более тайные уверяли, что во время соития ушки уходят внутрь, словно бестелесные, и Грелолюбов ими там непрерывно махает, так что женщине кажется, что она летит на шабаш. «Люблю ушки евойные», – говорила обычно Екатерина Ивановна, которую Грелолюбов чаще других выделял.
На сей раз Грелолюбов был немного не в себе. Повертев головой, он посторонился и всё спрашивал про Лизонькиного кота Аврелия. Сыроедов, позабыв обо всём, тут же выскочил из какого-то угла со своими расспросами. У него была привычка криком обо всём расспрашивать, больше о непостижимом. Грелолюбов еле укрылся от него в закутке. Сам он был пьян и плохо держался на ногах, но внутренне был трезв, так как всё утро чувствовал своей задницей нацеленный на неё невидимый член. Перепутавшись в уме, Грелолюбов вилял задом, куда-то скрывал его, гладил, обливал одеколоном, но ничего не помогало. Из своей комнаты Екатерина Ивановна гулким, грудным голосом зазывала его.
– Не до тебя, не до тебя, Катька, – бормотал Грелолюбов, путаясь в тайнах своих последних снов.
Дикий крик застал его где-то у света. Неподалёку стоял Лепёхин и, повернув своё серое лицо к окну, в котором виделись смутные черты какого-то явления, мёртво орал – он всегда орал, когда видел что-нибудь вечное. «Опять, опять эти узоры», – бормотнул Грелолюбов. Землистость поглощала лицо Лепёхина, но из маленького, красно-сморщенного рта, всё время уменьшающегося, лился крик, точно вечность была непознаваема. Чей-то мелкий-мелкий хохот раздавался то там, то сям. Но как только появлялся Грелолюбов – все в страхе разбегались.
Вдруг Грелолюбова рвануло к Екатерине Ивановне. Она, распустив свои пышные руки, тянулась к нему, приподнимаясь с постели (дверь была полуоткрыта). Чёрным кустом мелькнул ничего не понимавший Николай. Грелолюбову же захотелось вылить себя в Екатерину Ивановну, может быть, тогда не так остро будет чувствоваться этот невидимый член, нацеленный ему в задницу. В ней – в заднице – он предощущал холод адского соития с потусторонним. Извиваясь спиной, как будто она превратилась в змею-искусителя, подмигивая затылком Невидимому, он с визгом бросился на Екатерину Ивановну. «Зад, зад утепли только… руками, руками!» – визжал он каждую минуту, словно чувствуя себя не только в Екатерине Ивановне, но и ощущая на себе – сверху, у зада – слепую волю холодного сладострастия.
Крик стоял во всём коридоре. Только одна Семёнкина драила на кухне свои кастрюли. Когда вопли стали затухать, из комнаты с измученным, воспалённым лицом вышла Лизонька. Аврелий мяукал где-то на чердаке. Дверь в квартиру была почему-то открыта, словно обозначая перелом, и какие-то типы то и дело мелькали на лестничной клетке, заигрывая со своей тенью.
Вдруг в дверях обозначилась фигура Панареля. Курчавое дитё бросилось от него в сторону. Усталый, с горящими глазами, Панарель тяжело шёл по коридору. Супруги Мамоновы юркнули перед его носом – в клозет. «Я умру, умру скоро!» – завыл в своей комнате старичок Панченков. «Скоро!» – точно отозвались все стены. Савелий, проснувшись, глотно урчал, глядя на Панареля и приглашая его выпить на двоих. «…а тому радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах», – говорил Панарель, словно про себя. У какой-то лестницы, опять ведущей во двор, его остановил взъерошенный, астеничный, с бледным, точно лающим лицом, человек. Он уже давно преследовал Панареля, и фамилия его была Ферченко.
– Я хочу вас спросить! – закричал он. – Укусов… Укусов…
– Что Укусов?
– Укусов повадился, говорят, маленьких девочек пятилетних насиловать… Но ведь это же бонапартизм, – завизжал Ферченко, меняя свой голос на другой, нечеловеческий. – Да, да… бонапартизм… Потому что я могу насиловать только их куколки… Да, да, я брожу по детям, когда они играют у песка, краду их куколки и тотчас убегаю… Насилую рядом, где-нибудь в кино… Если не нравится, то несу обратно, девчонкам… Расколдуйте меня, освободите!
– Веруешь? – спросил Панарель.
– Расколдуйте!!
– И хочешь освободиться?
– Не хочу, не хочу! – вдруг заверещал Ферченко уже третьим голосом. – Я только завидую Укусову. Ведь бонапартизм: насиловать малолетних… А я только куколки! Да ещё за мной бегут!!! Не хочу, не хочу, не хочу!
Панарель молчал. Странные, сверхживые глаза его были в глубокой тоске и точно по стенам.
Откуда-то сверху послышался вопль Лизоньки и её мутное хихиканье, мигом она оказалась около Панареля. Снизу, из щели, выглянула голова Савелия.
Лиза с ненавистью взглянула на Панареля.
– Пошёл вон! – закричала она. – Опять пришёл в наш двор проповедовать?.. Люди, люди! – завыла она, обращаясь к голове Савелия. – Он хочет съесть моего кота!.. Да, да, он его выслеживает и скачет за ним по ночам по крышам!.. Чорт немазаный, на кого ты руку поднимаешь?!
Появился, как тень, Лепёхин. Панарель молчал.
– Помалкиваешь, – злобно взвилась Лизонька. – Я тебе покажу, Сын Божий! – подступилась она к нему, заглядывая в лицо. – Ишь… Мой кот – и Сын Божий, и Дух, и Отец, и возлюбленный мой во плоти… А ты – нечисть, водяной, оборотень, загогулинка! А ну, поцелуй меня, если любишь моего кота…
И Лизонька пристукнула ножкой.
Панарель был недвижим.
– Убирайся вон! – взвизгнула Лизонька, как-то неестественно подпрыгнув.
Сверху, с каких-то дыр и провалов, послышалось шмыганье Кости – он по обыкновению измерял логарифмической линейкой тело Лизонькиного кота. Голова Савелия погрузилась в сон: он умел спать стоя. Лепёхин изумлённо, как на несвойственную вечность, смотрел на Панареля. Его маленький рот совсем вобрался в себя, а большое, серое лицо было, как землистая луна, светившаяся своим мутным светом.
Панарель стал удаляться. Все трое – он, Лепёхин и Лизонька – оказались во дворе. На лестнице осталась одна сонная голова Савелия, торчавшая снизу. Ферченко же куда-то исчез.
– Я натравлю на него своего кота! – вопила Лизонька, распустив руки в воздух. Взгляд её стал тяжёл и упёрся в одну точку. – Да, да… Он будет лаять и гнать тебя со двора!
Панарель уходил в сторону. Из-за помойки высунулось личико его двойника и прокричало, обращаясь к Лизоньке:
– Дерзай, дщерь! Вера твоя тебя спасла!
Лепёхин сел на траву.
День окончился как-то сумрачно и непонятно.
Следующие дни потекли, как во сне в снах и в то же время реально, словно обнажилась бездна. Всё смешалось – и трупы, то есть обычные жители, и Панарель, и гностики, и обитатели дома № 7. Панарель совершал какие-то таинственные, может быть, не предусмотренные им самим обряды. Сонмы котов вились около его ног. Но молчание Отца становилось всё глубже, словно верхняя связь между ними теперь отсутствовала. Лизонька среди оргий (кот Аврелий казался сонным) бросалась на Панареля: «Кто Тебя послал – знаешь. А кто нас послал, таких мерзких? Ответь!» – и смотрела на него взлохмаченным, словно сквозь сетку, ненавидящим взором. Костя вдруг стал совсем сморщен: то ли его добило Лизонькино отношение к коту (он уже не мог с ней полноценно совокупляться, а только кричал, как кошка), то ли ещё что. Он стал более приземист, ручки сделались, как слабоумные крылышки, которыми он только махал, бездействуя, глаз же получился сосредоточен и словно оторван от его существа. Он начал почему-то голыми руками охотиться на голубей, и иногда ему удавалось поймать. Душить же не душил, а только поглаживал, сидя на корточках, и приговаривал: «Глазки у голубей мерзкие, как у ангелов; недаром они имеют к ним отношение».
Стоявший обычно рядом с ним Ферченко, вожделея, смотрел на голубей: ему казалось, что пуговичные, жестокие в своей вещественности и отчуждённости глаза голубей отражают отношение ангелов к человеку. От этого у него незримо, словно у богини, вставал член и ум мутился от желания изнасиловать голубя, особенно эти пуговичные стеклянные глазки. Это была бы победа над его слабостью к куколкам.
Не раз Костя приподнимался и махал издалека руками Панарелю: тот призрачно виднелся где-то за деревьями. Ферченко же весь дрожал: задница его подрагивала, глаз стремился к голубке, а из кармана торчала куколка.
Однажды разыгралась совсем уже безобразная сцена. Костя поймал голубку и, ужаснувшись через её глазки Подножию Ангельскому, возопил от радости, что ангелы не воплощены и им нет доступа в физический мир. «Вот уж воистину – бодучей корове Бог рога не даёт!» – кричал он. От счастия он предложил млеющую голубку на изнасилование Ферченко. Ферченко смущённо повёл ушками и даже раскраснелся от стыда. Но Костя был настроен по-доброму: бери. (Сам Ферченко почему-то не решался ловить голубей). Панарель виделся где-то далеко за заборами, как шагающая башня. Но из-за помойки уже вылезал, готовый на всё, его двойник Саша. Через некоторое время картина получилась несусветная и жуткая: Ферченко упал на колени, куколка выпала на траву, и сам он, накрыв голубку, являл собой престранно и вполне непристойное зрелище; а вокруг чуть ли не хороводом кружились какие-то люди. Некоторые падали. Дело в том, что Грелолюбов решил немного оживить трупы. Он так устал от бесконечного томления в заднице, от неги, от ожидания совокупления с незримым, что почти заболел: то есть решил пообщаться с людьми. Ничего, разумеется, не вышло. Только самые лучшие, и то под хмельком, положительно и с хохотом восприняли внешнюю сторону соития Ферченко с голубем. Их пришлось чуть ли не ткнуть носом в эту сцену, иначе они решили бы, что ничего нет. Пьяненькие, весёлые, одурманенные водкой, они подумали, что Грелолюбов нарочно подкупил Ферченко для их веселия. Как людовидные столбы, они подплясывали вокруг свернувшегося в клубок и раскрасневшегося Ферченко. Лепёхин, раздув рыло, серое, как туман, грозился на них кулачком, ни в чём не принимая участия. Вдруг из угла вышел вечно молчащий Николай с гитарой. Сел около Ферченко, у бревна, и запел. Грелолюбов изумлённо уставился на него. «Как-то идёт не так!» – остолбенело подумал он.
Но он был доволен. Вскоре выползла сама Низадова с миской каши: погреться на солнышке да посмотреть на умом ретивого Ферченко. Но больше смотрела в миску, которая ей казалась миловидным зеркальцем. Хохотал Костя. Где-то из щели появилась настороженная голова Савелия. Из-за помойки шелестел двойник Панареля Саша и приговаривал: «Не чтит, не чтит Панарель своего Папеньку… Папа велел всем во мраке жить…» С крысой в зубах перебегал дорогу почему-то встряхнувшийся кот Аврелий. Уже слышно было томное, изнебесное, но с провалами, пение Лизоньки.
Грелолюбов, распустив брюхо, словно командующий, бродил вокруг своего хаоса. «Люблю зло наше», – похрюкивал он, похрюкивал он, поглаживая себе живот и лоснясь от непознаваемого. Изредка он слегка подпрыгивал и делал плавное движение рукой около своей задницы, словно отгоняя нацеленный на неё член. При этом глазки его теплели от удовольствия во безумстве. Дрыгнувшись, осмотрел мир: шипение извивающегося Ферченко, столбовидных людей, мадам Низадову, чтящую самоё себя в миске с кашей, безмолвного Панареля вдалеке, Свершающего свои непонятные действа. С особенной неприязнью взглянув на Панареля, Грелолюбов ещё раз оглядел всё и вздохнул, обращаясь к своему Богу: «Обрати, Господи, их всех в тени, а оставь только меня».
Скоро как-то стало нехорошо, словно между разномирностью появились щели, и подул ветер. Ферченко, нелепо улыбаясь, встал на ноги, и голубка выпорхнула из-под его мокрых ног. Вдруг из-за подвалов, из-за заборов, просто из травы стали вылезать какие-то потные, разгорячённые люди. То были воскресённые. Шум стоял вокруг, точно пространство изменилось. Так просто и вместе с тем уже не отсюда. Среди воскресённых виделись всякие: Грелолюбов различал даже необычайных. Костя, покраснев, сжав кулачки, уже бросался на огромного рыжего дядю, вылезающего с упорным выражением глаз. Но вдруг откуда-то появился Виталий. Он взмахнул рукой, точно ударяя всех, и сказал:
– Предоставьте мёртвым оживлять своих мертвецов.
5
Одним летним, нечеловеческим в своей отрешённости утром Грелолюбов вышел на полупустынный двор дома № 7. В окне Кости и Лизоньки кто-то махал длинным платком. Поглядев на кота Аврелия, Грелолюбов, обнажившись, присел на столик: погреться и помечтать. Иногда одиноко махал ручкой, словно отгоняя от зада что-то невидимое, но в то же время антропоморфичное. Хохотал, глядя на солнце. Но личико было в тоске по неслыханной, трансцендентной мерзости. Тенью почувствовал где-то сбоку Виталия; тот шёл мимо, точно на чей-то зов из глубин потустороннего пространства. Только ушки невидимо морщились. (Майка сползла ему с плеч, обнажая неестественное в своём самодовлении тело).
Грелолюбову показалось, что Виталий совершил перед этим такую чудовищную мерзость, которую нельзя выразить даже на языке ангелов. «Как он огромен, как до дрожи огромен… там, на закате», – подумал Грелолюбов. Одинокая фигура Виталия виднелась где-то у черты, точно ничего рядом с ним не существовало. Не хватало ещё, чтобы он поднял руку, как бы приветствуя то, что должно появиться на горизонте.
– О зле, о зле нашем, – воздыхал между тем в уме Виталий. – О двуединстве молюсь: о Боге и Тьме… О том, что отрицает самого себя и открывает бездну… Об абсолютном отрицании молюсь: об отрицании Богом самого себя и об истечении этого отрицания к нам, к тварям… Полюбить хочу это зло до конца, ненасытно… Ибо в любви этой нет уничтожения зла и она абсурдна… Она есть разрыв, свет перед тьмой, который не разгоняет тьму, а, напротив, её сгущает; любовь эта есть светильник тьмы, и возгорание её и сладко, и коротко… Двуединый, пошли мне эту любовь, чтобы она повела мой разум во мрак… Дай мне светильник тьмы!
На этом закончил Виталий. И вдруг пошёл, пошёл не только по земле, но куда-то ещё, хотя по видимости просто шёл. «Скоро, скоро… увидимся», – махнул он рукой Грелолюбову.
Грелолюбов так и замер, оставшись. Его доброе лицо и толстая задница точно подёрнулись грустной дымкой.
Между тем вдали от дома № 7, там, где обрывался город и начиналась поляна, небольшой лес и овраг, бродил одинокий Панарель. Его мысли были об одном: об Отце и о великом разрыве с Ним. «Я в Отце, и Отец во Мне», – вспоминал он, и ему виделись огромный круг, незаходящее солнце и то, что Он и Тот, который за пределом мира сего – одно. Как бесконечно ему было быть ещё до сотворения в предмирном круге, в руках Того, Кто был Им. И пылать в сверхнебесном, солнечном море любви, идущим от Себя, который больше, к Себе, который рядом. И потом, здесь, на земле, хотя многое исчезло, этот жар не оставлял его: он чувствовал его в сиянии, исходящем от своего лица; чувствовал, когда смотрел в холодное, пустое небо; ибо Он был не только в Себе, но и ещё где-то далеко-далеко, перед миром, у самого исхода, и в то же время у Себя. Он любил себя в Отце и Отца в Себе. Но «Я и Отец – одно» и «Я люблю Отца» и «Отец возлюбил Меня», и это так торжествующе, так безмерно отрадно, так беспредельно, ибо Любящий и Любимый сливались в одно, и в сути это была Любовь Самого Себя, который больше, к Себе. Он был там и в то же время был здесь, и тот, который был там и который был беспределен, лелеял его в своих руках. Здесь, на земле, это была его личная религия, в отличие от той, которую он хотел оставить людям во спасение их. Их спасение было его главной задачей на земле; его же религия или, скорее, сверхвера, могла быть только для него. Да, да, Он любил Себя Собою, любил прежде основания мира такой бесконечной любовью, что сейчас ему казалось странным, каким образом Её можно было вынести… Но и здесь, на земле, до разрыва, эта сладчайшая радость единства с Отцом, то есть единства с Собою, была с ним!! Но ведь не для этого Он пришёл сюда, в мир, это с большим блеском существовало и в вечности, нет, он пришёл «спасти погибшее». И Отец, несмотря на всю свою любовь к нему, послал его в этот бездонный мрак, называемый миром, в окружающий подземный холод, где слышалось даже внебожественное пение!! Да, да, ради этой чаши он и пришёл. Но почему тогда вдруг всё переменилось, точно его Я, которое больше и которое был там, ушло от него, почему померк свет, что сдвинулось во вселенной?!! Всё шло, как было задумано, до того как померк свет. Но теперь всё переменилось. Уже нет учеников, а одни беззубые, хохочущие трупы. Уже нет знания оттуда, а есть только стон из бездны. Неужели Отец оставил его одного?.. Неужели здесь он не восполнил чего-то в Отце? Как он может быть разлучён – даже на время – с Тем, который «возлюбил Меня прежде основания мира»? Новая тайна угнетала его, и взор был обращён в Самого Себя; дул ветер, и несуществующие деревья покачивались, как призраки; и вместе с тем нужно было завершать свою миссию уже Одному, без Него. Мимо, не обращая внимания, проносились некие человечки, гоняясь друг за другом в каком-то странном, неестественном подскоке… Прошёл парень, дующий в трубу. Быстро юркнула чёрно-красная кошка.
Особенно потрясло Его изменение предначертаний. На Его глазах – на глазах у всех потрясённых ясновидцев – рухнуло астральное клише будущего. Уже не быть Ему преданным и распятым, не быть вознесённым на небо. Не восстать из мёртвых и не встретить Марию на дороге. Не стонать на кресте рядом с распятыми разбойниками. Некому будет сказать: дети. Но за всем этим разрушением уже виднелись новые черты… Взамен Голгофы и распятия и казни еле прозревал иная страшная картина… И темнело у Него в глазах, не потому что он не хотел идти до конца, а потому что не знал, что всё это значит. «Ибо Отец мой покинул Меня». Но нужно было совершить и выпить чашу до дна, несмотря на катастрофу в потустороннем. И Он решился не противиться новому, непонятному предначертанию, хотя перед глазами стояла всё более выявляющаяся в своей чёрной безысходности и вырванности картина, картина, имя которой было: Его будущее.
Медленно Панарель удалялся от этого запустелого места. Мелькнул человечек, убегающий от самого себя. А как же те, ради которых Он пришёл, малые сии посреди чёрного неба?.. Но их судьба была уже вне.
…Через несколько дней Иров решил поговорить с Ним. Его каменно-блуждающее лицо было воспалено от злобы.
– Я ненавижу тебя, – тихо сказал он, приблизившись к Господу.
Они были одни за пустынными домиками, у леса.
– Прежде, нежели пропоёт петух, полюбишь меня так, что не сможешь этого вынести, – ответил ему Господь.
И Иров ушёл к себе, во тьму.
Там, ворочаясь в самом себе, ночью, почувствовал он прилив нечеловеческой любви к Господу. Словно его существование раскололось надвое.
К утру он вышел в сад и встретил там Валерия… в светлом миру – Укусова.
– Ты скорбишь, потому что полюбил Его? – содрогнувшись, спросил у него Иров.
– Его невозможно не любить, – заплакал Валерий, как женщина. – Я не могу теперь целовать своих деток!! – закричал он высоким голосом, в истерике, поднимая лицо вверх, к небу. – Его образ стоит передо мной… Что-то уходит от меня… Я люблю Его, и этого я Ему никогда не прощу.
– Этого и я Ему не прощу, – медленно ответил Иров, и его неподвижное лицо с водянистыми глазами сдвинулось.
– Что же ты предлагаешь?
На следующий день Господь появился один на поляне, у реки, вдали от домов. «Сыну человеческому суждено быть съеденным, – думал Он. – Вот скоро солнце опустится за деревья, и там, на дороге, покажутся они… Отче! Избавь от часа сего, и для сего ли часа Я пришёл?!.. Но пусть будет воля неведомая!»
Там, на дороге, показались одинокие фигуры Ирова и Валерия. Как чёрные, потусторонние точки надвигались они. Когда спутники приблизились к Господу, Иров бросил на Него взгляд, прямо в глаза, и заплакал, потому что понял, что Господь знает всё. Знает, что суждено Ему здесь, на земле, и не хочет этому противиться.
– Что делаешь, делай скорее, – сказал им Господь.
Валерий пошёл в лес за сучками. Иров разгрёб яму. Когда всё было готово, Иров, зарыдав, ударил Его несколько раз ножом в грудь и руки. Господь стоял, прислонившись к дереву. Его мысли были о Небе и о Себе – там. Его миссия спасения была закончена, и завеса опустилась, но оставалась неразгаданной тайна: разрыв с Отцом, обозначивший чёрную перемену на земле; оставалась будущая жизнь в Нём. «Отец мой имеет жизнь в самом себе», но, может быть, и в самом чистом свете заключена тайная трагедия, недоступная всему воплощённому??..
Когда Иров, словно в забытьи, наносил свои последние удары, глаза Господа были уже закрыты для мира: Он в духе посылал только предсмертные лобызания Себе, Небесному, столь внезапно отдалившемуся от Него, и видел бездонный свет, в котором были глубина и тайна, столь далёкие от всего живущего… Последнее Его слово было: «Свершилось…»
Иров и Валерий, мокрые от слёз, поедали тело Господа, отрезая от него кусочки и поджаривая их на костре. Земля была пуста и мертва.