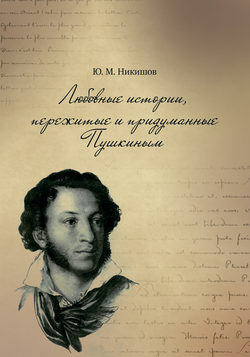Читать книгу Любовные истории, придуманные Пушкиным - Юрий Никишов - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая. Убежденный холостяк (1813–1826)
Глава 2. «Цвет жизни сохнет от мучений» (осень 1816 – весна 1817)
Оглавление1
То обстоятельство, что «романы» Пушкина лицейской поры преимущественно воображаемы, делает употребительным мотив разлуки. Этот мотив так естествен: поэт реально без любимой, но просто немыслимо объяснять этот факт реальностью – поэт слишком юн, по условиям его жизни у него просто нет партнерш. И они придумываются, и одиночество мотивируется разлукой.
Поэт, случается, обходится без внешней мотивировки своего одиночества или называет истинную его причину. Так, в маленькой балладе «Окно» в экспозиции рисуется дева, ожидающая и дождавшаяся милого. Концовка переводит изложение в личный план:
«Счастливец! – молвил я с тоскою, –
Тебя веселье ждет одно.
Когда ж вечернею порою
И мне откроется окно?»
В «отрывке» «Сон» вырывается искреннее признание:
И я мечту младой любви вкусил.
И где ж она? Восторгами родилась,
И в тот же миг восторгом истребилась.
Одиночество поэта чаще лишь констатируется, отсутствие милой не мотивируется.
1815 год открывается стихотворением «К Наташе». Причину разлуки с «другом сердца» установить невозможно: соответствующие вопросы задаются в тексте, адресуются подруге, но при ее отсутствии на них некому ответить, и они остаются риторическими. Стихи передают томление поэта; его переживаниям аккомпанирует эмоциональный тон изображения осенней увядающей природы.
Дата написания стихотворения «К ней» достоверно не известна, но в собраниях сочинений оно помещается в заключение публикаций 1815 года, и в редакционном решении есть определенный художественный смысл: возникает своеобразное композиционное кольцо – «К ней» варьирует настроение послания «К Наташе».
На фоне фрагмента о Сушковой в «Послании к Юдину» и послания «К живописцу» хорошо видно, что мотив эпикурейских наслаждений, мотив плотских наслаждений еще далеко не исчерпан и не оставлен Пушкиным. Тем не менее мотив меланхолических настроений начинает звучать все отчетливее.
Прелестный возраст миновался,
Увяли первые цветы! –
читаем в «Послании к Юдину». «Я вяну, прекрати тяжелый жизни сон…» – вторит послание «К ней». Причина меланхолии поясняется:
Эльвина! почему в часы глубокой ночи
Я не могу тебя с восторгом обнимать,
На милую стремить томленья полны очи
И страстью трепетать.
(Заметим: вопрос «почему» на данном этапе для поэта самый трудный и остается без ответа).
Мотив подхватывается «отрывком» «Сон»:
Мне страшен свет, проходит век мой темный
В безвестности, заглохшею тропой.
Если вдуматься, констатация страшная. И это не вскользь промелькнувшее настроение; оно тут же подтверждается и усиливается:
Мне не дает покоя Цитерея,
Счастливых дней амуры мне не вьют.
Начальный постулат значим: он усложняет смысл стихотворения. «Отрывок» не выпадает из цикла эпикурейских устремлений поэта, воспевающего необходимое и приятное состояние человека. Но стихотворение отразило и конфликтное противостояние яви/мечты.
Тому, что назревало постепенно и нарастало, было суждено прорваться. Начало нового этапа творческого развития поэта можно определить уверенно: рубеж перейден стихотворением «Осеннее утро» (1816).
Если руководствоваться отсылкой названия (подтверждаемой и деталью идущего следом стихотворения «Разлука»: «Взойдет ли ночь с осеннею луною…»), осенью 1816 года в человеческом и творческом сознании Пушкина произошли большие перемены. Сравнительно широкий диапазон творческих поисков, лирических мотивов внезапно сузился, сконцентрировался (что прогнозируется настроениями «Послания к Юдину», «К ней», «Сна») на одном, доминантном мотиве – муках неутоленной жажды любви. Правда, резкое сужение поля зрения не означает полного отказа поэта от многих прежних устремлений: просто они теряют автономию и становятся производными, попутными слагаемыми при разработке основного мотива; Пушкин пишет гуще, внутренний мир поэта предстает более объемным и богатым в рамках даже отдельного малого по форме лирического стихотворения; значительно обогащается психологизм изображения. Сдвигаются берега, зато поток набирает глубину, интереснее взаимодействуют слагающие его струи.
Было бы опрометчиво связывать произошедшие перемены с биографическим фактором. Да, Царское Село покинула проводившая там лето 1816 года Екатерина Бакунина – адекватная ли это поэтическим переживаниям Пушкина потеря? Зато в том же году, в связи с приходом на директорский пост Энгельгардта, лицейский быт стал разнообразнее и свободнее; Пушкин сближается с гусарами, возвратившимися в Царское Село после победы над Наполеоном, с Кавериным и Чаадаевым. Биографические связи давали как раз возможность расширить тематический диапазон творчества. Имена Каверина и Чаадаева войдут в пушкинские стихи, но за рамками Лицея; пока никаких поэтических следов нового общения нет.
Поэзия Пушкина не становится менее литературной, чем была только что. Не зазорно устанавливать ее жизненные истоки, но главное все-таки в ее объективном содержании: Пушкин преобразует жизнь, как того велит его идеал. Для нас из биографических факторов достаточно одного: Пушкин стал старше еще на один год, ему семнадцать лет. Наступает пора юношества – происходит переоценка жизненной позиции.
В импульсивном, эмоционально взрывчатом Пушкине этот вполне естественный общий процесс, который чаще протекает в спокойных, эволюционных формах, принял бурный характер. Поэтому все основания говорить не просто о переменах, обновлении в его творчестве[10], но о глубоком духовном кризисе, первом, но далеко не последнем. Внутреннее, духовное здоровье Пушкина было крепким и всегда позволяло ему выходить из кризиса обновленным, позволяло делать широкий шаг вперед и ввысь. Это не лишало состояние кризисов мучительного накала страстей, психологических терзаний.
Пушкин переживал именно кризис, убедительнее всего это доказывает откровенный скептицизм в отношении к тем ценностям, которые он утверждал совсем недавно. Особенно показательно, что кризис проникает в святая святых, распространяясь на отношение к творчеству. Это тем неожиданнее, что поэт, казалось, сделал свой выбор раз и навсегда, уже связал с ним надежду духовно преодолеть неизбежное для смертных тление. Насколько же глубок и серьезен кризис, если он затронул заповедную область!
Болезненный симптом обозначился тотчас же. Стихотворение «Разлука» (оно в самых истоках кризисного этапа), рисующее смятенное состояние поэта в связи с пережитой разлукой с любимой, еще уповает, что мука преодолима; в качестве духовной опоры прямо называется поэзия: «Мою печаль усладой муза встретит…» Лире поэта посвящена концовка стихотворения:
И ты со мной, о лира, приуныла,
Наперсница души моей больной!
Твоей струны печален звон глухой,
И лишь любви ты голос не забыла!..
О верная, грусти, грусти со мной,
Пускай твои небрежные напевы
Изобразят уныние мое,
И, слушая бряцание твое,
Пускай вздохнут задумчивые девы.
Перемены назревают постепенно. Поначалу просто меняют тон лира и облик муза, но поэт не теряет надежды на отраду творчества (выговориться – значит облегчить страдание); надеется он и на благосклонный (сочувственный) отклик.
Следующий шаг – стихотворение «Певец». Музыкальна pитмичность его построения: в трех строфах слегка варьируется первая строка и неизменна строка вторая: она дает новую маску поэта. Мы видели: в дебютный период Пушкин демонстративно и неутомимо варьировал их. Теперь содержание поэзии концентрируется на одном состоянии, и маска как будто застыла: певец любви, певец своей печали. Впрочем, на этот раз маска близка к живому лицу.
Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
Пeвцa любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз,
Вздохнули ль вы?
Я привел третью, заключительную строфу: поэту еще необходимо человеческое сочувствие (и гласу певца, и взору его глаз). Но робкие надежды оказываются тщетными: все неумолимо идет к катастрофе. И она обрушивается горным обвалом – первый раз в стихотворении «Любовь одна – веселье жизни хладной…»
Этой элегии принадлежит особое место как среди произведений рассматриваемого цикла (драматизм предыдущих стихотворений здесь обретает трагическое звучание), так и в общей эволюции поэта: Пушкин переходит от способности творчески осваивать опыт учителей к способности, «бредя своим путем», находить оригинальные, новаторские художественные решения. Это очень важно: стихи не просто фиксируют психологическое состояние – они получают собственную жизнь, собственную плоть, свою структуру.
Новонайденный тип композиции уместно определить как разомкнутую композицию. Она возникает на базе антитезы (или параллелизма). Эти чрезвычайно продуктивные в поэзии структуры дразнят воображение читателя, направляя его ожидание по привычному пути – с тем, чтобы предложить нечто новое, непредсказуемое.
Ход мысли поэта в элегии «Любовь одна…» построен сложно, на резких контрастах. Динамично начало. Любовь показана двуликой: она – единственное «веселье жизни хладной», она же – «мучение сердец». Любви могли бы не жертвовать собою «чувствами свободные певцы», но они тоже люди.
Слепой Амур, жестокий и пристрастный,
Вам тернии и мирты раздавал;
С пермесскими царицами согласный,
Иным из вас на радость указал;
Других навек печалями связал
И в дар послал огонь любви несчастной.
Поэт напутствует счастливых:
Стихи любви тихонько воздыхайте!..
Завидовать уже не смею вам.
Отраду, пусть горькую, поэт видит даже в судьбе певцов, которым не выпало в жизни счастья любви:
Но, не нашед блаженства ваших дней,
10
Рубеж 1816 года в творчестве Пушкина не раз отмечался в пушкиноведении. "Годы 1816-1817 принадлежат уже к новому периоду в лицейском творчестве Пушкина", – пишет Б. В. Томашевский (см.: Томашевский Б. Пушкин. Том первый. С. 247). См. также: Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1813-1826). М.; Л., 1950; Фомичев С. А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986. И все-таки задача показать качественные отличия нового периода остается актуальной.