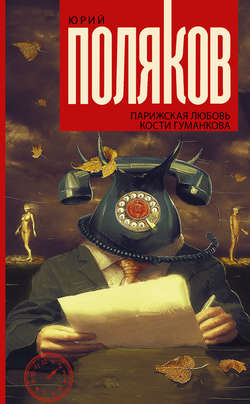Читать книгу Парижская любовь Кости Гуманкова - Юрий Поляков - Страница 3
Что такое «Апофегей»?
Оглавление1. Кто спал с Брежневым?
Обычно я задумываю рассказы, а пишу повести или романы. В рассказе мне тесновато: хочется поведать о том, что было с героем прежде. Помимо прочего, у него обнаруживается немало родственников, друзей и подруг – о них тоже хочется рассказать. К тому же у героя есть профессия, работа, сослуживцы, да и живет он в определенном месте и конкретном времени. Ну как не отразить и это! Заметили, из современной прозы почти исчез пейзаж? Герои приезжают просто на реку, идут просто в лес, срывают просто цветы и ягоды. Но ведь нет ни одной одинаковой реки, каждая травинка и ягода имеют названия, которые нынешним авторам, как правило, незнакомы. Да и приметы эпохи встретишь у них не часто, если, конечно, речь идет не о ГУЛАГе или «кровавой гэбне». Впрочем, и эти невеселые учреждения писатели скорее воображают, нежели отображают. Чтобы отобразить, надо изучить, а времени так мало – на тусню даже не хватает. Терпеть не могу сочинения, где персонажи напоминают бесполых целлулоидных кукол, помещенных в вакуум.
Мой же простенький сюжет именно за счет подробностей и деталей обычно «разгромождается», точно замысловатый дачный терем. А ведь намечался малюсенький садовый домик – комнатка с верандой. Первоначально рассказ, задуманный в середине 1980-х, назывался «Вид из президиума». Сюжет несложный: серьезный партийный начальник, сидя на сцене в ряду себе подобных за длинным столом, покрытым красной скатертью, вдруг получает записку от своей давней и, как с годами выяснилось, единственной в жизни любви. Начинает вспоминать. С трибуны тем временем доносится монотонный доклад, потом прения… А он все вспоминает, покрываясь мурашками былой страсти.
Должен заметить, что сюжет с запиской в президиум довольно часто встречался в тогдашнем городском фольклоре, а проще говоря, в анекдотах. Был и такой. XXIV съезд КПСС. Брежнев вдруг получает записку: «Леонид Ильич, а помните, как мы с вами вместе спали? Прошу принять по личному вопросу!» И подпись – «Такая-то». Генсек, известный ходок, смутился, принял в Кремле даму и выполнил ее просьбу, связанную, разумеется, с улучшением жилищных условий. С чем же еще? Она уже покидала кремлевский кабинет, когда Брежнев остановил ее вопросом: «Вы уж извините, товарищ Такая-то, но что-то не припомню, где и когда мы спали?» – «Ну как же! На XXIII съезде. Я – в зале. А вы – в президиуме…»
В середине восьмидесятых я, будучи членом сразу нескольких выборных органов, в основном комсомольских, частенько заседал в президиумах, развлекая товарищей по официальной неволе стихотворными экспромтами:
Все, кто пришел на пленум,
Однажды станут тленом.
И как-то раз тоже получил записку: «Эх ты! А говорил, что любишь! Обещал прийти… К.В.». До конца конференции я ломал голову, выскребая до сухого блеска сусеки личного опыта. Что еще за К.В.? Куда я обещал прийти? Так и не вспомнил. В конце толковища ко мне подошел Костя Воробьев, работник отдела культуры ЦК ВЛКСМ, и спросил, улыбаясь: «Что ж ты не пришел? Мы тебя ждали с пивом и воблой. А говорил, что любишь баню!» И я вспомнил, что мы действительно собирались компанией в сауну, недавно отгроханную в одном из оборонных НИИ. В ту пору укромных мест, где можно попариться, выпить и поговорить, было не так много, поэтому от подобных приглашений редко отказывались.
За «Апофегей» я сел в начале 88-го, сразу после выхода повести «Сто дней до приказа», всколыхнувшей и без того возбужденное советское общество. Когда сегодня обладатель «Букера», «Нацбеста» или «Большой книги» ощущает себя знаменитостью только потому, что его показали в телевизоре, мне смешно. Мои первые вещи вызвали всесоюзные прения, в журнале «Юность» под мешки с почтой в мой адрес выделили особый чуланчик, а на улице, если меня узнавали прохожие, случались стихийные читательские конференции. Говорю все это не из позднего тщеславия, а чтобы напомнить, какое место литература занимала в умах и душах соотечественников. От меня с нетерпением ждали продолжения «военной темы», я получал груды писем, где мне подсказывали сюжеты, сообщали факты самой разнузданной «дедовщины» и офицерских злоупотреблений. Но авторы одной темы похожи на едоков, которые всю жизнь жуют одну и ту же сосиску длиной в несколько километров. Отрежут очередной кусочек, разогреют и жуют, жуют. В моем поколении тоже были такие писатели, но их книги забылись сразу по прочтении, как рекомендации врача-венеролога после выздоровления.
Меня же какой-то непонятной магической силой тянуло рассказать то, что я знал о молодых партийных карьеристах, а перевидал я их к тому времени немало. Сам не знаю, откуда взялась эта тяга. Может, я каким-то седьмым, писательским, чувством предощущал скорый крах советской цивилизации с ее неповторимым номенклатурным миром? Или предвидел, что именно эти молодые мустанги партии и комсомола станут основной движущей силой капитализации страны? Была и другая причина: в повести «ЧП районного масштаба», законченной в 1981 году, я кое-что недоговорил, о чем-то умолчал из опаски, что вещь никогда не напечатают, ведь советская власть в ту пору казалась незыблемой, как Памир, и неисчерпаемой, как Байкал. Заметьте, футурологические произведения фантастов, например Ивана Ефремова или братьев Стругацких, пророков передовой советской интеллигенции, давали картины продвинутого бесклассового общества. О реставрации капитализма никто и не грезил. В этом смысле в наших головах царила полная каша. Так, мы, студенты пединститута, создали тайную литературную организацию и для написания программы сошлись в большой квартире Саши Трапезникова, сына военного прокурора Московского округа. Выпили и стали обсуждать первый раздел: будущее общественное устройство страны. Не больше и не меньше.
– Необходимо разрешить частную собственность! – заявил Саша.
– Капитализм, что ли? – не понял я.
– Нет, капитализм не нужен. Только частная собственность…
Потом долго спорили, как захватить власть, и пришли к выводу, что без помощи уголовного мира не обойтись. Ну не идиоты! Слава богу, на том наши бдения и закончились, а то бы моя первая повесть называлась не «Сто дней до приказа», а как-нибудь иначе – «Места отдаленные», например. Преувеличиваю? Но ведь впаяли же за подобные вещи семь лет прозаику Бородину, и как раз в те самые времена.
Впрочем, для написания «Апофегея» имелся и еще один мотив. О нем скажу подробнее. Иные критики, в советский период обслуживавшие коммунистическую идеологию с подобострастием брадобреев, теперь уверяют нас, будто вся советская литература – это унылый соцреализм, не имеющий ничего общего с жизнью. Вранье. Вранье даже в отношении самых мрачных времен, а уж о позднем, ослабившем идеологическую хватку режиме и говорить нечего. Ну какие соцреалисты Шолохов, Катаев, Ильф и Петров, Пильняк, Платонов, Леонов, Белов, Астафьев, Распутин, Солоухин, Трифонов, Вампилов?.. Никакие. Другое дело, существовало несколько, так сказать, табуированных зон, где отечественная литература вдруг кубарем скатывалась со своих высот и начинала улыбчиво заискивать перед властями предержащими, как официант перед недовольным клиентом. Речь о темах, которые искони считались политически важными. Что-то вроде строго охраняемой рощицы посреди общедоступного лесного массива. «Вы куда?» – «Туда!» – «Туда нельзя!» – «Почему?» – «Потому! Не задерживайтесь!» Собственно, художественным рассекречиванием таких закрытых зон я и занимался в тот период: армия, комсомол, школа… Но самой секретно-табуированной была, конечно, партия.
В произведениях о ней продолжал господствовать давно осмеянный даже придворными критиками принцип «борьбы хорошего с лучшим». В потоке тогдашней довольно высокой литературы эти сочинения напоминали ломового извозчика, затесавшегося среди новеньких «Жигулей» на Калининском проспекте. Если в книге появлялся не очень уж хороший партработник, мгновенно рядом с ним, играя желваками и честно глядя вперед, возникал другой партработник – очень хороший. Реальная жизнь аппарата оказывалась практически вне литературного осмысления. Вышел, правда, в конце 1970-х роман хорошего сибирского прозаика, первого секретаря СП СССР Георгия Маркова «Грядущему веку», но читать его было трудно: тень пленумной риторики лежала даже на удачных страницах. В 1980-х годах первой попыткой художественного исследования человека, вовлеченного в аппаратную жизнь, стала, извините за прямоту, моя повесть «ЧП районного масштаба». Но тогдашняя критика этого даже не заметила, уткнувшись в «антибюрократический» роман В. Маканина «Человек свиты», сбитый из фобий и фанаберий кухонного советского фрондера. Критика часто предпочитает придуманный ею литературный процесс реальному – подобно тому, как иные дамы предпочитают эротические фантазии полноценной интимной близости.
2. Вляпавшиеся во власть
Итак, я уселся за «Апофегей». Мне захотелось написать честную историю хорошего человека, пошедшего во власть. И я сделал это: в 1988 году начал, а в начале 1989-го закончил. Писал я, наблюдая битву Горбачева с Ельциным, которого в ту пору представить себе президентом страны было так же невозможно, как ржавый танкер с дешевым алжирским вином вообразить флагманом советского флота. Имелся ли прототип у Валерия Чистякова? Конечно. Даже несколько, но зрительно я, сочиняя, представлял себе почему-то Валерия Бударина, он был первым секретарем Бауманского райкома комсомола в период моей недолгой работы в этой организации. В аппарате мой прототип не прижился, запил, опустился и был впоследствии зарезан в какой-то пьяной драке.