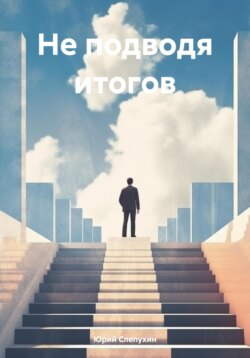Читать книгу Не подводя итогов - Юрий Слепухин - Страница 3
ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ
* * *
Впрочем, откуда такая категоричность отрицания? Более тридцати лет прошло с той памятной зимы
1942
Оглавление–43-го, с бессонных ночей в промозглой каморке на чердаке Платошиной фермы, а я и сегодня не могу до конца понять – почему уже тогда, при первом, самом беглом ознакомлении с реальностями эмигрантского быта, мне стало ясно, что эта нормальная, по-европейски цивилизованная жизнь – по всем параметрам куда более естественная и благополучная, чем наше убогое существование под солнцем сталинской конституции,– всегда будет восприниматься мною как нечто невсамделишное, эфемерное, лишенное веса и объема.
Точнее сказать, я понимаю п о ч е м у, но не нахожу этому рационального объяснения. Мне так и не удалось вписаться в эмигрантский milieu19; вновь оказавшись среди людей, с которыми был связан общим прошлым, среди товарищей по оружию и, казалось бы, единомышленников, я не сумел найти с ними не только настоящего взаимопонимания, но и просто общего языка. Думаю, они понимали меня еще меньше, чем я – их.
До войны, узнавая о происходящем в СССР (в «Совдепии», как они до сих пор говорили), не зараженный советофильством эмигрант представлял себе тамошнюю жизнь кромешным адом и, говоря объективно, был прав. Но это была правда одной стороны, одной точки зрения; картине недоставало глубины. Не обладая даром «двойного видения», сторонний наблюдатель лишался возможности уловить главное: что можно было жить в этом аду, нисколько не заблуждаясь насчет его инфернальных свойств, и все же найти там какие-то точки опоры, построить на них свою собственную систему существования. Ненадежную, неустойчивую, готовую рухнуть от любой случайности, но – покуда не рухнула – делающую твою жизнь полноценной.
Именно так жила перед войной вся страна, от Москвы до самых до окраин, и именно эта жизнь – невообразимо тяжелая, грязная, глубоко безнравственная по своей сути (поскольку первым условием выживания становился отказ от общечеловеческих законов морали) – именно эта уродливая советская жизнь осталась для меня живой, подлинной, настоящей; благополучное эмигрантское существование соотносилось с этой жизнью так же, как соотносится аквариум с открытым морем. Таким, во всяком случае, представлялось это соотношение мне.
Хотя признаю сразу, что сравнение получилось не из удачных – в нем как бы просматривается оттиск излюбленного публицистами штампа «затхлый эмигрантский мирок». Нет, я совершенно в другом смысле сказал. Ведь если говорить о затхлости, то по этой части едва ли что может сравниться с любой взятой в отдельности ячейкой советского общества, будь то коммунальная квартира или трудовой коллектив. Что богатство портит человека, было известно давно; но лишь в наше время, с опытом построения социализма стало очевидно, как калечит душу всеобщая, поголовная и неизбывная нищета огромной страны.
Скаредная мелочность, зависть к любому соседу или сослуживцу, сумевшему получить то, чего отчаянно не хватает тебе самому и твоей семье, убедительные – на каждом шагу – примеры безотказной окупаемости нравственных компромиссов, – все это мало-помалу формирует в сознании готовность к любой сделке с совестью ради того, чтобы вырваться из нужды, хоть немного улучшить свое положение. Добавим сюда же и вторую (главную, пожалуй) доминанту советского образа жизни в те годы – страх, порожденный невиданными масштабами террора сверху и доносительства снизу.
Короче говоря, нравственную атмосферу, в которой мы жили до войны, «затхлой» уже не назовешь – она была удушливой. И при всем при том…
Где бы найти слова поубедительнее – для тех, кто сам этого не испытал? Найти нелегко, потому что здесь сразу вступаешь в конфликт со здравым смыслом. В самом деле: живя в самых скотских условиях, лишенные простейших гражданских прав, начиная с гарантий личной безопасности (напротив, внутренне уже примирившись с мыслью, что рано или поздно тебя достанет-таки карающая неведомо за что длань Государства), – мы ощущали себя гражданами великой страны, участниками какого-то не совсем, может быть, еще понятного, но несомненно эпохально-грандиозного процесса.
Неудивительно, что это ощущение пьянило и окрыляло слепых энтузиастов; люди такого типа встречались даже накануне войны, хотя после 34-го года железные их ряды значительно поредели. Но ведь я – да и не я же один! – мы считали себя зрячими, прекрасно видели, кто нами правит, и как правит, и куда это может в конечном счете нас привести (хотя в то время многие еще на что-то уповали, возлагая наивные надежды кто на внутренние факторы, кто на внешние); ненавидя наш государственный и общественный строй, видя всю гибельность его политики, мы – несмотря на это – нередко испытывали странную гордость от осознания своей причастности к событиям такого масштаба.
Объясняется это, скорее всего, действием защитных механизмов психики, способной при чрезмерной нагрузке находить опору и утешение в самой призрачной иллюзии; но нельзя недооценивать и влияния запущенного на полную мощь гигантского аппарата пропаганды, год за годом вбивавшего в головы одно и то же, одно и то же, и действовавшего в конечном итоге на самые резистентные мозги. Капля по капле камень точит.
Не припомню разговоров на эту тему в нашем кругу, а что касается меня, то рассуждал я примерно так: простому человеку легче всего живется в «тихие» периоды истории, когда не происходит ничего значительного, а в периоды вулканической социальной активности жизнь обывателя становилась невыносимой и при фараонах, и при цезарях, и при распутных папах, чьим золотом был оплачен весь расцвет Ренессанса. Правители недолговечны, остается лишь сделанное ими (точнее – при них), да и то не всё, а лишь действительно полезное, нужное стране, народу, человечеству…
Глупые это были рассуждения, наивные, но так – или приблизительно так – думал тогда не я один. Сама собой напрашивалась аналогия с петровской эпохой: великий брадобрей тоже не считал ни жертв, ни затрат, а положил начало могущественной империи, за волосы и пинками втащил Русь в концерт европейских держав. Колодникам, которых тысячами пригоняли подыхать на строительстве чухонского Парадиза, вряд ли жилось легче, чем нам, строившим ББК.
Кстати, пример моего тогдашнего образа мыслей: отчетливо помню, как однажды в бараке мне вдруг подумалось, что в конце-то концов, может быть, действительно нужен этот проклятый канал – нужен не Ягоде, не Когану с Раппопортом, а стране нужен, России… Ведь в самом деле, шутка ли, сразу на 4 тысячи километров сокращается плавание из Балтики в Белое море! Да, пусть рабским трудом, с техникой египтянского уровня, но все же прокладывается важнейшая стратегическая водная артерия – прямой выход к Северному морскому пути, к Берингову проливу…
Не помню уж, чем была вызвана эта вспышка клинического энтузиазма, но среди каналоармейцев помоложе и поглупее подобные настроения были не в редкость. Особенно под конец, когда замаячила надежда дожить до обещанной свободы (там ведь у нас на каждом шагу мозолил глаза лозунг-приманка «Природу приручим – свободу получим!»).
Marginalia: Белбалтлаг, как и некоторые отделения СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения), был уже каторгой в полном смысле слова, но – так сказать – в первой прикидке, еще относительно либеральной. Правда, в первую же зиму на трассе погибло 100 тысяч человек, сколько и было туда завезено осенью 1931-го; однако когда читаешь о Колыме пред- и послевоенной, то Повенец, Шижня или Тунгуд вспоминаются почти идиллией. На Колыму людей везли с прямой целью уничтожения, психологически убийственными были там сами «срокa» – 15, 25 лет. Кто в здравом уме мог надеяться выжить? У нас же на ББК срок был ограничен, все знали, что навигацию приказано открыть весной 33-го, и за ударный труд обещалось освобождение (как ни странно, это обещание было выполнено – «ударников» освободили, остальные переехали под Москву, в Дмитлаг, строить Волгоканал). Поэтому у нас – особенно, повторю, молодых и глупых – и были возможны настроения, совершенно немыслимые, разумеется, у колымчан или воркутинцев более поздних «призывов».
На этом покончим с лагерной темой. Зарекался ведь – не трогать! Но так уж вышло, всплыла в связи с вопросом о гражданских чувствах и трудовом энтузиазме. Был он, был, из песни слова не выкинешь. Многого надо нам стыдиться в отечественной истории последнего полувека, и едва ли не самым большим позором представляется та податливость, та непристойная готовность, с какой русское общественное сознание дало себя изнасиловать. Плодом этого противоестественного акта и стал ублюдочный «советский патриотизм», во имя которого мы всегда готовы оправдать любую жестокость, любое преступление – лишь бы это было на благо отечеству. Если превращенный в рабочую скотину каторжник мог почувствовать гордость за свой труд (Родина велела!), то что тогда говорить о «свободных» советских гражданах…
В период первой пятилетки – это следует напомнить справедливости ради – наш трудовой энтузиазм постоянно подогревался двумя внешними факторами. Первый был фикцией, но не вызывал сомнений у подавляющего большинства народа; я имею в виду угрозу войны. Мысль о том, что капиталистическое окружение спит и видит – как бы половчее запустить зубы в Страну Советов, истерично, кликушески внушалась всеми средствами пропаганды уже за десяток лет до того, как с приходом Гитлера к власти возникла реальная угроза. В середине двадцатых нам никто не угрожал ни с Запада, ни с Востока: отношения с фашистской Италией были чуть ли не дружеские, дуче любезно принимал наши делегации; будущий фюрер ораторствовал по мюнхенским пивным, пытаясь укрепить пошатнувшийся после путча авторитет; Танака еще только обдумывал свою стратегию овладения Юго-Восточной Азией. Но как-то же надо было объяснить народу – зачем с такой лихорадочной поспешностью и такими чудовищными издержками создается в СССР гигантская индустрия войны, зачем нам столько танковых и авиационных заводов, столько азота, броневой стали, синтетического каучука. И нас принялись стращать новым походом Антанты – с поляками и румынами в качестве главной ударной силы мирового капитала. Абсурд? Но ему верили! Вконец замороченный советский обыватель готов был уже мириться с чем угодно, лишь бы только Родина не стала добычей гиен империализма.
19
Среда (фр.).