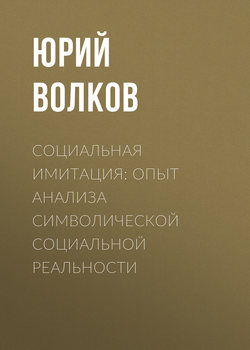Читать книгу Социальная имитация: опыт анализа символической социальной реальности - Юрий Волков - Страница 3
Глава I
Имитационная личность в контексте социального знания
ОглавлениеСоциологическая мысль, анализируя состояние общественной жизни, предлагая схемы «индивидуализированного общества», общества постсовременности, общества риска, «проходит» мимо проблемы социальной имитации, ставшей универсальным социальным состоянием и затрагивающей различные сферы общественной жизни. Социально-философские разработки этой проблемы обращают внимание на имитацию в контексте проблематизации социальности, дискредитации социальных идеалов и личности как социального субъекта. Между тем, социальная имитация содержит социологический аспект, связана с определенными социо-структурными, институциональными изменениями, ценностными сдвигами и нуждается в исследовании на индивидно-структурном уровне, на уровне имитационной личности. Отсутствие категоризации имитации в социологическом дискурсе затрудняет исследование ее проявлений, что требует рассмотрения имитационной личности в качестве носителя определенных социальных качеств, ориентированной на симулятивные социальные практики и формирование симулятивных социальных образов.
Имитационная личность давно перестала быть уделом отдельных одиночек. Скорее, мы можем говорить о массовизации, о модальности имитирующих индивидов, ориентированных на замещение или маскировку отсутствия реальности. С одной стороны, современная эпоха, как отмечает Ж. Бодрийяр, есть эра тотальной симуляции, симуляционного характера всех современных социальных и культурных феноменов, в результате чего люди имеют дело не с реальностью, а гиперреальностью, воспринимаемой гораздо реальнее, чем сама реальность. С другой стороны, метаморфозы личности из человека действующего в человека имитирующего накапливаются постепенно, соотносятся с изменением структуры деятельности, ценностных ориентаций, запросов и интересов.
Личность имитационная имеет в качестве основного условия возникновения как объективные обстоятельства, которые складываются в обществе, так и те сдвиги, которые происходят с поведенческими и мыслительными практиками. Отрицая общественное благо на основании того, что общество становится невидимым, непрозрачным, не поддающимся учету объективных и субъективных факторов, в результате чего человек получает непреднамеренный результат, имитация есть разрешение ситуации личностной неопределенности в обществе и поведения личности по схеме ложного самоудовлетворения.
Не претендуя на общественно значимую активность в публичной (общественной) сфере, замкнувшись на социальном микроуровне, индивид, казалось бы, обретает более твердую почву, исповедует более трезвый взгляд на действительность. В реальности, конструируемая им социальная среда при соприкосновении контактов с большим социальным миром обнаруживает уязвимость, что требует создания защитных, пусть и призрачных, социальных барьеров.
Одновременно происходит процесс воспроизводства, ретрансляции имитационных образцов, обретения ими смысла узнаваемости или, того больше, алгоритма социальной деятельности. Подобное присуще не отдельной личности. В немалой степени этому способствует то, что в обществе нарушены принципы социальной меритократии, соответствия оценки полезности и значимости индивида его реальному вкладу. Обратим внимание на тот факт, что современность порождает героев, кумиров в виде представителей шоу-бизнеса, торговцев иллюзиями, духовными наркотиками, уводящими от действительности, или строителей финансовых пирамид, воздушных замков.
Давление имитационности обнаруживается в «предложении» личности наиболее удобного способа социальной адаптации: потребности быть обманутым или вовлеченным в симулятивную деятельность предшествует выбор имитационной деятельности в качестве базисной на основе коллективного и индивидуального социального опыта. Действительно, если для эпохи социального модерна был характерен прогрессизм, идеалы рациональности и справедливости, современный человек подчеркивает свою индивидуальность путем симулятивности, принятия парадоксальных позиций, о чем пишет российский социолог Ж. Т. Тощенко в книге «Парадоксальный человек», вышедшей еще в 2001 году.
Но особенно хотелось бы подчеркнуть, что имитационный компонент интериоризирован во внутреннюю структуру деятельности, так как не просто проявляется, а главенствует над реальной действительностью, содержится в социально символических системах, в поведенческих кодах, что обеспечивает его устойчивость и жизнеспособность.
Имитация порождает не просто иллюзии, о которых пишет Ж. Т. Тощенко[1], не просто убежище от сложных коллизий современного мира, имеющего тенденцию усложнять жизнь человека. На наш взгляд, существенным является то, что имитационность дает ощущение активности без приложения определенных усилий, гражданского мужества или накопления знаний, являясь, по существу, суррогатом деятельности, замещением активности, способной вызвать потрясения, изменения, необходимость переопределения, разочарования в идеалах, нахождением результатов, которые бы удовлетворили социальную самооценку человека без рисков, беспокойства, без необходимости перестроить самого себя.
Базируясь на коллективных представлениях о счастье, успехе, как возможности обладания определенными потребительскими благами, имитационная личность выявляет только единственный значимый стержневой критерий – быть успешным. Если работа учителем, врачом, преподавателем не приносит общественного признания и, к тому же, не приводит к материальной удовлетворенности, следовательно, неважно каким видом деятельности занимается человек, главное – какова формула успеха.
Практически, не подвергая коррекции и адекватной оценке имитацию как личностную черту, имитирующий человек видит имитацию других как повод для самолегитимации имитации в собственной деятельности. Считая, что он является реально действующим субъектом, что он способен критически воспринимать действительность и отстраняться от форм массовой симуляции, имитирующий человек, не имея критериев различения имитационности и субъектности, воспроизводит симулятивность действий как социальный алгоритм.
Суть имитационной деятельности состоит, как мы отмечали, в формировании схематизированного представления о реальности, которая, в отличие от деятельности практической, может быть упрощена и перемоделирована без участия других. Имитационность предлагает разнообразие подходов, способов деятельности вне актуализации индивидуального креативного (творческого) потенциала. В принципе, имитационная личность гиперэгалитарна, она считает себя равной по отношению к другим, вне зависимости от реальных социальных и социокультурных различий, в следовании имитационным схемам.
Полагая, что все вокруг только создают вид, что что-то делают, имитирующая личность не только держит высокую социальную планку, но и обосновывает положения о собственной позиции как наиболее адекватной, содержащей адекватную оценку значимых социальных событий и фактов, стоящей над суетой, не порождающей ничего значимого. В этом контексте имитирующая личность может быть осознана как стихийная, протестная реакция на однообразие условий жизни, но под влиянием стандартизированных образцов имитационности. Для имитирующей личности свойственно декларировать приверженность фундаментальным ценностям, позиционировать стремление к высокой культуре и действовать при этом совершенно иным образом.
Рассмотрение имитационности как социального качества «выводится» из безальтернативности успешной адаптации, стимулируется желанием превратиться в кого-то иного, приобщения к имитации как способу самотворчества и самонормирования. С социально-функциональной точки зрения повседневная имитация обладает высокой степенью адаптивности, делая человека таким же, как и остальные, давая ему способ выходить на горизонты повседневного взаимодействия.
Вместе с тем исчезает способность различать добро и зло, самокритично оценивать свои помыслы и поступки, заниматься социальным проектированием. Дело не только в переходе от внутренне ориентированной личности к внешне ориентированной, с которой снимается ответственность за собственные поступки[2]. Проигрывая в жестком «единоборстве» с обществом, личность сохраняет видимую независимость ценой ухода в имитацию, в симулятивную деятельность, которая не вызывает общественного интереса и одновременно воспроизводит иронически отстраненное отношение к действительности.
Конечно, успешность имитационной личности безосновательна. Она не может без потерь преодолеть полосу глобальных кризисов, в которую вступило человечество в конце ХХ века, адекватно оценить вызовы и выработать эффективные формы противодействия или хотя бы минимизации внешних отрицательных воздействий. Однако имитация может вселить чувства социальной эйфории, актуализма, переживания и преодоления катастрофического сознания, как внушение себе, что мрачные пророчества также представляют форму имитационности.
В оценке социальной ситуации, в определении ценностных ориентаций, в организации своего социального пространства имитационная личность руководствуется и ориентирована на управляемость, контролируемость, на то, чтобы сохранить контроль над изменениями путем перестраивания своего внутреннего мира на идентификацию с симулятивностью. Можно задать вопросы: «А к чему приспосабливается имитационная личность? Каковы ее ориентации? Куда она идет?»
Наиболее общим признаком имитационности в этом контексте выступает идентификация с группой придерживающихся подобных или схожих имитационных практик. Советская система в последние периоды существования вступила в период имитации, вернее, можно сказать, что советский человек жил уже в 70–80-е годы в мире имитируемых символов, имитируемой лояльности к власти. И нельзя преувеличивать значение влияния на личность кризиса социальной идентификации.
Во всех вариантах поведения имитационной личности следует оценивать ее «обыденность». Так же как миллионы людей ощущали себя советскими людьми, так и на переломе 90-х годов они восприняли российскую гражданственность, относясь к ней как к обязывающей формальности. В имитационном контексте недопустима основательная разрушительная самокритика. Негативная оценка положения в стране, в обществе при стремлении переложить ответственность на независящие от себя обязательства подчеркивают уход имитирующего индивида от действительности: он не осознает свою сопричастность к общественно-резонансным событиям, потому что не видит смысла в социально-преобразовательной деятельности и не верит в то, что другие заинтересованы в созидательной (креативной) социальной ориентации.
Позитивные намерения, настроения, в этом смысле, остаются вторичными, зрительскими, воспроизводится схема разделения на частную и общественную жизнь, демонстративное отношение к официальным практикам и отношение к повседневной жизни, только в которой возможны реальные социально-продуктивные действия.
Анализ проблемы имитационной личности приводит к необходимости, как отмечал еще Ю. П. Левада, различать два уровня рассматриваемых показателей: декларативный (кем люди хотят называть себя) и реальный (кем они себя ощущают). Из опросов, проведенных ИС РАН под руководством М. К. Горшкова, по проблемам социокультурной модернизации российского общества можно сделать вывод о том, что, ощущая неудовлетворенность ситуацией в стране в целом, в индивидуальном контексте господствует чувство удовлетворенности[3].
С чем, на наш взгляд, связана такая парадоксальная позиция? Вероятно, с тем, что в расхождении оценок по поводу ситуации в стране и индивидуальной траектории ощущается не демонстрация независимости, индивидуальной состоятельности, мы имеем дело с феноменом модальной имитационности, когда ориентир на ценность успеха является основным в определении значимости человека, и независимо от того, какую социальную позицию личность занимает, какова степень удовлетворенности материальными и социальными благами, он следует стереотипу успеха, т. е. имитирует успех, который отсутствует, или маскирует отсутствие успеха какими-то незначительными паллиативными приобретениями.
Характерно, что уход от удовлетворения духовных запросов (театр, музыка, кино) во многом связан с наступлением имитационности, для которой как чужды идеалы высокого искусства, внутренне ориентированного человека, так и неосязаемость духовной самоудовлетворенности и сложности разыгрывать роль высококультурной личности.
Демонстрация личных успехов является адекватной реакцией имитационной личности на ухудшение ситуации в обществе. Речь идет не только о симулятивной адаптации или об уходе от фрустрации под влиянием негативных последствий вынужденной адаптации. Во-первых, имитирующая личность подвержена влиянию социальной эксклюзии, стремлению переложить ответственность на внешние обстоятельства, так как воспринимает социальные реалии через упрощенную схему прагматизма. Во-вторых, личные успехи являются мощным индикатором социального самочувствия, так как основываются на вере в возможность построить стабильную карьеру в условиях социальной неопределенности. В-третьих, даже если личность испытывает сложности в выстраивании социальной карьеры, обладание достижениями в виде определенных потребительских благ вызывает чувство удовлетворенности: можно преодолеть бесперспективность социальной и профессиональной карьеры на основе обретения благ, содержащих имитацию успеха («автомобильная» лихорадка в России).
Имитация дает возможность ориентироваться на действительность, как расшифрованную социальную реальность, путем обретения «минимальных» рыночных или достиженческих качеств. Показателями личностной имитации в значительной мере можно считать регулярно получаемые ответы о целях жизни. В приведенном исследовании под руководством М. К. Горшкова[4]
1
Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. М., 2001. С. 75.
2
Шубкин В. Н. Общая социология: хрестоматия. М., 2006. С. 649.
3
Готово ли российское общество к модернизации? / под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, Н. Е. Тихонова. М., 2010. С. 6.
4
Готово ли российское общество к модернизации? С. 124.