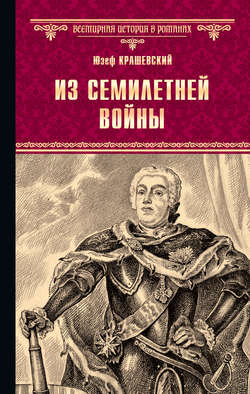Читать книгу Из семилетней войны - Юзеф Игнаций Крашевский, Юзеф Крашевский - Страница 3
Часть первая
ОглавлениеI
Половину восемнадцатого века Германия была предметом мечтаний итальянцев и швейцарцев; им дома не сиделось: прельщенные примерами своих соотечественников, они покидали родину и ехали в Германию, где при княжеских и королевских дворах искали себе счастия и карьеры; много было и таких карьеристов, которые, уходя из дома только с каким-нибудь мешочком, наполненным лишь смелыми надеждами, продав на чужбине свою душу и совесть, только бы достигнуть желанной цели, возвращались домой уже титулованными, а то и совсем не возвращались на родину, а выписывали туда своих бедных родственников и вели их по той же дороге к чужому пирогу.
Особенно было много таких иностранцев при берлинском и саксонском дворах… Владетели того времени, в интересах внутренней политики, предпочитали окружать себя такими людьми, которые были способны на все, – чем своими соотечественниками, то есть доморощенной знатью, державшейся несравненно высокомернее, которая принимала участие в интригах и вообще была менее послушна. Желая уменьшить власть последних, Август Сильный окружал себя итальянцами и пришельцами из разных государств, имея в них покорных исполнителей его воли. Эта политика была в ходу и при берлинском дворе.
С иностранцами не стеснялись; находясь вдали от родины, они были беззащитны; определяясь на службу, они должны были повиноваться начальству, почему и оказывались хорошими слугами. В противном случае, если они не слушались, их высылали без всяких разговоров в Кенигштейн или Шпандау, и никто не смел за них заступиться. Впрочем, такое наказание реже выпадало на долю иностранцев, чем соотечественников. Готовый броситься в огонь и в воду, лишь бы выдвинуться вперед, какой-нибудь пришелец быстро возвышался, и целые колонии таких выскочек наполняли немецкие резиденции.
Таким образом в 1755 году прибыл в Берлин некий Макс Генрих де Симонис. Природа одарила его всеми преимуществами, и все говорило в его пользу, но по какой-то странной случайности, почти в продолжение года, он не мог подыскать себе чего-либо порядочного и ходил по городу без дела. Несмотря на свою миловидную внешность, прекрасные салонные манеры, замечательно ловкие танцы, знание музыки, ему почему-то не везло; ни редкие его качества, ни умение отвечать сладкой улыбкой, ни утонченная вежливость в разговоре, с кем бы он ни говорил, будь то сановник или нищий, ничто не помогало; словом, ему не везло. Год тому назад, когда Макс прибыл из Берна, он рассчитывал на родственную связь с Аммонами (дядя его Аммон занимал высокий пост при прусском дворе); на него-то он и рассчитывал, но тот принял его более чем холодно и не подал даже руки… Хотя он от родства и не отказывался, но объявил свой принцип, что каждый молодой человек должен сам себе пробивать дорогу; а помогать молодежи, по его мнению, значило быть ее врагом; только предоставленные воле судьбы молодые люди могли выработать в себе самостоятельность и умение бороться с жизнью.
Старик Аммон был особенным человеком; он при первой же встрече с молодым родственником до того напустился на него, что последний совсем растерялся, опешил и больше к нему не решался являться.
Макс всегда был готов на всякие уступки для постороннего человека, потому что уж заранее приготовил себя к этому, когда оставлял родину, но по отношению к своему родственнику, после такого приема, он стал холоден; это его крайне обидело и задело за живое; он решился лучше умереть с голода, чем еще раз обратиться к нему.
Аммон, который, быть может, хотел только испробовать юношу, будет ли он гибок и податлив, и после ухода его остался стоять на том же месте, как бы ожидая, что тот вернется; но Макс, надев шляпу на свой красивый парик (он всегда старался быть франтом), поспешно спустился с лестницы, краснея от злости и клянясь, что больше этих ступенек не перешагнет и в этот дом не войдет.
Старик тоже не очень-то желал вернуть его, и таким образом кавалер де Симонис очутился на берлинской мостовой, как и в чем был, совершенно один, под покровительством Всевышнего.
Но ему было только двадцать пять лет; в эти годы многое можно перенести, тем более что у него было в кармане полтораста червонцев, взятых им из дому на последнюю ставку; и при таких красивых и белых зубах и лице, дышащем молодостью, при волшебных голубых глазах и железном здоровье он мог быть уверен в своей силе и во что бы то ни стало хотел достигнуть желанной цели: обеспечить себе блестящую будущность, хотя бы для этого прибегнуть к крайностям и поставить на карту молодость, силу, руки, ноги и талант.
Родители Симониса принадлежали к числу итальянских дворян, когда-то очень богатых; теперь их уже не было в живых; осталась только одна сестра; несчастные обстоятельства совсем разорили Симонисов, так что они едва могли, на остатки состояния, дать порядочное образование сыну; кроме этого, они ничего не могли оставить ему, или слишком мало.
В Берне у них был дом, в котором жила сестра Макса с теткой, но дом этот был весь в долгах, и каких-нибудь двести дукатов составляли все имущество молодого искателя счастья. Но кто в его годы задумывается о будущем и кто не мечтает, что собственными руками и твердой волей не достигнет желаемого?
Макс желал очень многого, всего: богатства, славы, популярности, титулов, связей, любовных приключений, о которых дома можно бы было вспоминать, и, наконец, женитьбы на какой-нибудь богатой княжне. Он был уверен, что очень красив; любуясь на себя в зеркало, он ничуть не сомневался, что в него может влюбиться самая красивейшая из княжон. И действительно он был красив, свеж и мил.
Кроме красоты он обладал еще многими другими блестящими качествами: говорил плавно, чем не многие могли тогда похвастать, писал правильно на нескольких языках, французский знал в совершенстве, латинским владел также недурно, говорил по-итальянски, а если бы он не знал его и в этом предстояла надобность, то он, не задумываясь, выучился бы хоть по-индийски, лишь бы это принесло ему пользу.
На случай поступления на военную службу, к которой он не имел призвания, так как на ней нельзя было содержать себя в надлежащем порядке, он имел некоторое понятие о математике, умел фехтовать, стрелял метко, прекрасно танцевал, пел тенором и играл на клавикордах, просто и накрест, то есть рука через руку, имел понятие об игре на скрипке, чего же больше было желать от такого кандидата на славу?
Ко всему этому следует добавить, что он хорошо знал женщин, что они в жизни играют большую роль и могут влиять на карьеру молодых людей, а потому он всегда улыбался и ухаживал за ними, будь она красива, молода или уродлива и стара, лишь бы из этого ухаживания можно было извлечь пользу. Пятидесятилетние матроны не страшили его, – он всегда старался занимать их, и если они обладали каким-нибудь титулом или положением в свете, то готов был жертвовать собой, сидеть подле них и развлекать по целым неделям.
Он умел быстро, почти инстинктивно, узнавать людей, их характер и ловко применялся к ним. Уезжая с родины, он был равнодушным и беспристрастным ценителем религии; решение этого вопроса он оставлял на будущее время. Он раньше уже решил быть лютеранином или атеистом, если б ему пришлось служить при берлинском дворе, и готов был исповедовать католицизм, если б судьба толкнула его на саксонский или венский двор. Он делал это не без основания, имея перед собою пример известного барона Пельница, который принял католицизм ради выгодной женитьбы, а затем, чтобы снова возвратить себе место камергера при прусском короле, намеревался обратиться к реформатской церкви; но король велел передать ему, что он не примет его на службу, прежде чем он не сделается мусульманином. Макс де Симонис ходил пока в католическую церковь и в лютеранскую кирху; так как в то время в Берлине никто не обращал внимания на его набожность и она не приносила ему пользы, то он не особенно часто посещал их.
Во всех остальных своих убеждениях он тоже не был педантом и одобрял всякое мнение, а чтобы укрепиться в одном из них, он ждал богатой женитьбы. Главная его цель была, во что бы то ни стало, сделать карьеру, но несмотря на всю свою ловкость и хитрость, он в продолжение целого года ничего не мог сделать, хотя вступительные шаги были направлены им очень ловко; но что было делать, если его старания не приводили к успеху. Хотя Макс не терял надежды, однако его стала одолевать тоска и он начал призадумываться, не переменить ли ему своего направления; но тогда пришлось бы возвратиться назад, начинать с начала то, что он успел основать. А он уже приобрел некоторые связи, завел много знакомств; некоторые уже полюбили его и оценили; но при первых намеках о каком-либо занятии или службе они покачивали головой и отделывались молчанием. На военную службу, как замечено выше, ему не хотелось поступать: дубинка Фридриха II, не щадившая плеч министров, чаще всего прохаживалась по офицерским, между тем кавалер де Симонис был на этот счет чрезвычайно щепетилен, так как он не сомневался в своей способности к дипломатическому поприщу; обладая языками, замечательной верностью взгляда и неопределенной совестью, которой мог управлять по мере надобности и спроса, наконец, не веря ни в какие предрассудки, он мог устроиться и достигнуть желаемого.
Зеркало, в которое он часто смотрелся, говорило ему, что он создан для придворной жизни. И его знакомые, большей частью, вращались в дипломатической сфере.
Быть может, он потому думал о дипломатической карьере, что и его родственник Аммон служил на этом поприще.
Доступ к королю Фридриху II был очень труден, но кто раз заслуживал его расположение, тот пользовался им долго. Ловко написанное стихотворение по-французски, если оно было пикантно и цинично, служило лучшей рекомендацией. Макс и этим не пренебрегал; он написал несколько эпиграмм, и некоторые из них пошли по рукам, при помощи Мауперта и Альгаротта, но, как говорится, не достигли стен дворца в Сан-Суси и не произвели никакого эффекта.
Макс возлагал большую надежду на графиню де Камас…
Это была одна из тех немногих женщин, которых Фридрих II уважал, а об остальных вообще говорил, что это «гусыни с пустыми головами». Графиня де Камас была старше короля на двадцать лет; она была уже совсем немолода; овдовев в 1741 году, она заняла во дворце небольшую квартиру на четвертом этаже; Фридрих изредка посещал ее и называл помещение своей приятельницы «маленьким раем».
Жизнь при дворе, привычка к постоянной деятельности, живой темперамент, который не изменили даже лета, делали семидесятилетнюю графиню гораздо моложе. Она занимала при королеве какой-то очень важный пост, но службу свою исполняла только в какие-нибудь торжественные дни, и то не всегда.
Она жила в этом «райке», окруженная старыми приятельницами; ее посещали старые приятели, имевшие в ней нужду и искавшие ее покровительства; словом, жизнь ее текла спокойно, удобно и весело. Так как расположение короля никогда ей не изменяло, то это служило поводом к тому, чтобы все ее уважали…
Графиня, несмотря на свои престарелые годы, любила окружать себя молодежью и даже чувствовала потребность освежать себя их молодостью, так как детей своих не имела. Симонис давно уже стремился познакомиться с нею, но это ему не удавалось. Наконец представился удобный случай, на который он давно рассчитывал, и, навязав себя старушке предложением помочь ей взойти на четвертый этаж, он подал ей руку, на которую старушка оперлась; пользуясь удобной минутой, он рассказал ей о своей печальной судьбе со всеми подробностями и получил позволение изредка приходить к ней по вечерам.
Такому ловкому молодому человеку, как Макс, этого было достаточно, чтобы возыметь самые смелые надежды на успех.
Он был очень осторожен относительно графини де Камас, не торопясь старался расположить ее в свою пользу, ни слова не говоря о своих планах. Между тем старушка, казалось, наблюдала за ним и как бы хотела его испытать. Она была весьма образованна, проницательна и умна. Вращаясь постоянно в высших сферах, слыша всегда дипломатические споры и интересуясь интригами всех дворов, она не была сентиментальна. Благородство ее характера и самолюбие давали ей возможность подразделять поступки других на более или менее симпатичные, но вообще она соглашалась со всем тем, чего требовала высшая политика.
Фридрих II, который еще до вступления своего на престол написал и издал книгу под заглавием «Антимакиавелли», в действительности придал своей политике совершенно иной характер. Макиавелли советует обман и ловкость, Фридрих же никогда не скрывал своего цинизма и никогда не маскировал свои поступки никаким внешним блеском. Всю свою жизнь он не переставал смеяться над тем, что называлось приличием, и в чем бы оно ни выражалось, он никогда не заботился о том ни в частной, ни в общественной жизни… Иногда, в силу необходимости, он скрывал какое-нибудь чувство, но долго выдержать не мог и, в конце концов, разражался сарказмом, бранью и… палкой.
Макс де Симонис уже достаточно изучил дух придворных и короля и потому был уверен, что своей карамельно-сладкой наружностью легко может заслужить – в случае встречи с Фридрихом в злую годину – обыкновенный в подобных случаях эпитет: милая каналья…
Если бы графиня не проявила к нему своего расположения, он, быть может, давно бы уже поехал искать счастья в Дрезден или в Монако… но она, хоть неопределенно, подавала ему надежду и при всяком удобном случае следила за этим молодым искателем счастья, кандидатом на все должности.
Видно было по всему, что эти экзамены благотворно подействовали на старушку, так как она, заметив вздохи молодого человека, явно сказала, что есть кое-какие надежды и что не нужно отчаиваться…
Макс де Симонис, по приезде своем в Берлин, поселился в небольшой комнатке второго этажа под Липами, у своего соотечественника Керони, который содержал кондитерскую. Для человека с большими надеждами, быть может, это помещение было слишком просто и не совсем соответственно, но, не зная, как долго ему придется искать счастья, нужно было подумать о деньгах и быть осторожным. Комната его была не шикарна, но прилична, стол не роскошный, но сытный; но за те деньги, которые Макс платил Керони, лучшего и нельзя было требовать.
Поэтому он и не думал переезжать на другую квартиру, пока не получит чего-нибудь лучшего, определенного; пока для него не взойдет солнышко и ярче засветит на его пути…
Это солнышко, как назло, долго не всходило.
Однажды, в жаркий июльский день, под вечер, Макс, возвращаясь с прогулки домой, собирался написать плачевное письмо к своей сестре; он был в меланхолическом настроении духа; но не успел он еще войти к себе в комнату, как его увидела дочь кондитера, двенадцатилетняя девочка Шарлота, развитая не по летам и, для практики, влюбившаяся уже в Макса, чего, по своей молодости, не умела скрыть.
– Идите же. Идите скорее! – сказала она подбочениваясь, топая ножкой, жмуря глазки и складывая розовые губки бантиком. – У меня кое-что есть для вас!..
Макс грустно улыбнулся. Ухаживать за двенадцатилетней девочкой было бы очевиднейшей насмешкой над судьбой… не таких он успехов ожидал, уезжая из своего отечества.
– Что случилось, моя черноокая и прелестнейшая Шарлота? – спросил он улыбаясь. – Разве я так нужен?
– О, очень и очень нужны, – пролепетала девочка, вертясь на одном месте. – Да ну же, скорее… если вы будете ползти по-черепашьи, то пеняйте на себя, будет уже поздно… и меня не вините…
При этом она сделала театральный жест.
Макс, сделав несколько шагов, остановился… Девочка из себя выходила и стучала ножкой, недовольная его медлительностью. Наконец… она подбежала к нему.
– Графиня де Камас присылала за вами, она вас ждет сегодня… поторопитесь, – сказала Шарлота, не будучи в состоянии больше скрывать тайну. Глядя на красавца, она приняла торжествующий вид.
Не успела она сказать последних слов, как Макс даже подскочил от радости и, схватив ее почти на руки, поцеловал в лоб; девочка зарделась, притворяясь, что она хочет вырваться от него; но Симонис в тот же момент скрылся уже у себя в комнате.
Шарлота, запыхавшись, на цыпочках, подошла к дверям, приложила ухо к замку и по шуму в комнате догадалась, что он торопится одеваться; слышно было, как он двигал стульями, которые ему, как видно, мешали, выдвигал и задвигал ящики и в этой спешке не находил того, чего ему было нужно.
Действительно, ему быть может первый раз в жизни пришлось так торопиться, потому что время летело и приближалось к тому часу, в котором ему приказано было явиться. Хотя в замок было недалеко, но являлась необходимость принарядиться.
К счастью, парик был готов, точно он только что был снят с болванки; но, как назло, у него в руках не спорилось, хотя оставалось только помыться и переодеться; но здесь явилось затруднение, какой фрак надеть ему; у него их было два, оба были хороши и оба шли к лицу.
Однако думать было некогда, и он стал быстро одеваться – от излишней поспешности пострадала только пара шелковых чулок, распоровшихся на самом видном месте.
Наконец через четверть часа он был готов, надел перед зеркалом парик и взял шляпу в руки; он улыбнулся и кланялся своему отражению в зеркале, довольный своею внешностью.
Выбегая из комнаты, он столкнулся с Шарлотой, сделавшей вид, будто она что-то убирает, но на самом деле она все время наблюдала в замочную скважину. На этот раз он попрощался с ней издалека, из опасения помять свой костюм, и быстро стал спускаться по лестнице, напевая какую-то песенку. Очутившись на улице, он быстро пошел ко дворцу. Какой-то внутренний голос нашептывал ему, что его судьба должна сегодня решиться в его пользу, что это была решительная минута…
Сердце его ужасно билось… Графиня еще ни разу не присылала за ним, следовательно, она теперь нуждалась в нем.
Раздумывая о том, мечтая и увлекаясь, он не замечал, что толкнул уже нескольких прохожих, а раз и его толкнули, так что чуть шляпа не слетела с головы, но он продолжал бежать… Наконец, он был у цели и пошел тише… Замок, по обыкновению, выглядел по-летнему… Король Фридрих II обыкновенно это время проводил в Сан-Суси, а королева – в Шенгаузене… Идя по лестнице, Макс никого не встретил до самого четвертого этажа, кроме нескольких лакеев, зевавших от скуки.
В передней графини тоже никого не было, кроме ее старого камердинера, и в гостиной не раздавались голоса, извещавшие о присутствии гостей; значит, никого не было.
Симонис вошел без доклада в зал, но и тут никого не встретил. Только благодаря своим башмакам, которые скрипели, он дал знать о своем присутствии; послышался шелест шелкового платья, и старушка вошла в гостиную; графиня всегда одевалась очень аккуратно и по последней моде, несмотря на то что после смерти мужа дала обет носить только черные платья. Увидев гостя, она приветливо кивнула ему головой…
– Хорошо сделали, что пришли, господин де Симонис, – обратилась она к нему по-французски, так как в царствование Фридриха II как в войске, так и при дворе почти не говорили на другом языке… Приложив палец к губам, она прибавила: – Но вы, надеюсь, не проговоритесь, что я сама вас позвала… Понимаете?..
Сметливый молодой человек ответил почтительным наклонением головы и приложил руку к сердцу, в знак полного послушания.
Графиня села на диван и посмотрела на часы, украшавшие камин, – было уже около восьми часов.
Макс тоже сел немного поодаль… Почти в ту же минуту в передней раздался чей-то глухой голос, двери открылись и в залу вошел знакомый Максу только по виду некто Фредерсдорф.
Увидев его, Макс вскочил и едва мог обуздать свою неподдельную радость. Лицо его залилось румянцем. К счастью, вечерний мрак комнаты скрыл его волнение и румянец его не был заметен. Подобная перемена в лице не могла быть хорошей рекомендацией для человека, мечтавшего занять при дворе видное место.
Это был тот самый Фредерсдорф, которого Вольтер называет ходатаем Фридриха II; хотя с виду он был очень скромен, но на самом деле это была важная персона, несмотря на то что должность, которую он занимал, была не из важных. Те, которым была известна его жизнь, шепотом рассказывали о его происхождении; они говорили, что отец Фредерсдорфа был бедный купчик из Франконии, которому никогда и в голову не приходило видеть своего сына на военной службе или при королевском дворе. Но судьба всегда распоряжается по-своему. Когда Фредерсдорфу исполнилось четырнадцать лет, он был такого исполинского роста, что отец не мог напасти ему сукна на одежду. Затем, до восемнадцати и даже до двадцати лет, он уже не рос так быстро, но тем не менее по своей величине он годился в гренадеры первого разряда. В те времена иметь такой рост было положительным несчастием для молодых людей, не говоря уже об излишних расходах на сукно.
Король Фридрих II имел большую страсть к великанам и мечтал даже о создании особой расы; он держал особых людей, которые ездили для этого по всей Европе и вербовали их для составления гренадерского полка; он не жалел на это денег, лишь бы иметь сильных, рослых и хорошо сложенных солдат. Если их не удавалось сманить за деньги, то вербовщики употребляли насилие и крали их, как женщин, вязали веревками и потом зачисляли в гренадеры. Затем им подыскивали подходящих жен, но, к сожалению, от подобного супружества, вследствие вырождения, о котором прусский король не знал, рождались люди маленькие. Такая страсть к великанам стоила больших денег Фридриху II.
Король Август II, за несколько десятков своих саксонцев-великанов, получил в награду замечательные по своей величине, японского фарфора, сосуды, единственные во всей Европе, в которых можно было даже купаться, как в ваннах.
Разумеется, гренадеры давно уже спят в земле, а японские вазы до сих пор стоят в дрезденском музее.
Фредерсдорф только еще начинал торговать; его торговля шла в самых маленьких размерах, и он не снимал с себя даже кожаного передника, и вот в одно прекрасное утро в его родном местечке в Франконии появились вербовщики. Юношу-великана заметил капитан Шмельс, известный своим искусством вербовщика. Его рук не избегал ни один, которого он наметил и считал годным в гренадеры.
Фредерсдорф, будучи от природы смирным и молчаливым, никогда не был расположен к воинственности и никогда и не думал о военной карьере. Его пригласили в ресторан «Золотое яблоко», напоили до беспамятства, и когда он очнулся далеко от родины, то на нем уже был надет прусский мундир. Трое товарищей капитана Шмельса уверяли его, что он сам согласился служить в гренадерах и что, в крайнем случае, они готовы подтвердить это под присягой.
Таким образом, ни старания родителей Фредерсдорфа, ни какая другая сила не могли вырвать его из рук вербовщиков. Молодой гигант должен был подчиниться силе. Но когда его привезли в Берлин и начали муштровать при помощи палки, так как в то время этот педагогический метод был в большом ходу, то оказалось, что даже всемогущая палка не могла в нем выработать военной выправки, требуемой от рядовых гренадеров, и капитан Шмельс, обративший внимание только на рост, получил за него строгий выговор.
Все-таки его не отпустили и старались сделать из него полезного человека, а так как Фредерсдорф имел большую склонность к музыке, то его заставили учиться играть на гобое и флейте.
Его зачислили в Шверинский полк, стоявший в Кюстринской крепости, в то самое время, когда сын короля Фридриха был арестован за свое намерение бежать. По прошествии некоторого времени молодой наследник престола стал развлекаться игрой на флейте и книгами. Это было поводом к сближению с Фредерсдорфом, и князь его очень полюбил.
В сущности, его нельзя было не полюбить. Его тихая, осторожная, внимательная и флегматичная натура не легко поддавалась впечатлениям, но раз он кого полюбил, то оставался верен ему навсегда. Как музыкант-флейтист, молодой солдат отличался особенной отчетливостью и чувством музыки, а как человек – обладал обширным сердцем, соответствовавшим его росту. Фридрих, находясь под строгим надзором в Кюстрине, выпросил у коменданта на время своего заключения доброго и скромного Фредерсдорфа в качестве денщика; князь его так полюбил, что даже поручал ему писать письма к сестре, маркграфине Байрот, в которых он умолял искать для него защиты у других королей.
Во все время ужасного заключения принца несчастный купчик был правой рукой Фридриха, а помощь при подобном положении была вещью очень рискованной, за которую можно было легко поплатиться жизнью; такая услуга никогда не забывалась.
Когда тяжелые для принца времена кончились, он был освобожден и снова допущен к отцу, то женился и первым долгом постарался освободить Фредерсдорфа от военной службы.
Флейтист тоже искренно привязался к своему господину во время его заключения в Кюстрине и поступил к нему на скромную службу в качестве лакея… но этот лакей, в то же время, был и приятелем Фридриха, который, не стесняясь пускать в дело палку, однако не решался поднять ее на своего слугу. Даже когда он был очень зол, ему достаточно было взглянуть на своего слугу, вечно веселого, довольного и спокойного, чтобы гнев его моментально прошел.
Своим хладнокровием Фредерсдорф всегда смирял запальчивость Фридриха II; это был единственный человек, который, несмотря на незавидную должность лакея, не выходил из милости короля и пользовался полным его доверием. В руках Фредерсдорфа хранились самые важные документы, деньги, ключи, и он никогда не злоупотреблял этим доверием. Кроме того, он имел еще и то достоинство, что никогда и ничего не просил для себя: он всем был доволен и исполнял без всяких возражений приказания, не вникая в их содержание, надобность или ненадобность.
Из скромного лакея он скоро сделался камердинером и первым слугой князя. А когда Фридрих II вступил на престол, то он сделал его своим тайным советником и казнохранителем. Но это не мешало королю мучить его до того, что его любимец чуть не сделался жертвою неустанных трудов.
Фредерсдорф случайно познакомился в Потсдаме с богатой и красивой дочерью банкира Дауна, и они понравились друг другу; страстная любовь запылала между ними тайно. Но Фридрих узнал об этом. Говорить ему о любви было все равно, что спрашивать слепого об отличии цвета материи. Король называл любовь комедией, так как сам никогда не испытывал ее. Для него все молодые девушки были одинаковы и, как он сам выражался, пахли чесноком. Прозаичнее и циничнее натуры трудно себе представить. Любовь Фредерсдорфа возмутила его, и первый раз в жизни он сильно напустился на своего любимца, бранил его и насмехался над его чувством. Он боялся, чтобы любовь к жене не лишила его необходимого слуги.
Не переставая смеяться и преследовать ненравившуюся ему любовь, Фридрих надеялся этим излечить своего друга, но не мог достигнуть этого; тогда король отправил Фредерсдорфа путешествовать во Францию, рассчитывая, что это рассеет его и он забудет о своих увлечениях; но, когда влюбленный серьезно заболел от скуки, король потерял всякое терпение и позволил ему жениться хоть на дьяволе.
Обрадованный Фредерсдорф сразу выздоровел, женился и снова вернулся на службу, так как король без него не мог обойтись. Он наградил его, подарив ему несколько имений, и все было позабыто…
Фредерсдорф в то время был еще очень красив, и высокий рост нисколько не мешал ему в его движениях и не лишал его приятности манер, выработанных при дворе: в нем уже нельзя было узнать прежнего купчика и полкового музыканта. Элегантный костюм делал его еще моложе, хотя этот туалет служил королю поводом к насмешкам, потому что сам он всегда был грязен, неопрятен и не любил в других чистоплотности…
Фредерсдорф вошел тихо, с улыбкой на устах и подошел к графине де Камас; в ту же минуту его быстрый взгляд заметил Симониса.
Экономка короля представила ему де Симониса, называя его в шутку своим протеже.
– Но знаешь ли, мой дорогой, как мне не везет с моим протеже!.. Кавалер де Симонис, вот уже почти год ищет занятий, и все безуспешно…
Фредерсдорф пожал слегка плечами, пробурчал что-то про себя, и разговор перешел на посторонние предметы. Последнее шумное торжество у принца Генриха дало им тему для беседы.
К счастью, де Симонис хотя издали был свидетелем этого пиршества и потому мог сказать о нем хоть несколько слов, ловко вставляя в их разговор свои остроумные замечания. Казнохранитель не прерывал его и слушал с большим вниманием, желая дать ему высказаться; как он, так и экономка, точно сговорившись, только изредка перебивали его, как бы для того, чтобы вызвать на дальнейшие подробности экзаменуемого.
Макс был в ударе и, оживившись, произнес целую речь, которая, казалось, вполне удовлетворила вкус слушателей. Когда он кончил, графиня и Фредерсдорф переглянулись.
Казнохранитель, как и всегда, больше слушал, чем говорил, но, когда графиня де Камас снова намекнула ему, что молодой человек, которому она желает протежировать, нуждается в какой-либо должности при дворе, Фредерсдорф ответил ей вежливо и спокойно:
– Его королевское величество неохотно принимает новых людей; все вакансии заняты, а на военной службе едва ли господин де Симонис захочет закапывать свои способности… Для военной службы нужны больше руки и ноги, чем голова, а я думаю, что голова у этого молодого человека сильнее рук.
Все рассмеялись подобному заключению; казнохранитель задал ему еще несколько вопросов, точно испытывая его, и после часового экзамена вежливо прибавил:
– Желаю вам от души блестящей карьеры… и надеюсь, даже предсказываю, что она у вас впереди… Однако прошу не побрезговать и советом человека, старшего вас летами…
Причем казнохранитель замялся и потом медленно продолжал:
– Есть счастливцы, которые приближаются ко двору и сами делаются высокопоставленными лицами; но каждый из них должен принять за правило молчание и сдержанность: это может больше сделать, чем остроумие и болтливость… Многих вещей нужно даже совсем не понимать, а тем более не говорить о них при посторонних.
Затем он быстро встал, посмотрел на часы, и хотя в этот момент лакей вносил закуску, фрукты, вино и пирожные, он отказался от них и вышел из зала. Графиня что-то сказала ему на ухо и, проводив его до передней, там еще беседовала с ним почти четверть часа.
Оставшись один, Симонис совсем упал духом: он никак не ожидал подобного результата от своего красноречия. В ожидании графини он смотрел на бутылку с вином, обдумывая свое положение.
Наконец, графиня вернулась быстрыми шагами, взглянула на него, приглашая взглядом придвинуться к столу и, вздохнув, налила рюмку вина и начала разговор.
Сначала Симонис, потерявший всякую надежду, рассеянно слушал ее, но затем, вслушавшись, навострил уши: ее слова заинтересовали его.
– Теперь, кажется, все достаточно узнали наш двор, – тихо сказала графиня, меряя его глазами, – и знают, как труден доступ к нему… Отчего бы вам не поискать счастия в другом месте?.. – колеблясь, прибавила она.
Эти слова точно мечом пронзили молодого мечтателя. Иначе говоря, она советовала ему убираться вон! Того ли он ждал, торопясь к графине? Как будто его затем и звали, чтобы дать подобный совет!
Графиня заметила, какое впечатление произвели ее слова, и постаралась стушевать их.
– Дело в том, – снова начала она, – что если бы вы, несмотря на свои лета, были сдержаннее, то вы могли бы быть нам, и даже королю, полезны, находясь при другом дворе.
Макс покраснел, как вишня, и чуть не вскочил с своего стула; он даже выронил из рук шляпу, так как ему сейчас же хотелось сказать, что он готов на все и чтоб им распоряжались по своему усмотрению, лишь бы он достигнул желанной цели, но графиня перебила его и поспешно прибавила:
– Послушайте, господин де Симонис; мне самой хочется сделать что-нибудь для вас, потому что я интересуюсь вашей судьбой… И я уже кое-что придумала… на собственный риск… да, на собственный, никем не прошенная… из одного расположения к вам… только надо быть осторожным… Выслушайте меня…
Она придвинулась к нему ближе, взяла с тарелки белой сморщенной рукой грушу и, играя ею, продолжала, понизив голос:
– Мне сейчас пришло это в голову: почему бы вам не поехать в Дрезден? Там, – я знаю это наверное, – этот бессовестный Брюль и его единомышленники затевают против нас измену. Король стреляет в собак и курит трубку, а его министры распоряжаются им. Королева Жозефина ненавидит нас… А вы теперь свободны и можете поехать туда, кое с кем познакомиться, понравиться госпоже Брюль, которая любит молодежь, хотя сама давно утратила молодость… Вы многое могли бы там узнать и донести мне, и я могла бы, при случае, прочесть королю одно из ваших писем. Почем знать? Этим путем можно многого достигнуть!
Высказав эти слова и высыпав их быстро, как из мешка, графиня опять устремила свои черные глаза на молодого человека, как бы желая разгадать, какое впечатление произвело ее предложение. Лицо Макса горело, глаза блестели, и губы дрожали…
Наконец, когда он получил возможность говорить, он сложил руки, как для молитвы, и с жаром воскликнул:
– О сударыня, умоляю вас, приказывайте, направляйте и требуйте все, что угодно; я все исполню без малейшего рассуждения!
И ловкий юноша после такого восклицания сейчас же изменил свой голос и сентиментально продолжал:
– Я сирота, один на свете, не имею ни покровителя, никого, кто бы мог руководить мною в тяжелые минуты, поддержать меня… я очень рад отдать себя в ваше распоряжение, графиня. Я должен трудиться для моей будущности, работать на себя и пробивать себе дорогу… Подайте же руку помощи сироте…
При этом он склонил голову. Экономка улыбнулась, но в этой улыбке можно было заметить что-то странное, загадочное, сострадательное.
Она вздохнула и после маленькой паузы снова продолжала:
– Ну, как же вы думаете? Принимаете мое предложение? Поедете в Дрезден?
– Хоть на край света! – ответил Макс, но не успел он сказать этих слов, как какая-то мысль, должно быть, испугала его и он сразу побледнел и замолк.
Он вспомнил о своих финансах, которые у него были в самом скверном положении и на исходе. Ему вспомнились и расходы при дрезденском дворе, где без известного шика нельзя было не только показаться, а тем более, без денег, играть какую-нибудь роль.
Графиня де Камас, по-видимому, поняла его мысль и сейчас же заговорила, не спуская с него глаз.
– Так как вы хотите, чтобы я была вашей опекуншей, то вы должны быть со мною откровенным и искренним. Насколько мне известно, вы уже давно живете в Берлине, и хотя я знаю, вы не тратили деньги попусту, но молодость имеет свои права и потребности. Из дому вы, наверное, не могли взять много. Поэтому… пока ваши дела поправятся, я могу вам помочь, если вы нуждаетесь.
Макс торопливо поцеловал ее руку; он не хотел с первого раза возбуждать такой щекотливый вопрос.
– Что же касается саксонского двора, – прибавила она, – то, если вы согласны ехать туда, я вас снабжу необходимыми сведениями и инструкциями. У вас есть там знакомые?
– К сожалению, никого!
– Тем лучше, – сказала графиня, – тем лучше. Я могу вам дать письма к двум лицам: или к вашему соотечественнику старику Бегуелину, или к посланнику Аммону.
При последних словах Макс вздрогнул, лицо его вспыхнуло, и он пришел в замешательство.
– О, только не к Аммону! – воскликнул он. – Так как вы сказали, что я должен быть откровенным, то я ничего не стану скрывать от вас. Аммон – мой близкий родственник. Приехав сюда, я, прежде всего, обратился к нему, но он безжалостно отказался мне помочь. Я не хочу быть гордым, но раз он мне отказал, то и я не хочу его знать.
Графиня де Камас улыбнулась.
– Если так, то вам нет надобности встречаться с ним, – сказала она. – Бегуелин – швейцарец, и он вас примет с распростертыми объятиями при моей рекомендации. По крайней мере, никто не станет удивляться, что вы, как два соотечественника, будете жить вместе. Бегуелин хоть стар и тяжел на подъем, но он отлично знает страну и может быть вам очень полезен…
Разговор о Саксонии длился еще некоторое время; графиня дала ему еще несколько советов, видимо, принимая в нем горячее участие…
Было уже довольно поздно, и графиня, как будто ей пришла новая мысль, вдруг ударила рукой по столу и воскликнула:
– Ба!.. Хоть вы случайно познакомились с Фредерсдорфом, но все-таки вежливость требует сделать ему визит в Сан-Суси. Хотя он человек незначительный, но он много может сделать, и знакомство с ним может быть вам очень полезно… Да, верьте мне.
– А как я попаду к нему? – шепотом спросил Симонис.
– Ну, об этом не беспокойтесь… нет ничего легче, – сказала графиня де Камас. – В известные часы сад всегда открыт, пройдитесь по нему, полюбуйтесь статуями, и наверное, если не встретитесь с самим Фредерсдорфом, то узнаете, где он живет. Если он не будет у короля, то, наверное, примет вас… Итак, завтра утром отправляйтесь в Сан-Суси, – этого нельзя откладывать, – а затем я вас буду ждать, чтобы снабдить вас нужными инструкциями в Дрезден.
Графиня встала; молодой человек вскочил с своего стула и, поцеловав руку покровительнице, на цыпочках, с полным почтением, удалился из комнаты.
На дворе было душно; ночь была темная, и тучи пробегали по небу. Время от времени сверкала молния, освещая пустую улицу; вскоре начали падать крупные капли дождя. Симонис заметил, что его новому фраку и парику угрожала большая опасность, поэтому пустился бежать. И не успел он еще переступить порога своей комнаты, как дождь превратился в большой ливень.
II
Симонис не знал Фридриха, иначе он сразу догадался бы, что графиня посылает его в Дрезден не ради своего удовольствия.
Не обличая чужих слабостей, сам Фридрих не был разборчив в политике; а раз он задавался какой-нибудь целью, то уже не обращал никакого внимания на то, что скажут другие, так же как и не старался оправдывать своих поступков ссылкой на чужие промахи.
В настоящее время Симонис стоял на совершенно нейтральной почве и готов был с каждым, без разбору, заключить союз, хотя бы даже против своих родных братьев, лишь бы достигнуть цели. К счастью, у него не было братьев. Вчерашний вечер привел его в такое возбужденное состояние, что несмотря на несколько стаканов холодной воды, выпитых им для успокоения разыгравшихся нервов, он почти не сомкнул глаз во всю ночь. В Сан-Суси день начинался с четырех часов утра, так как Фридрих вставал очень рано; этому примеру, конечно, должны были следовать окружающие его и весь двор. Следовательно, чтобы представиться Фредерсдорфу, нужно было попасть очень рано в Сан-Суси.
К счастью для Симониса, несмотря на ночную бурю, которая хоть была очень сильна, но продолжалась недолго, к утру небо прояснилось, тучи рассеялись, воздух был свеж; можно было надеяться на прелестную погоду.
Хотя Макс не спал всю ночь, но он чувствовал себя совершенно бодрым и, встав еще до рассвета, занялся своим туалетом. В доме царствовала полнейшая тишина. Все еще спали; хозяева не привыкли видеть, чтобы молодой человек вставал так рано, но услышав движение в комнате Макса еще до рассвета, были очень удивлены и, в свою очередь, раньше обыкновенного, покинули свои постели.
В городе тоже было тихо, и только изредка доносился скрип деревенской телеги, везущей в город провизию.
Макс открыл окно и начал одеваться. Он благословлял судьбу, что вчерашний дождь не повредил его фрак. Если бы он вышел от графини десятью минутами позже, то, наверное, лишился бы как фрака, так и франтовского парика, а главное, шляпы, которая пала бы под ударами стихии.
Судьба положительно благоприятствовала ему; наступал перелом, и богиня фортуны, стоявшая к нему до тех пор спиной, обернулась с улыбающимся лицом.
Солнце только еще всходило, а юноша совсем был уже готов в путь, который ему приходилось совершать пешком. Посмотревшись в зеркало, он остался вполне доволен собою и, ловко повернувшись на одном каблуке, собирался уже уйти.
Вдруг совершенно неожиданно он увидел перед собой Шарлоту с распущенными, вьющимися черными волосами; еще после сна румянец не успел сойти с ее детского лица, и она свежая, красивая и кругленькая, как вишня, загородила ему дорогу. После вчерашнего поцелуя она сделалась смелее и обращалась с юношей, точно имея на него какие-то права.
Она взглянула ему прямо в глаза и спросила:
– Ого! Куда же это вы так рано и таким франтом? Что это значит?
Макс ласково улыбнулся, но обратился к ней свысока, покровительственным тоном:
– По своим делам, милая Шарлота!.. Скажите вашей уважаемой мамаше, что я, вероятно, не буду сегодня обедать… потому что занят делами…
Шарлота только головой покачала.
– Как вы теперь важничаете, – ответила она, – после того, как вас пригласила к себе графиня де Камас!
И, видя, что он хочет пройти, снова загородила ему дорогу и с нетерпением спросила:
– Но куда же вы это, куда?
Вспомнив вчерашнее наставление казнохранителя относительно излишней болтливости, он решил, что не следует выдавать себя перед ребенком, и поэтому спокойно ответил:
– Я приглашен на раннюю прогулку… прощайте…
Шарлота думала, что хоть бы для устранения ее с дороги он, по крайней мере, заключит ее в свои объятия и поцелует, как вчера, но Симонис был слишком занят в этот день собой, поэтому только поклонился и, улыбаясь, проскользнул к лестнице. Опечаленная девочка осталась наверху.
Спустя минуту он был уже на улице и старался осторожно обойти лужи, заботясь о сохранении в чистоте своей обуви.
Обладая молодыми и сильными ногами легче всего было дойти до Сан-Суси, нежели попасть туда. Ввиду этого он заблаговременно обдумывал, как половчее прийти в сад, поближе подойти к дворцу и сколько времени ему придется гулять по пустым аллеям, пока представится возможность встретиться с Фредерсдорфом или пройти к нему на квартиру.
В продолжение всего года Макс безуспешно старался завязать знакомство с придворными. Фридрих II не любил, чтобы его чиновники или военные имели какие-нибудь сношения с иностранными дипломатами, как не любил и того, чтобы окружающие его сближались вообще с иностранцами. Он никому не доверял и всех подозревал в шпионстве. Все придворные должны были сторониться от вновь прибывающих. Каждое утро из Берлина привозили полный список всех новоприбывших в город с обозначением причины их приезда и фамилий тех, которые желали представиться ко двору. Одних принимали, другим отказывали, а когда Фридрих II бывал не в духе, то принятые гости зачастую жалели о своем визите, так как король, находясь в таком состоянии, бывал невежлив и даже груб. Только смелый и остроумный ответ мог иногда расположить его.
Однажды, когда в первый раз ему представлялся знаменитый маркиз Люкзини, которого рекомендовал ему князь Фонтана, король, остро посмотрев на него, спросил:
– Много ли вас таких итальянских маркизов шляется по всему свету, которые служат шпионами при дворах?
Маркиз не потерялся и смело ответил:
– Ваше величество! Нас столько же, сколько глупых владетельных особ, которые задают нам подобные вопросы.
Остроумие обезоружило Фридриха, и он боялся этого меча.
Симонис старался припомнить всех своих «шапочных» знакомых, способных оказать ему какую-нибудь услугу, и он вспомнил о королевском паже, Христиане Эрнесте Мальшицком, добром малом, с которым он познакомился в Берлине несколько недель тому назад; его размышления были прерваны шумом колес, и, обернувшись, он узнал совершенно неожиданно человека, хорошо ему знакомого.
Это был фурьер короля, приятель кондитера, тоже швейцарец; он вез какие-то пирожные и съестные припасы. Его звали Юрли; его красный, как у индюка, нос доказывал тесную связь, существовавшую между ним и стаканом.
Юрли был в самом веселом расположении духа; подбоченившись, он курил трубку и по временам как будто напевал какую-то песенку; для соблюдения такта он стучал ногой по сундуку, на котором сидел.
– А!.. Куда это вы, господин барон? – воскликнул он, поднося руку к шапке.
Максу было стыдно, что он шел пешком; он хотел объяснить это утренней прогулкой, но костюм выдавал его, а потому он предпочел признаться, что идет к своему приятелю в Сан-Суси.
Услышав это, Юрли остановил своего кучера.
– Пешком в Сан-Суси и в таком наряде? – спросил он, покачивая головой. – Если бы вам не было стыдно, то я предложил бы вам место рядом с собой… Теперь по дороге мы не встретим ни одной живой души… Садитесь. По крайней мере вы не так устанете.
Предложение было соблазнительно, и Симонис воспользовался им, поверив Юрли, что тот высадит его далеко от замка. Он сел рядом с ним на сундуке, и кони поехали… Симонису повезло, так как Юрли объяснил ему, через какие ворота можно войти в сад, по каким аллеям следует гулять и где вернее можно встретиться с Фредерсдорфом.
– Однако я посоветовал бы вам постараться избежать встречи с его величеством, так как он очень редко бывает в хорошем расположении духа и всегда имеет при себе палку. Но в этот час, – прибавил он успокоительно, – едва ли вы встретитесь с ним… зато будете иметь удовольствие видеть всех его собак.
По всему видно было, что Юрли в ударе.
– Э, – сказал он, – если бы я не был Юрли, то, сказать по правде, я бы очень хотел быть одной из королевских собак! Это счастливейшие животные, имеют свой двор, получают по два талера в день и спят на атласных подушках; Алькмена по большей части на коленях у короля, и он ее никогда не тронет своей палкой. Утром пажи выводят их в сад на прогулку… и если вы там с ними встретитесь, то издали поклонитесь им… не помешает обратиться к ним за протекцией. Да, кроме шуток! На кого Алькмена заворчит, тому король никогда не станет доверять, а к кому она будет ласковее, то это самая лучшая для него рекомендация.
Таким образом они доехали до Сан-Суси; Симонис слез с телеги и поблагодарил любезного Юрли, который долго еще провожал его глазами.
Отворив ворота, Макс вошел в боковую аллею и издали посматривал с бьющимся сердцем на маленький дворец Сан-Суси. Он не предполагал, что это посещение скоро увенчается успехом, а потому уселся на каменной скамейке; но так как он всю ночь не спал и к тому же не завтракал, то его начало клонить ко сну и он время от времени сильно зевал. Может быть, он поддался бы этому чувству и вздремнул, но вскоре он увидел пажеский мундир и, к большой радости, узнал в этом паже своего знакомого – Мальшицкого.
Паж в свою очередь был удивлен этой встречей и с живостью спросил:
– Что вы здесь делаете?
Не подготовленный к подобному вопросу, Симонис не знал, что ему ответить; врать ему на этот раз было не совсем удобно, потому что Мальшицкий мог ему быть полезным.
– Как видите, ничего, – отвечал де Симонис. – На днях я оставляю Берлин и Пруссию… Немного у меня здесь знакомых, но и с теми хотелось бы проститься и засвидетельствовать им свое почтение, а между ними и господину Фредерсдорфу, которому я имел честь быть представленным, а вместе с тем и вам.
И он ловко раскланялся, прикасаясь рукой к своей шляпе.
– Вы мне оказали бы большую услугу, если б научили, как и где можно встретиться с казнохранителем, – прибавил он.
– Теперь, в такую пору, – сказал Мальшицкий, – он, кажется, у короля… Но позже это очень просто: вы можете его найти в своей квартире, во дворце.
– Вы сегодня на службе? – спросил Симонис.
– До двенадцати часов дня свободен.
– Должен вам признаться, что я выехал из Берлина без завтрака… и если бы вы мне указали, где можно поесть, то я пригласил бы вас откушать вместе.
Мальшицкий, подумав немного, подал ему руку; осмотревшись предварительно кругом, он вывел его из сада позади больших деревьев. Неподалеку от дворца находился ресторан и кондитерская.
– Мы можем получить здесь по чашке отличного шоколада, – обратился к нему Мальшицкий, – но предупреждаю вас, если мы кого-нибудь там застанем, то будем молчать… по крайней мере, мне там разговаривать неудобно и я рта не открою.
– Сядем у столика под деревом.
Действительно, нашлось отдельное местечко, и Симонис приказал подать две порции шоколада. Хозяин, как почти и все кондитеры того времени в Европе, был швейцарец и немного уже знаком с юношей.
При этом случае знакомство их возобновилось, и двое молодых людей заняли место у стола.
– Король еще спит? – шепотом спросил Симонис.
Эрнест посмотрел на него с удивлением.
– Видно, что вы здесь первый раз и ни о чем не знаете… – отвечал он. – Сегодня его величество в половине четвертого был на ногах… ему даже не прикладывали к лицу мокрого платка, как это делается обыкновенно, чтоб разбудить его… уже несколько дней он о чем-то сильно беспокоится и сегодня сам проснулся… Я видел, как его лакей понес ему на подносе письма, полученные из Берлина; он выпил уже свой кофе, надел голубой костюм и, если не ошибаюсь, теперь играет на флейте.
Мальшицкий замолк, как бы прислушиваясь, но было слишком далеко от дворца, чтобы звуки флейты могли донестись до них.
– Теперь советники ждут приема в передней, – продолжал паж, – затем последуют доклады, после… право, не знаю, может быть, смотр какого-нибудь полка.
Затем, наклонившись к уху Симониса, он тихо прибавил:
– О, если сегодня и в другие дни будет прием, то не завидую тем, которые станут представляться ему. В последние дни он пасмурен и сердит.
– Не знаете причины? – спросил Симонис.
Мальшицкий с удивлением поднял руку.
– Я?.. Я ровно ничего не знаю! Да и кто может это знать? Вижу только, что король не в духе, глаза горят, точно молнии… Из этого люди делают свои выводы и говорят, что это перед войной.
После шоколада разговор длился недолго, и хотя Мальшицкий был в этот день свободен от службы, но собирался писать к матери письмо и потому не хотел удаляться от дворца. Они вместе вышли в сад, а затем паж сейчас же пошел ко дворцу, указав своему знакомому на удобное место в тени, обещая скоро вернуться, если будет возможность.
Симонис уселся в раздумье, а так как из-за деревьев видна была дворцовая терраса, то он туда и обратил свой взгляд. Вскоре он заметил, что стеклянные двери отворились и на крыльцо вышел один из пажей с целой стаей собак. Выскочив на свободу, собаки начали прыгать, кувыркаться и лаять, разбегаясь по цветникам; паж, точно гувернер, призывал их иногда к порядку и следовал за ними. Слышны были имена непослушных баловников, которых приходилось по несколько раз призывать к послушанию и не терять их из виду в кустах и за деревьями.
Филис, Тизба, Диана, Пикс, Аморетта, Суперба составляли семью при дворе Алькмены, почти не сходившей с колен короля. В настоящее время, выпущенная на свободу, она шла серьезная и скучная, не принимая никакого участия в веселье друзей, которые старались ее расшевелить.
Алькмена шла неохотно как бы по принуждению: по-видимому, ей не нравилась эта прогулка, и она поднимала довольно высоко свои нежные лапки от неприятного прикосновения к сырой и холодной земле. Иногда она останавливалась на мгновение, как бы желая вернуться, позевывала довольно часто и оглядывалась на дворец, видимо сожалея, что должна была его оставить.
Солнце начинало печь довольно сильно, и паж повернул в боковую тенистую аллею; собаки поневоле должны были следовать за своим вожатым, именно к тому месту, где сидел Симонис. Алькмена продолжала тихо идти; но, увидев на скамейке постороннего человека, насторожила уши с любопытством и начала смотреть на него; затем она прибавила шагу, и, как избалованный ребенок, которому ни в чем не отказывают, – а ей именно никто не смел ни в чем противоречить, – подбежала к Симонису и прыгнула на скамейку. Всматриваясь своими черными умными глазами в незнакомца, она доверчиво отвернула полу легкого плаща Симониса и, не видя сопротивления, влезла к нему на колени и улеглась, свернувшись калачиком. Остальные собаки стали вокруг; в это время подошел паж и, слегка улыбаясь, но с некоторым неудовольствием, начал звать к себе Алькмену, которая, по-видимому, не имела ни малейшего желания оставить удобного для нее ложа; она начала даже ворчать. Филис и Тизба лаяли, как бы находя подобный поступок чересчур неприличным, а вслед за ними и остальные собаки подняли такой страшный вой, который легко мог быть слышен во дворце.
Симонис был слишком вежлив и счастлив оказанным ему вниманием любимицы короля и не старался сделать ни малейшего намека, чтобы Алькмена удалилась от него. Паж был, видимо, очень недоволен и сильно обеспокоен: он постоянно оглядывался в сторону дворца, тщетно стараясь прекратить неистовый лай собак.
– Экие проклятые собаки! – ворчал он про себя, стараясь усмирить их маханием платка, что вызвало еще больший лай. – Окаянные псы!.. Что, если король услышит! Вот уж несчастье так несчастье!..
Он еще продолжал топать ногами и звать собак, как вдруг, точно молния, из чащи выскочил, совершенно неожиданно, среднего роста человек.
Паж встал, точно вкопанный, а собаки, только взглянув на него, продолжали лаять на Алькмену.
Лицо его было покрыто морщинами; черные глаза, пронизывающие насквозь, привыкли к угрозам и приказаниям. По сжатым губам и морщинам вокруг них можно было судить о сильном характере и сарказме этого человека. Заостренный нос и исхудалые щеки придавали этому лицу что-то неприятное, но вместе с тем свидетельствовали о силе воли, не привыкшей подчиняться кому бы то ни было. Морщины на лбу придавали пожелтевшему и усталому лицу суровый вид. На парик надета была треуголка, выцветшая от солнца и дождя. На нем был мундир голубого цвета, старый и тоже выцветший. Остальные части его туалета тоже не отличались особенным изяществом; из карманов его плюшевых и неаккуратно натянутых шаровар торчали платки и табакерки; сапоги с длинными голенищами были не чищены, поцарапаны, рыжие и в грязи. Единственной и более ценной вещью была его палка, ручка которой была украшена бриллиантами, а на грязной, запачканной чернилами руке красовались два крупных солитера.
Выйдя из кустов, очевидно вызванный из них лаем собак-любимцев, он остановился с поднятой палкой, как бы грозя ей пажу, собакам или Симонису.
Это был король Фридрих II.
Симонис, которому случалось видеть его издалека, хотел встать со скамейки, но Алькмена мешала ему, а сбросить ее с колен он не решался. Увидев своего господина, она подняла голову, помахала хвостом, но не сошла с колен.
– Что это значит! – крикнул Фридрих на пажа, поднимая палку. – Кто он такой?.. Говорите!
Паж начал объясняться.
– Как вы смели позволить брать кому бы то ни было Алькмену на колени…
– Ваше величество! Она сама, против моей воли, насильно… ее невозможно было удержать…
Король сурово посмотрел на Симониса, который успел встать, взяв Алькмену на руки и сбросив с головы шляпу, на землю, так как руки его были заняты. Собаки сначала испугались шляпы, но затем все сразу набросились на нее, как на игрушку, и начали ее немилосердно трепать, отнимая ее одна у другой.
Фридрих улыбнулся. Он всегда был лучшего мнения о тех людях, к которым ласкались его собаки. Не запрещая своим любимцам играть с шляпой, вмиг изорванной в клочки, Фридрих движением руки велел пажу удалиться, а затем, опершись обеими руками на свою палку, начал всматриваться в Симониса.
– Говорите, – сказал он, – что вы здесь делаете в Сан-Суси в такое раннее время, кто вы такой и чем занимаетесь?
Симонис отлично понимал, что от настоящей минуты зависит вся его будущность; он знал, что король любит смелые и остроумные ответы, а потому, призвав на помощь всю свою энергию и продолжая держать королевскую любимицу на руках, потягивающуюся и зевающую, он смело ответил:
– Ваше величество! Я уроженец Швейцарии, ищу службы и занятий. Скоро уж год, как я понапрасну живу в Берлине, а так как здесь все места заняты и на каждое место по десяти кандидатов, то я собираюсь уехать отсюда и пришел попрощаться с знакомыми.
– Как тебя зовут? – спросил король.
– Макс де Симонис!
– А, есть и «де»!.. Что же вы – дворянин?
– Мои предки были дворянами.
– Что вы умеете?
Симонис призадумался.
– Умею, ваше величество, знать, что ничего не знаю, и знаю то, что могу всему научиться.
Фридрих взглянул на него.
– Вы звали к себе Алькмену?
– Нет, ваше величество, я не осмелился бы этого сделать.
Алькмене так было хорошо на руках, что она хоть и виляла хвостом, но слезать не думала; между тем Фридрих рассматривал лицо юноши с большим вниманием.
– А кто здесь ваши знакомые?
– Я имел счастье видеть однажды у графини де Камас господина Фредерсдорфа.
– А давно ли вы знаете графиню? – продолжал экзаменовать король.
– Уже год, как я имел счастье быть ей полезным… когда раз лошади…
– Знаю, знаю, – прервал король и отвернулся; казалось, он хотел уйти, как вдруг он увидел шляпу, над которой забавлялись собаки, тронул ее палкой, что дало повод собакам вновь взяться за нее и, на этот раз, совсем ее изорвать; король с насмешкой обратился к юноше: – Пусть это послужит вам наукой: кто хочет попасть ко двору, тот вот какую получает пользу.
– Ваше величество, – ответил де Симонис, – благодаря этой изорванной шляпе я имею счастие лицезреть вас, а потому очень доволен своей судьбой.
Фридрих посмотрел на юношу и сказал:
– Спустите осторожно Алькмену на землю и следуйте за мной: я велю дать вам другую шляпу.
Хотя Алькмена сопротивлялась, но Симонис должен был исполнить приказание короля. Очутившись на земле, она потянулась, посмотрела на короля, который ей погрозил, и дружелюбно залаяв на Симониса, как бы упрекая его за то, что он оставил ее, медленно пошла впереди него.
Симонис собрал остатки своей шляпы и пошел за королем, который вскоре оглянулся и, остановившись, спросил:
– Куда же вы думаете ехать?
Симонис немного замялся.
– Графиня де Камас была настолько любезна, что посоветовала мне уехать в Саксонию и обещала снабдить меня рекомендательными письмами.
Черные глаза короля сразу обратились на Симониса, и он приблизился к нему.
– Имеете охоту добиться чего-нибудь хорошего?
– Не только охоту, ваше величество, но я вынужден… потому что я сирота…
– Так знайте же, что можно добиться хорошего лишь тогда, когда вы будете служить только одному господину, а изменой и сидением на двух стульях вы заслужите тюрьму и виселицу.
Затем король сделал еще несколько шагов и, повернувшись к Симонису, прибавил:
– Вы не должны забывать и того, что умные речи – вещь хорошая, но глупое молчание еще лучше…
Симонис поклонился.
Король продолжал идти к террасе, на которой уже стояли в расшитых мундирах генералы, камергеры и ожидавшие приема иностранцы. Фридрих еще раз повернулся в сторону Симониса.
– Подите во дворец и посидите в передней; там находятся мои пажи, ждите моих приказаний.
Симонис низко поклонился и с бьющимся сердцем, угадывая дорогу, направился к правому крылу здания, в котором были пажи короля.
Появление между пажами, быть может, причинило бы ему много неприятностей, если б он не застал там между ними своего знакомого Мальшицкого, который, раньше чем ожидал, должен был заменить своего товарища, отправленного под арест за плохое наблюдение за Алькменой.
Симонис явился с изорванной шляпой в руках.
– А вы что здесь делаете? – с удивлением спросил паж.
– Я пришел по приказанию его королевского величества, который приказал мне здесь ждать.
Не успел еще Макс войти, как все уже начали смеяться над его изорванной шляпой; но вдруг дверь отворилась и в нее вошел король, не обращая внимания на всех присутствующих, стоящих навытяжку.
Он вошел в шляпе, которую почти никогда не снимал, и прошел в аудиенц-зал; за ним следовала целая стая собак, а последними шли генералы Лентулус, Варнери, адъютант Винтерфельдт, главный конюший, генерал Шверин, канцлер Кокцей, камергер Пельниц и много других.
Вскоре затем послышались вопросы и краткие ответы: очевидно, король советовался со своими придворными. Симонис сел вместе с Мальшицким в уголке, надеясь отдохнуть немного, но в этот день ему суждено было испытывать только одни неожиданности.
Не прошло и четверти часа, как двери, ведущие в залу, быстро распахнулись и в них показался стройный мужчина в камергерском мундире. Он быстро начал искать глазами кого-то в передней. Несмотря на черты лица, свидетельствовавшие о прежней красоте, и на слишком богатый мундир, в фигуре этого человека было что-то несимпатичное.
Если б на нем не было этого богатого костюма камергера с ключиком у мундира, легко было бы узнать в нем человека, который вырос и получил образование при дворе и преждевременно состарился от душной атмосферы, излишней роскоши, долгов, интриг, страдающего самолюбия, пылких надежд и унижений, испытываемых и проглатываемых им ежедневно. Его глаза, глубоко запавшие, с беспокойством перебегали с одного предмета на другой; его губы, казалось, готовы были всегда сладко улыбаться, иронизировать или нервно сжиматься; вся его фигура казалась изломанной, как у акробата, привыкшего свиваться в клубок или вытягиваться в струнку.
Едва он вошел в переднюю, как сейчас осмотрел всех, повернулся на каблуке и, точно кто его толкнул, сразу очутился подле Симониса; взяв его за пуговицу сюртука, он нагнулся к нему на ухо и, приподняв одну ногу, шепнул:
– Господин Симонис!.. По приказанию его величества я должен с вами переговорить; пожалуйте в сад.
Затем, поклонившись слегка, он отрекомендовался Максу – камергер его королевского величества, барон Пельниц, к вашим услугам.
Проживая почти целый год в Берлине и постоянно вращаясь между людьми, знающими двор, Симонис не мог не знать, кто такой Пельниц.
Это был всем известный человек, над которым король безжалостно шутил и издевался; барон служил посмешищем для всех; несмотря на это, король позволял ему быть постоянно при себе.
Небезынтересна история этой личности. Он представлял собой образец совершеннейшего раболепства, рядом с которым шли дерзость, нахальство и цинизм, в которых он чувствовал себя сильным. Пельниц был значительно старше короля; он был внуком известного в свое время министра, генерала и коменданта города Берлина, командира гвардейского полка и т. д., – и графини де Нассау, побочной дочери принца Маврикия, наместника Нидерландского. Отец его был полковником, он же сам начал службу с камер-юнкера. Затем, лишившись должности, он отправился путешествовать и издал за это время свои письма и мемуары о немецких дворах. В царствование Фридриха II он получил звание камергера, но король обходился с ним как с мальчишкой.
По мнению Фридриха это был бесчестный человек, которому нельзя было доверять, и единственной его заслугой было – умение смешить всех за обедом, но больше он ни на что не был способен.
Однажды Фридрих поручил ему выписать каких-то индейских кур. Пельниц охотно взялся исполнить поручение и, желая блеснуть своим остроумием, что было его слабостью, написал к королю четыре слова:
«Это „куры” вашего величества».
В ответ на это остроумие король приказал купить самого худого быка, вызолотить ему рога и затем привязать его к воротам дома Пельница, с надписью на лбу: «Это бык Пельниц».
За несколько лет до того барон Пельниц, бывший всегда в долгах и искавший легкой наживы, разыскал какую-то вдову-католичку в Нюрнберге, на которой пожелал жениться. Он обратился к королю с просьбой позволить ему выйти в отставку и разрешить сочетаться браком. Но так как для этого нужно было свидетельство, то Фридрих приказал ему сесть и продиктовал следующие, характеризующие короля и камергера, слова.
Эти слова достойны внимания.
«Мы, Фридрих II и т. д., оповещаем всех, кому ведать о том надлежит, что барон фон Пельниц, уроженец Берлина, насколько нам известно, происходит от благородных родителей, служил деду нашему, – вечная ему память, – в звании камер-юнкера, у герцогини Орлеанской – в том же звании, у короля испанского – в должности полковника; у недавно скончавшегося императора – в должности ротмистра; у папы – в звании камергера, у герцога Брауншвейгского – в том же звании, у герцога Веймарского – хорунжим; у отца нашего, в Бозе почивающего – в звании камергера, а у нас в качестве церемониймейстера. Когда потоком этих почестей военных и высоких достоинств при дворах, по очереди на него возлагаемых, Пельниц почувствовал себя совершенно удовлетворенным, и наконец разочарованный светом и зараженный дурным примером камергера Монталье, который, немного раньше него, сбежал от двора, поименованный барон Пельниц просил у нас и нижайше умолял, чтобы мы, для поддержания его доброй славы и имени, добросовестную и милостивую дали ему отставку.
Чего ради мы, принимая во внимание его просьбу, признали справедливым не отказывать ему в выдаче аттестата, каковой он просил ему составить, находя важными его услуги, каковые он исполнял при нашем дворе в качестве развлекателя и шута, который смешил и развлекал покойного нашего отца в день нового года; за все эти заслуги – свидетельствуем, что в продолжение всего времени, когда барон служил нам, ни разу не случалось, чтобы он бесчинствовал в гостиницах, снимал с возов мешки или приготовлял яд; не похитил ни одной девицы, так же как и не употребил ни над одной насилия и не нарушил грубо ничьей чести при нашем дворе; никого не оскорблял и всегда поступал, как подобает дворянину; а дарования, которыми он был богато награжден свыше, применял всегда с пользой, принимая за основание своего дарования цель, присущую комедиантам, которая состояла именно в том, чтобы осмеивать смешные стороны людей в веселой и приятной форме и тем исправлять их.
Равно, по совету Бахуса, относительно умеренности и воздержания, он всегда вел себя хорошо; христианскую любовь ценил высоко и умел ее вселять другим, так что мог убедить даже крестьян в следующем непреложном евангельском законе: „лучше давать, чем брать”.
Кроме того, он знает все анекдоты о наших замках и садах, а в особенности с неподражаемой верностью сохраняет в памяти громадный инвентарь всякой археологический, наконец, умел быть любезным и полезным своими заслугами даже для тех, которые, в равной степени, знали его злой язык, как и доброе сердце.
В виду вышесказанного, поименованному барону даем еще свидетельство в том, что он ни разу не довел нас до гнева, исключая только разве случаев, когда своим подлым нахальством, превзошедшим всякие границы приличия, низко и гадко хотел обесчестить и посмеяться над прахом предков наших.
Но так как в самой прекрасной стране случаются бесплодные и пустынные земли, самое здоровое тело имеет свои недостатки, а картины известнейших художников изобилуют промахами, то потому поименованному барону мы хотим простить его ошибки и шутовство, и даем ему сию, хотя и неохотно, согласно его желанию, отставку, а данное ему звание шута совершенно уничтожаем, ради того, чтобы после поименованного барона никто уже не мог занять этой должности, в надежде, что никто ее лучше исполнить не может.
Потсдам, апреля 1-го числа, 1744 года».
Получив такой нелестный аттестат, барон уехал в Нюрнберг и перешел в католическую веру; вдова, по прошествии некоторого времени, раздумала и отказалась выйти за него замуж. Он потерял все, что имел, и возвратился в Берлин, с целью упросить короля снова принять его на службу и предлагая вторично перейти в протестантизм. Фридрих II велел ему ответить, что он не согласен возвратить ему прежних достоинств из-за перехода в протестантскую веру, но что если барон согласен принять мусульманскую веру и подвергнуться должному при этом обряду, тогда король готов принять его на службу.
Несмотря на это, Пельниц все-таки был принят на следующих условиях, на которые он и согласился: на всех улицах Берлина должно быть оглашено, при звуке труб и барабанов, чтобы никто не смел ссужать барона хотя бы самой ничтожной суммой, или давать ему что-либо в кредит и отпускать товары, под страхом быть оштрафованным на сумму сто червонцев. Затем Пельницу было запрещено посещать иностранные посольства, так же как и встречаться в других домах с иностранными послами и сообщать им что бы то ни было из разговоров с королем. Наконец, приглашенный к обеду, он должен был стараться быть веселым и не казаться таким, как будто ему женщина поставила рога.
Король знал, что Пельниц где-то открыто выразился, что лучше служить свиньям, чем… а потому посоветовал ему отправиться искать счастья в Вестфалии; в результате же платил за него долги, держал его при себе и забавлялся им. Однажды, когда он просил короля о пособии, он приказал отвезти к барону мешок овса и высыпать на пол в его комнате…
В свое время Пельниц играл важную роль при дворе и, потому что позволял трунить над собой, был всеми любим. Однако он не был лишен способностей, только, к сожалению, был бесхарактерен и им помыкали, кто как хотел.
Смотря на Симониса, он щурил глаза, зная заранее, чего добивается этот молодой человек.
Они вышли на террасу перед дворцом, на которой в это время никого не было.
– Кавалер де Симонис, так, кажется? – начал он. – Король поручил мне дать вам инструкцию относительно саксонского двора. Его величеству известно, что тайны этого двора, могу сказать вам, даже всех дворов в Европе, никому так хорошо не известны, как мне. Но скажите, пожалуйста, чем вы думаете заняться при саксонском дворе?
Симонис сразу сообразил, что он не должен быть очень откровенным, потому что у Пельница был слишком длинный язык и широкий рот, в котором ничто не могло удержаться.
– Это легко угадать, господин камергер, стоит только на меня взглянуть… Ищу счастия и хочу служить.
Пельниц окинул его взглядом с головы до ног.
– Понимаю, вы красивы и молоды. Гм!.. При Августе Втором вы могли бы там сделать свою карьеру. А теперь… разве понравитесь госпоже Брюль; но это Минотавр, – живо прибавил он, – и живьем съедает, кто только попадет в ее пасть.
Симонис улыбнулся.
– Королева, – продолжал он, – некрасива, как смертный грех, и благочестива до безумия… Но теперь женщины там не управляют… там одни только Гуарини и Брюль… Сказать по правде, Брюль – курфюрст саксонский, король польский, великий князь литовский и т. д., и т. д. Брюль царствует… Но… не хотите ли вы явиться в числе конкурентов на освободившуюся вакансию одного из секретарей Брюля? Как кажется, один из них был поставлен к позорному столбу, но затем помилован и заключен пожизненно в Кенигштейне… Хотите знать, за что?
И он, нагнувшись к уху Макса, продолжал:
– Все секретари министра одновременно и любовники его жены… Этот изменил ей, влюбившись в ее служанку, а потому был наказан.
Симонис немного растерялся, но постарался улыбнуться.
– Я вовсе не рассчитываю, господин барон, на такую высокую вакансию и даже не желаю ее занимать. Я доволен буду меньшим, самым скромным.
– Как найдете нужным, так и поступайте, – продолжал Пельниц; – но я вам должен дать ключ ко всему. Старайтесь войти в милость к Брюлю. Для этого есть различные средства… И он любит молодых людей… даже очень любит, как говорят. Если он убедится в вашей верности, то может устроить вас при короле. С тех пор как короля оставила его любимая дочь, вышедшая замуж за баварского короля, ему не с кем проводить послеобеденное время. Почем знать?.. Быть может, он проявит свою милость к вам.
Сказав это, камергер заложил руки в карманы и прошелся несколько раз по террасе. Затем снова встал напротив Симониса и, оглянувшись кругом, обратился к нему, понижая голос:
– Насколько я мог заметить, вы имели счастье понравиться королю, так как Алькмена дала вам лучшую аттестацию, взобравшись к вам на колени… Но странно, почему бы вас не оставить здесь, при нашем дворе?.. Гм! Меня удивляет, что его королевское величество сам вас гонит отсюда в Саксонию. Гм!.. Это что-то непонятно…
Испугавшись этого предположения, Симонис быстро прервал:
– Я сам решил уже давно ехать в Саксонию… У меня там есть родственник, советник Аммон… Меня никто туда не посылает, я сам еду туда.
Барон, снисходительно улыбаясь, посмотрел на Симониса и затем сделал ему знак сойти с террасы, где никто не мог их подслушать.
– Король недоволен ни Бегуелином, ни Аммоном, и счастье положительно само просится к вам в руки… Король находит, что они не сообщают ему обо всем подробно, а за Саксонией нужно присматривать. Брюль человек двуличный. Откровенными письмами оттуда вы можете сделать себе карьеру…
Затем он взглянул ему в глаза. Симонис решил, что ему следует обидеться, чтобы не выдать своей тайны…
– Извините, господин барон, – прервал он, принимая вид оскорбленного, – ни принять должность шпиона, ни исполнить ее я не сумею.
Пельниц разразился смехом.
В это время в передней дворца послышался шум, точно там случилось что-нибудь необыкновенное, а так как барон Пельниц был очень любопытен, то поторопился возвратиться во дворец вместе с Симонисом.
В аллее, ведущей ко дворцу, показался придворный экипаж, с гайдуками в парадной ливрее и запряженный лучшими лошадьми; упряжь искрилась и блестела от позолоты. Очевидно, к королю ехали какие-то гости.
Король, по-видимому, уже заметил из аудиенционного зала этот поезд, и скоро раздался его гневный голос, между тем как экипаж приближался к крыльцу:
– Кто послал за этими двумя римскими прелатами? – крикнул он.
Все молчали; наконец старый генерал Лентулус, стоявший в стороне, ответил:
– Это я, ваше величество!
Видно было, как Фридрих, с поднятой палкой, бросился к Лентулусу, который вытянулся перед ним в струнку.
– Вы – осел, осел! – кричал король. – Понимаете, вы старый осел!
И он ударил своей палкой по полу, от чего все собаки подняли страшный лай.
– По приезде прелатов, – прибавил Фридрих, – вы сами пойдете отпрягать лошадей и убирать экипаж, а для этих прелатов прикажите запрячь пару старых, хромых одров в оборванные дрожки… И этого довольно для них… Понимаете?
Поклонившись, Лентулус удалился. В то же время вошли два римских прелата в своих фиолетовых мантиях, с крестами на груди и с плащами, перекинутыми через руку. За ними тотчас закрылись двери.
Разговор их с королем никому не был известен, но спустя час, по окончании аудиенции, они вышли на крыльцо и были поражены рваным экипажем, который их ожидал. Лентулус провожал их…
Монсеньоры спросили с замешательством о причине такой перемены.
Генерал принял серьезный вид и ответил:
– Это традиционный этикет нашего двора: привозим парадно, а отвозим на извозчике. Этикет этот никогда и ни для кого не изменяется.
Во время этого происшествия барон Пельниц исчез, а Симонис занял свое прежнее место в углу передней, рядом с Мальшицким; он не знал, ждать ли ему дольше или же Пельниц своим уходом хотел сказать, что он тоже может уходить; но он счел лучшим ошибиться и воспользоваться случаем, чтобы лучше присмотреться к этому двору.
Предчувствие его не обмануло: не прошло и получаса, как в переднюю вошел Фредерсдорф, отыскивая его глазами; он поклонился и велел ему идти за собой.
Они молча спустились по лестнице и вошли в скромно убранную комнату, канцелярию барона, отсюда – в более скромную маленькую комнату, его кабинет.
Затворив предварительно дверь, Фредерсдорф начал:
– Его величество рассказал мне о встрече с вами в саду. Счастье сопутствует вам, и я могу сообщить вам, что вы произвели на него хорошее впечатление. Кажется, собаки испортили там вашу шляпу… Король желает вознаградить вашу потерю, а вместе с тем и помочь достижению вашей карьеры… он приказал снабдить вас маленькой суммой на дорогу.
При этом Фредерсдорф вынул из ящика своего письменного стола сверток золота, завернутый в бумагу, и сунул его в руку Симониса.
– Его величество желает, однако, – прибавил он, – чтобы вы об этом никому не говорили. Мы очень расчетливы и экономны, а это может послужить поводом для других подбрасывать нарочно свои шляпы Алькмене.
И казнохранитель рассмеялся:
– Теперь можете идти вниз, уважаемый кавалер, – пообедать с пажами и отправиться в Берлин… Надеюсь, вы еще побываете у графини до вашего отъезда, а потому прошу передать ей мой нижайший поклон… Воспользуйтесь ее умными советами и поступайте соответственно.
Симонис низко поклонился и сошел вниз к Мальшицкому. Обеденный час во дворце уже приближался. Для пажей накрыли стол в соседней с передней комнате. Обед был очень скромный, так как во дворце во всем соблюдалась экономия. После обеда, когда король обыкновенно занимался чтением, Макс ушел из дворца. Выйдя на улицу, он не знал, как возвратиться в Берлин.
III
В тот же вечер наш молодой карьерист, почистившись немного и освежив парик, поспешил в «раек» четвертого этажа к графине де Камас… Последняя, казалось, ждала его… Когда он вошел, графиня пошепталась о чем-то с пришедшей к ней какой-то придворной дамой, которая сейчас же оставила ее.
Старушка торопливо подошла к Симонису.
– Ну, говорите обо всем… Были вы в Сан-Суси? Ну и что же? – спросила она… – Говорите все…
Симонис и не думал скрываться перед той, которой он был всем обязан, и весело рассказал графине все, что с ним случилось в Сан-Суси.
Не упустив из вида ни малейшей подробности и обладая даром рассказчика, Симонис доставил ей большое удовольствие; графиню в особенности обрадовала счастливая случайность с собаками…
– Вы чрезвычайно удачливы, – смеясь сказала она, – что попали в такое хорошее время… Король не всегда бывает в таком хорошем настроении… А ведь вы могли нарваться и на что-нибудь гораздо худшее… Итак, поздравляю вас с победой, а равно с тем, что вы познакомились с Пельницем, который умеет смешить, но полезным никому быть не может… Теперь, – прибавила она, подвигаясь ближе, – поговорим серьезно. Так как молодые люди по большей части нерасчетливы, а новые знакомства дорого стоят, то я считаю не лишним сделать вам небольшое одолжение… но вам не придется возвращать мне эту сумму… Вы заслужите ее письмами ко мне, которые будете писать каждую неделю. Все письма ваши передавайте Бегуелину, а он уж мне их перешлет. Я, как пожилая женщина, не имея никакого занятия, очень любопытна… меня все интересует… Итак, пишите ко мне обо всем, все, что увидите, услышите и даже почувствуете в воздухе… обо всем сообщайте… Около Брюля и его жены вертится много молодых людей… если б и вы могли втереться к ним, познакомиться с графиней Мошинской, сойтись поближе с любимцами министра, то это бы вам очень пригодилось. Для начала, пока еще ничего не сделано, вы можете познакомиться с служащими в канцелярии министра в качестве любознательного иностранца и молодого человека, желающего повеселиться… Об этом вы мне тоже должны подробно написать… Ведь вы меня понимаете?
Старушка, по выражению глаз, видела, что Симонис прекрасно понимает свое назначение: глаза его блестели от радости. Однако ему казалось, что он еще должен убедить в этом графиню.
– Я отлично понимаю, графиня, – отвечал он, – что самая мельчайшая вещь, необдуманно сказанное слово, может иметь значение. Разузнать по возможности больше, хотя бы это даже были сплетни, и передавать их вам, словом, все, что только я услышу… это будет первой моей обязанностью.
– Но запомните раз навсегда, – прибавила графиня понижая голос, – что от мужчины вы больше всего можете узнать за бутылкой вина, а от женщин, – когда какая-нибудь в вас влюбится.
Скромничая, Симонис опустил глаза.
– Не стыдитесь, – смеясь продолжала графиня, – вы молоды, красивы, остроумны; умеете держать себя в обществе; и меня бы нисколько не удивило, если бы в вас там кто-нибудь влюбился… Саксонские барыни не забывают времен Августа Второго. Не нужно только с ними серьезничать, так как они ничего серьезного не любят. Для вас, так же как и для них, это должно служить только развлечением, из которого умный человек должен извлекать пользу.
Симонис сразу понял это и обещал примениться ко всему.
Графиня вынула из-под маленького пресс-папье два письма, приготовленные заранее, и подвинула их к Максу.
– Одно из них, – сказала она, – отдайте вашему соотечественнику Бегуелину, а другое – моей старой приятельнице, баронессе Ностиц, фамилия которой хотя и происходит из Саксонии, но она родилась в Берлине и всей душой предана нашему бранденбургскому двору. Это уже не молодая женщина, но вы найдете у нее радушный прием, и она может давать вам полезные советы; оба письма вам пригодятся…
Старушка на мгновение замолкла и призадумалась, как бы припоминая, о чем еще следовало сообщить, а затем продолжала, повышая голос:
– Итак, желаю вам всего хорошего… будьте здоровы, молодой человек; исполняйте аккуратно ваши обязанности. Желаю – и я уверена, – что вам повезет при саксонском дворе… Если окажется возможным попасть ко двору Брюля при помощи баронессы Ностиц, то не упускайте этого случая… Уезжайте поскорее… если возможно, то завтра же… потому что оттуда доносятся различные странные слухи (при этом она понизила голос); говорят, что Брюль заключает против нас союз с Австрией. Нужно бы разузнать истину… Письма пишите смело, но почте не доверяйтесь; Бегуелин найдет средство… Прощайте!
И старушка подала ему руку, которую юноша с глубоким почтением поцеловал несколько раз, выражая ей всю свою благодарность.
Выйдя на улицу и мысленно подводя итог своим деньгам, которые у него еще были в запасе, затем сколько ему дали король и графиня, Макс нашел себя настолько богатым, что даже голова у него закружилась. Заплатив хозяину с излишком и сделав прекрасный подарок Шарлоте, он имел еще более трехсот золотых и способность делать большие дела на малые деньги. Молодой человек с редкой рассудительностью, когда оказывалось нужным блеснуть великодушием, швырял золото повсюду; но в обыденной жизни он умел жить больше на чужой, чем на свой счет…
Оставалось только собрать вещи, попрощаться с квартирным хозяином и найти подводу, которая доставила бы его в саксонскую столицу.
Вернувшись домой вечером, он уже застал всех спящими и поэтому тихонько проскользнул в свою комнату. Пришлось зажечь свечу, что в то время было не так легко, потому что не у каждого порядочного человека обыкновенно был огонь в камине, огниво и серные спички, от которых зажигали трубку. Таким образом де Симонис, не желая обращаться каждый раз к соседям из-за одной искры, добывал огонь посредством трута… Отбив впотьмах руки об огниво, он зажег, наконец, серную спичку, а затем свечу. Ему предстояло еще много работы, так что спать ему было некогда, да и не хотелось.
Больше всего его мучило одно обстоятельство: на столе лежали два рекомендательных письма, к Бегуелину и баронессе Ностиц. Он сгорал от любопытства узнать, что в этих письмах говорится о нем. В сущности, он не совсем понимал, в чем будут состоять его обязанности, и ему хотелось поскорее выяснить это. Он отлично понимал, что вскрыть эти письма больше чем невежливо; нарушение печати заслуживает даже наказания, как за уголовное преступление, но Симонис не был настолько щепетилен, а любопытство узнать их содержание все больше разгоралось.
Он несколько раз уже брал их со стола, осматривал, смотрел на них, держа против свечи, но каждый раз со страхом клал их опять на стол. Через минуту искушение опять овладевало им, и он снова протягивал к ним руку и рассматривал со всех сторон. На письмах наложена была печать графини де Камас, которая, по-видимому, торопилась, отчего рисунок печати вышел не очень отчетливо. Изображение печати состояло из какого-то герба, похожего с перстнем де Симониса, доставшегося ему после смерти отца. Примерив его, он решил, что, отогрев немного сургуч, он легко мог вскрыть письма, а затем снова запечатать их своею печатью. Неясность печати легко могла быть объяснима продолжительной дорогой, горячим желанием держать их при себе в кармане, как драгоценность, которую он обязан был хранить, да и, наконец, много других причин. Примирившись с совестью, он приступил к исполнению смелого замысла. Затворив двери своей комнаты на задвижку, он принялся дрожащими руками за преступное дело.
Сначала он слегка согрел печать на письме к Бегуелину, в котором он ожидал найти поручения графини относительно себя… Но каково было его удивление, когда, вместо письма, он нашел только клочок желтой бумаги, вложенный в чистый лист, и на этом клочке стояли непонятные для него цифры, разделенные точками: 64. – 871. – 55. – 2. и т. п.
Это была шифрованная депеша, очевидно, из королевского кабинета, при виде которой Симонис побледнел… Затем он дрожащими руками снова вложил эту записку в тот же лист бумаги и неловко запечатал письмо. Единственной пользой от вскрытия письма было то, что он, действительно, был послан в качестве посла. Письмо к баронессе он уже не решался распечатать. Вложив оба письма в бумажник, он положил их печатями друг к другу, так чтобы они могли согреться от его тела, слипнуться и тем изгладить его преступление по отношению к одному письму.
Затем он потушил свечу и прилег, конечно, не ради сна, а только чтобы хоть сколько-нибудь отдохнуть.
Первый утренний шум в доме разбудил его. Он наскоро оделся и заявил, что хочет видеться с хозяином.
Отец Шарлоты, Керони, дела которого шли отлично, поскольку он весь предан был своей специальности и не обращал внимания на претензии булочников; кроме сладостей он приготовлял разных сортов булочки и хлеб, которым умел придавать необыкновенно привлекательный вид. Несмотря на свои пятьдесят лет, он был свеж; его румяное лицо лоснилось, и губы всегда улыбались. Трудолюбивый, разговорчивый и не особенно дальновидный, но очень практичный, он любил Симониса; его жена тоже любила юношу, но больше всех любила его единственная дочь Шарлота, для которой Симонис был первой любовью, хотя и преждевременной. Вообще Симонис был любимцем всего дома, в том числе и прислуги, с которой он всегда был вежлив, и вследствие этого ему здесь жилось не хуже, чем дома.
Карл Керони, именем которого называлась его дочь, был мастером своего дела и хлопотал у окна насчет выставки лучших своих произведений, чтобы больше привлечь публики; в эту минуту вошел Симонис, который никогда в этот час не приходил сюда.
Карл, улыбаясь, подал ему руку.
– Вот уже второе утро вы встаете очень рано… Зачем это? – спросил он. – Вы, верно, предпринимаете какое-то очень важное дело, господин Макс? Чуть свет вчера отправились на какую-то прогулку и с нами не обедали, а обед был отличный.
При этом он погладил себя по животу.
Симонис, воспользовавшись минутой, когда мальчики стирали пыль на окне, отвел Карла в сторону.
– Дорогой мой хозяин, – начал он, – хотя мне очень неприятно, но я пришел вам сообщить, что я должен расстаться с вами.
Хозяин даже попятился назад…
– Разве вам у нас нехорошо? По какой причине? – спросил он.
– Хорошо, как в раю… но сложа руки, я больше не могу сидеть; нужно о себе подумать… года идут… а здесь я ничего не добьюсь.
Карл с удивлением посмотрел на него.
– Итак, куда же вы?
– В Саксонию… туда я имею письмо с поручениями.
Хозяин покачал головой.
– Удерживать трудно, – сказал он, – а советовать – не хочется. Я знаю Саксонию… Там легко сделать карьеру, это верно, но еще легче, по малейшему подозрению, попасть в тюрьму; а за какое-нибудь неосторожное слово – к позорному столбу.
Он помолчал и затем прибавил:
– Разве что вы имеете письмо к Брюлю, который там всемогущ и один всем управляет; никого нет выше него.
– Как-нибудь уж я там устроюсь!.. – ответил Симонис, не желая проговориться.
Карл вздохнул.
– Но это опасная игра, и много людей погибло в Саксонии, – прибавил он тихо, – там происходят странные вещи… Если б еще у вас была рекомендация от прусского двора…
И он отвернулся к мальчишкам, которых начал бранить, как видно ему не хотелось расставаться с Симонисом, который не только аккуратно платил за стол и квартиру, но, кроме того, писал за него письма и забавлял своим разговором жену и дочь в ненастную погоду.
Симонис придал своему лицу грустное выражение.
– Не можете ли вы мне посоветовать, – спросил он после короткого молчания, – каким образом добраться до Дрездена подешевле?
– Справьтесь в гостинице, в Юденгассе; туда часто ездят купцы, – ответил Карл. – Разве вам к спеху?
– Даже очень… Тороплюсь.
Карл снова покачал головой и, как бы не желая больше говорить о том, начал бранить прислугу и бегать из одной комнаты в другую.
Предупредив хозяина, Макс отправился в Юденгассе, чтобы узнать, нельзя ли как-нибудь поехать вместе с купцами. Указание хозяина оказалось верным. Через час он уже нашел большой дорожный тарантас, в котором собиралось ехать довольно разнообразное общество. Заплатив задаток, он обещал явиться на постоялый двор около полудня.
Упаковка вещей заняла немного времени; по дороге домой он купил серьги с бирюзовыми незабудками в подарок Шарлоте, и не больше как через час был уже готов к отъезду.
Симонис уже застегивал чемодан, как вдруг послышался стук в дверь, и в комнату вошла Шарлота; брови ее были нахмурены, и она казалась сердитой. Девочка пригласила его к обеду и, вместо того, чтобы после приглашения удалиться, она почти со слезами на глазах начала рассматривать хорошо ей знакомую комнату.
По выражению ее лица Симонис легко догадался, что она недовольна его отъездом.
– Прелестная Шарлота, – обратился он к ней, – я не мог бы уехать, не оставив вам что-нибудь на память… не откажитесь принять от меня эту безделушку.
Причем Макс вежливо поклонился и подал ей футлярчик с сережками. Влюбленное дитя покраснело до ушей и с гневом оттолкнуло подарок; затем она значительно посмотрела на него; на глазах навернулись крупные слезинки, и она отошла к дверям.
Но тотчас, как бы обдумав свой поступок, она вернулась к Максу.
– Я вас и так не забуду, – проговорила она, почти рыдая, – но вы…
Такая привязанность тронула Симониса, и он подошел к ней; Шарлота бросилась к нему на шею и залилась горючими слезами.
Сцена эта ужасно не понравилась Максу, считавшему Шарлоту еще совершенным ребенком; ему стыдно было за возбужденное им в ней чувство любви. Он мог бы нарваться на неприятность, если б в это время мать не позвала Шарлоту.
Девочка бросилась к дверям, отирая слезы, и когда мать удалилась в свою комнату, она взглядом простилась с Симонисом и побежала вниз.
За обедом хозяин велел подать бутылку вина, которое и было выпито за здоровье дорогого соотечественника. С Симониса взяли слово, что если ему не повезет в Саксонии, то он вернется к ним. Когда настал час отъезда, Карл снял с себя передник, надел сюртук, приказал мальчишкам взять узел и чемодан Симониса и, взяв шляпу и палку, проводил своего жильца на постоялый двор, чтоб сдать его на руки вознице.
В дверях стояли жена Карла и Шарлота; они долго еще прощались с ним, махая платками, пока наконец Симонис скрылся из виду.
В гостинице уже ожидали тощие клячи, долженствовавшие довезти путешественников до другой столицы. Старинный тарантас скорее был похож на ящик громадных размеров, положенный на двух длинных жердях, заменяющих рессоры; он был завешан кожаными занавесками и имел четыре места: два спереди и два – сзади; рядом с кучером было еще одно. Кроме того, для невзыскательных было еще два места: сзади на доске, к которой был привязан мешок с сеном вместо сиденья, да на двух широких ступеньках могли еще поместиться два не очень объемистых пассажира.
Когда Макс шел к гостинице, то кучер уже упаковывал узлы и чемоданы пассажиров, которых было четверо, кроме нашего швейцарца.
Общество состояло из трех мужчин и одной женщины. Последняя была сильно набелена, нарумянена и одета не без претензии на щегольство; судя по ее оживленным движениям, можно было заключить, что она принадлежала к разряду дам второй молодости, так как первой не было и следа.
Насколько можно было рассмотреть ее через вуаль, на ее лице лежал отпечаток многих лет, только одни черные глаза еще ярко блестели, а сжатые губы напоминали, что они в свое время, должно быть, были маленькие. Она раньше всех заняла самое удобное место в экипаже и обложила себя мешками; на коленях лежали платок и мешочек; дама эта почти ни на кого не обращала внимания и глубоко над чем-то задумалась.
Рядом с ней усаживался пожилой человек с провалившимися щеками, молчаливый и серьезный. Он опирался обеими руками на бамбуковую трость с золотым набалдашником. Третий пассажир, изъявивший желание ехать на козлах, за уменьшенную плату, по-видимому, принадлежал к отставным военным. Усы его были закручены и сильно нафабрены; верхняя одежда состояла из серого полотняного плаща. Он был громадного роста, широкоплечий и тоже молчаливый. Внутри, на переднем сиденье, рядом с Симонисом, должен был сидеть человек маленького роста, но чрезвычайно толстый. Его большой живот, казалось, был непосильным бременем, и он все время вытирал свое потное лицо, сопел и с трудом шевелился. Усевшись поудобнее, он с нетерпением ждал, когда тронется в путь этот ковчег, бранясь про себя по-немецки. Когда его вещи были уже уложены и ему нужно было сесть, то он не мог вскарабкаться без посторонней помощи, и Симонис, сжалившись над ним, протянул ему руку, за что был вознагражден самым любезным взглядом. Наконец он уселся; от грузной тяжести его экипаж даже наклонился в его сторону; остальные пассажиры переглянулись между собой, но приходилось мириться с этим положением.
Симонис дружески простился с добрым Карлом, который вытер свои глаза и торопливо отправился домой, чтобы не выдать мягкости своего сердца. Симонис завернулся в свой плащ и старался поставить свои ноги так, чтобы они не стесняли сидящей против него пассажирки. Наконец, Ноев ковчег тронулся и после больших усилий перевалился через порог конюшни, стуча, громыхая и качаясь, точно он намерен был развалиться.
Итак, де Симонис был на дороге к саксонской столице.
Подобное путешествие кроме дороговизны имело еще много других неудобств; а главное – продолжительность. Лошадей кормили два раза в день, кроме того, останавливались для отдыха еще раза четыре и на ночлег останавливались довольно рано, так что на поездку из Берлина нужно было потерять несколько дней. Притом дорога шла песками, глухими лесами и пустынями, никем не заселенными; не на чем было остановиться взгляду, кроме как на обгорелом сосновом лесу.
При страшной июльской жаре такое путешествие было невыносимо. Но нет худа без добра – так по крайней мере гласит пословица: путешественники, соединенные судьбою в этой трясучке на несколько дней, были принуждены познакомиться друг с другом.
Кавалер де Симонис, всегда осторожный, когда дело касалось его собственной шкуры, не торопился знакомиться, тем более что ему приказано было держать язык за зубами. Он всматривался, делал разные замечания, но сам, как улитка, прятался в собственную раковину, избегая любопытных взглядов своих соседей.
Его красивое лицо, должно быть, производило хорошее впечатление на его отцветшую соседку, напротив которой он сидел, так как он заметил, что она не спускала с него глаз, но когда они встречались взглядами, она как бы конфузилась и смотрела по сторонам дороги; должно быть, жара была причиной нескольких вздохов бывшей красавицы, с которой Симонис познакомился на второй день своего путешествия, подав ей стакан воды. С этой минуты она пожирала его глазами; казалось, не будь остальных двух свидетелей, разговор их начался бы гораздо раньше.
У господина, опиравшегося на бамбуковую трость, несмотря на его грязную рубашку, был на пальце драгоценный перстень с каким-то редким камнем; казалось, что он дал себе слово ни с кем не говорить. Постоянно задумчивый, он вздыхал, время от времени посматривал на свои часы луковицей, которые хранил на груди, и, наверное, все время смотрел бы на небо, если б его не закрывал кожаный потолок ковчега.
Толстый сосед Симониса в продолжение всей дороги не переставал есть и пить. Для этого у него стояла между короткими ногами корзинка с едой; наевшись досыта, он засыпал, склоняясь головой в сторону железного прута от занавески; прикасаясь к нему при каждом толчке экипажа, он неожиданно отскакивал; после этого он переваливался к плечу Симониса, тот терпеливо переносил тяжесть этой жирной туши, обильно выделявшей из себя тепло и сырость. Проснувшись, он рассказал без всякой церемонии историю своей жизни. Он был шорником или, точнее, имел шорную мастерскую в Берлине; дочь свою он выдал замуж за саксонского унтер-офицера в Дрездене. Еще до наступления первого вечера всем уже было известно, что он торопился на крестины своего внука и что его саксонский зять был бы золотой человек, если б не пьянствовал и не любил ссориться со всеми; что его Доротея была прелестная женщина, что он имел несколько тысяч талеров годового дохода, дом на берегу Шпрее, да кроме того, капитал в обороте, розданный в долг.
Зато от беззубого старика нельзя было добиться ни одного слова; видно было, что это общество не нравилось ему, и он открыто игнорировал его. Иногда он делал значительные гримасы, как бы желая сказать:
«Господи, какая шушера!.. Скоро ли я, наконец, вырвусь из этого чистилища?»
На второй день, во время остановки, Симонис уселся в тени деревьев, неподалеку от корчмы, не отличавшейся ни чистотой, ни вместительностью. Тут же появилась размалеванная красавица, и между ними незаметно завязался разговор. Макс вскоре узнал, что его спутницу звали мадемуазель Дори; что она состояла несколько лет тому назад в числе артисток французского театра в Дрездене; что имела в своей жизни большое несчастье и что возвращалась из Берлина, напрасно проездив туда для поступления на сцену, наконец, что она ехала в Дрезден к своим влиятельным и богатым покровителям и приятелям.
В свою очередь она старалась выспросить молодого человека, но он отделывался общими фразами. Она давала ему даже понять, что протекции, которой она пользуется, достаточно будет для двоих, если бы он в этом нуждался; на ее предложение Макс ответил вежливым поклоном. Он придерживался того правила, что ничем не следует пренебрегать, и старался извлечь из всего пользу.
Дори рассказывала с такими подробностями о саксонской столице, что трудно было усомниться в правдивости ее слов.
– Солдатам в Берлине хорошо, – говорила она, – но какой там может быть театр, когда его посещают только два батальона пехоты, да и те еще меняются. Половина из них совершенные невежды, ни слова не знают по-французски. Саксонский король и двор – это цивилизованные люди и ценители прекрасного…
По всему было видно, что она во всем разочаровалась, уезжая из Берлина; юноша только слушал ее, но с таким вниманием, что артистка пригласила его навестить ее в Дрездене и решительно заявила ему, что сама займется его судьбой.
– Когда Брюль был холост, – шепнула она, наклоняясь к самому уху Макса, – он любил меня и предлагал выдать меня замуж за одного красивого саксонца, но у меня тогда было совсем другое в голове… Разве я не могла рассчитывать тогда сделать, по крайней мере, такую же карьеру, как Барберини? Но… – И она кончила вздохом.
Пассажир, ехавший на козлах с кучером, беспрестанно болтал, не выпуская трубки изо рта. На второй день он объяснил, что едет в гости к шурину и что он прусский солдат. Вследствие раны ноги, получил отставку и маленькую пенсию, на которую жил с женой; притом будучи в состоянии работать, он не жаловался на свою судьбу.
По отрывкам из его разговоров с кучером Макс узнал, что он был большим поклонником Фридриха, и ему не раз приходилось испытывать тяжесть его палки.
Знаменитый Пфунд, без которого Фридрих никуда не ездил, считая его самым лучшим кучером, который только один раз опрокинул его, приходился родным братом экс-гренадеру, чем последний очень гордился. По его словам, этот Пфунд пользовался большим доверием Фридриха, и часто его протекция была сильнее советов министров и камергеров.
Путешественники не могли бы пожаловаться на особенную скуку в дороге, если б не старик, который всю дорогу сидел опершись на палку и презрительно молчал. Его молчание ужасно стесняло всех, и тем больше он становился антипатичным.
Толстый шорник, сидевший против него, больше всех был недоволен его молчанием и, приписывая подобное поведение аристократизму, мстил ему тем, что постоянно, как будто не нарочно, наступал ему на мозоли.
Наконец, под вечер, когда тучи начали заволакивать небо, вдали показался Дрезден. Мадемуазель Дори, с тревогой смотревшая на кожаный верх экипажа, который не мог бы защитить от дождя, сразу забыла об угрожающих тучках. Все радостно приветствовали город, кроме старика, остававшегося равнодушным.
Шорник на радостях выбросил на дорогу свою опустевшую корзину. У Симониса тоже как будто что-то зашевелилось в груди. Актриса шепнула ему, что лучшие минуты жизни она провела в этой столице. Кучер, его сосед, лошади, словом все как бы ожили. Даже экипаж как будто меньше скрипел.
Вскоре после этого тяжелый тарантас покатился по мостовой той части города, которая прежде называлась Старым городом, но со времени Августа Сильного переименована в Новую.
В этой части города стояла вызолоченная статуя покойного короля Августа (о которой саксонцы говорили, что ее нарочно поставили спиной к городу, чтобы Август уехал от них в Варшаву); отсюда видны были городские стены за Эльбой и великолепный мост, ведущий к дворцу. Вид был восхитительный; серые стены украшали зелень, деревья и цветы садов.
Налево от моста, на живописном месте, выше королевского дворца, красовались богатые дворцы и сады полновластного королевского министра – Брюля, его картинная галерея, беседки и знаменитая Брюлевская терраса. Вообще его резиденция считалась достойной короля и самой роскошной в Европе; Августу III было приятно, что его министр равнялся с королями и мог принимать коронованных особ.
На противоположной стороне стояла королевская католическая часовня в несколько этажей, не уступавшая по своей величине многим церквям, хоть и без колоколов.
В этом протестантском государстве нетерпимость еще не дошла до того, чтобы иноверцам не разрешать открыто сзывать на молитву свою паству. В данную минуту снимали леса с только что оконченного купола.
Пассажиры подъезжали к старому мосту; здесь уже городская жизнь была в полном разгаре. Множество мужчин, женщин, молодежи верхом, прислуги в ливреях, экипажей самых разнообразных моделей, с ливрейными лакеями и гайдуками на запятках, масса простого народу… все это ехало и шло из Старого города в Новый или обратно. Перед некоторыми экипажами бежали скороходы в пестрых костюмах, а перед другими – верховые; те и другие разгоняли толпы зевак…
Зрелище было оживленное, хотя и не веселое. Народ шел как бы молча, с грустным выражением лиц… так как придворная прислуга слишком много позволяла себе.
Экипаж путешественников остановился у моста для соблюдения таможенных формальностей и визирования паспортов, что заняло немало времени. Всем нужно было являться к коменданту. Молчавший всю дорогу старичок, исполнив эту формальность, нашел какого-то человека, который взял все его вещи, и, не простившись ни с кем из своих спутников, исчез.
Симонису кучер рекомендовал остановиться в какой-то подозрительной гостинице, с престранным названием; девица Дори тоже хотела там остановиться, чтобы быть под защитой Макса. Но Симонис заявил ей, что ему необходимо сейчас же отыскать для себя квартиру в частном доме; Дори то же самое имела в виду, но боялась остаться одна. Гостиница была непривлекательна, походила на харчевню и находилась почти за чертой города. Комната, которую занял Симонис, выходила окнами во двор, была тесной и с каким-то особенным неприятным запахом; но Макс решил, что на следующий же день он сбежит отсюда и от Дори.
Было еще не поздно; отдыхать в вонючей комнате не особенно приятно, к тому же соседство Дори не очень нравилось молодому человеку, а потому он предпочел, почистив платье, отправиться погулять. Симонис успел освоиться в незнакомом ему городе и благодаря этому скоро очутился в Старом городе. После Берлина саксонская столица показалась ему тесной; но так как она напоминала ему швейцарские города, то и произвела на него хорошее впечатление своим серьезным видом.
Он начал осматривать торговые ряды, не заботясь о том, за кого его могут принять дрезденцы, как вдруг мимо него пронесли носилки, на которые он сначала не обратил внимания; из носилок высунулась голова в седом парике, с черными глазами; сидящий в них старик дернул за шнурок, и носильщики остановились.
Симонис невольно оглянулся и, к величайшему удивлению, узнал в этом старике своего дядю Аммона, который смотрел на него с открытым ртом. Хоть Макс видел его всего один раз к жизни, но черты его лица врезались в его память, если не навсегда, то надолго. Часто забываются черты любимых лиц, но почти никогда тех, к которым затаена какая-нибудь злоба или обида.
Увидев это неприятное суровое лицо с выпуклыми глазами, белки которых были налиты кровью, Симонис попятился назад, отвернулся и хотел продолжать свой путь, но вдруг услышал его громовой голос позади себя:
– Макс! Макс! – кричал старик.
Нельзя было не остановиться; к тому же Симонис, быть может, был рад вторично заявить своему родственнику, что он вовсе не нуждается в нем. Нехотя, приложив руку к шляпе, он подошел к носилкам.
– Что ты здесь делаешь? – спросил советник. – Зачем ты сюда приехал?
Симонис помолчал немного и потом медленно ответил:
– Извините меня… но какое вы имеете право спрашивать меня об этом?
– Какое я имею право! – раздался грозный голос из носилок. – Какое право! Да как ты смеешь спрашивать меня, молокосос? Удивительная вещь!.. Он спрашивает меня о праве!..
– Господин советник, – холодно ответил юноша, делая ударение на его титуле и как бы желая дать понять, что он не считает его своим родственником, – после нашего первого и последнего разговора между нами не может быть ничего общего; я у вас ничего не прошу, даже не советуюсь, а потому и вы не имеете права спрашивать меня.
Сказав это, Макс поклонился и хотел уйти, но советник сделал знак носильщикам; дверцы носилок открылись, и старик, с шляпой под мышкой и с палкой в руках, бросился за удалявшимся племянником.
– Послушай, Макс… – закричал он, – не будь дураком!.. Если я жестоко обошелся с тобой, когда ты был у меня в первый раз, то это я делал ради твоей выгоды… Лучше скажи, что ты здесь делаешь?.. Говори, давно ли ты здесь?
– Я приехал всего только час тому назад и вижу, что мне в саксонской столице не посчастливится, так как на первом же шагу имел несчастие встретиться с вами.
Аммон стукнул палкой о землю и оперся на нее.
– Молокосос! – крикнул он. – Неужели ты думаешь, что если в Берлине ты не нашел счастья, то найдешь его здесь?.. Что ты покоришь его своим красивым лицом, плавной речью… Ошибаешься… Здесь тоже счастье не легко дается!.. Да и где оно? При дворе? У Брюля? У старух? Ты думаешь, что здесь лучше будет?
Симонис насмешливо улыбнулся.
Хотя ему не хотелось выдавать свой секрет, но желание жестоко отомстить своему родственнику победило.
Сделав вид, что последние слова Аммона к нему не относятся, он посмотрел на него с сожалением и, вложив одну руку в карман, начал медленно, сквозь зубы говорить:
– Я не ищу счастия и не гонюсь за ним… Я приехал по своим делам.
– Да будь я проклят, если у тебя есть здесь какие-нибудь дела! Но какие же это дела? Карманные… юбочные или…
– Это уж мое дело, – живо ответил Симонис, – но вы, господин советник, ставший мне поперек дороги, чтобы вторично выбранить, считая это единственной своей обязанностью в качестве родственника, вы, господин советник, могли бы мне оказать большую услугу, которая вам ничего бы не стоила…
Аммон как будто растерялся.
– Мне нужно знать адрес господина Бегуелина, с которым мне необходимо повидаться, – прибавил Симонис.
Бегуелин и Аммон оба были швейцарцы, но, несмотря на это, они ненавидели друг друга. Аммон считал себя начальником Бегуелина, а последний обходил его и имел непосредственное сношение с Берлином. Достаточно было произнести одно имя Бегуелина, чтобы возбудить в старике жгучее любопытство. Он даже подскочил.
– Зачем тебе Бегуелин, зачем? – нетерпеливо спросил советник.
– Это мое дело, мне только хотелось узнать его адрес.
Старик пристально посмотрел на своего племянника, плюнул в сторону, сморщил брови и, не сказав больше ни слова, возвратился к носилкам и велел нести себя к дворцу.
В ту же сторону пошел, не торопясь, и Симонис, довольный тем, что отомстил своему дяде.
На довольно узкой улице, ведущей к дворцу, было большое движение; все торопились на концерт, в театр, к королю. Носилки и экипажи направлялись в одну сторону, так что наш молодой герой имел возможность присмотреться к роскошным ливреям, парикам, лошадям и даже к красивым женским головкам, которые, время от времени, выглядывали из окон карет.
Среди этой толпы Симонис первый раз в жизни увидел восточные костюмы, каких он еще никогда не видал, и принимал польскую знать за каких-то посланников из экзотических стран.
Все они обращали внимание посторонних, которые любовались их богатыми нарядами, саблями и довольными лицами.
Макс остановился у стены какого-то дома и все свое внимание сосредоточил на проезжающих, не замечая, что в то же время другой, такой же зритель, только немного постарше стоял на противоположной стороне улицы, который пристально смотрел на него. Он несколько раз уже проходил мимо Макса, всматривался в его лицо, но как будто еще не был уверен, что он не обознался; наконец, он подошел к нему и поклонился.
Это был мужчина лет тридцати, не больше, одетый чрезвычайно нарядно: он был в надушенном парике, – отлично завитом, и в лиловом бархатном фраке на белой атласной подкладке. Чулки гладко обтягивали ноги, на которых были башмаки с серебряными пряжками и красными каблуками; одна белая перчатка была надета, а другую он держал в изнеженной белой руке. Словом, это был тип тогдашнего придворного франта.
В кружевах, украшавших грудь его сорочки, блестел крупный изумруд, окруженный бриллиантами.
Он прикоснулся к плечу задумавшегося Симониса.
– Пардон! Кажется, не ошибаюсь?.. Кавалер де Симонис?
Услышав свое имя, Макс вздрогнул и взглянул на стоящего перед ним человека.
– Боже!.. Какими судьбами! – воскликнул он. – Роберт Блюмли!
И они бросились друг другу в объятия.
– Откуда и каким образом? – посыпались вопросы.
Блюмли так же, как и Макс, был выходцем Бернского кантона, с той только разницей, что первый отправился из Швейцарии пешком, ничего не зная и даже не составив себе заранее никакого плана занятий. Оставляя свою родину, он обладал только молодостью и свежестью лица, как дитя гор, вскормленное ароматом альпийских трав и молоком от швейцарских стад. Он был весел, здоров, силен и даже красив; но красоту эту он израсходовал в придворной жизни, и она завяла, как цветок на берегу Эльбы.
Блюмли был старше Симониса всего на несколько лет.
– Судя по виду, дорогой Роберт, тебе отлично живется… – начал весело Макс, – ты выглядишь настоящим барином.
Блюмли как-то грустно улыбнулся.
– Не могу жаловаться, – тихо ответил он.
– Я очень счастлив, что встретился с тобой, – прибавил Симонис; – ты всегда был моим другом, и надеюсь, что и теперь не откажешься помочь путешествующему. Впрочем, я ни в чем больше не нуждаюсь, кроме ознакомления с городом и окрестностями… Однако судя по твоему наряду, ты собрался куда-нибудь на вечер… поэтому, пожалуйста, не стесняйся; завтра увидимся.
– Ничуть не бывало, – ответил Блюмли, – я возвращаюсь с концерта и хотел подышать свежим воздухом; до одиннадцати часов я свободен, и поэтому мы отправимся ко мне и там поболтаем по душе!
Неподалеку от них стояли носилки Блюмли. Последний приказал носильщикам найти другие для Симониса, так как он жил в Пирнайском предместье. Сев в первый раз в жизни в носилки, юноша вздохнул свободно, радуясь, что встретил своего бывшего приятеля. Однако же обдумав свое положение, он решил не проговариваться даже перед Блюмли.
Выбравшись из города, носилки могли поравняться; носильщики были опытные, шли ровно, и поэтому друзья могли беседовать по-французски, не опасаясь быть подслушанными. Оба они вспоминали о своем отечестве и больше говорили о Берне и своем детстве, проведенном под снежными Альпами, чем о Саксонии и настоящем.
Носилки остановились у ворот красивого дома; носильщик позвонил; ворота открылись, и их донесли до лестницы, где уже ждали два лакея. Блюмли взял своего друга под руку и повел наверх.
Симониса все это удивляло.
– Не женат? – спросил он, осматривая свой дорожный костюм.
Блюмли отрицательно покачал головой и рассмеялся.
– Бог миловал, – вздыхая ответил он.
Двери отворились, и они вошли в просторный зал, очень красиво убранный, по пословице: «какой барин, такие слуги». От него они заимствуют все и принимают даже его физиономию. Так при Августе Сильном роскошь, блеск и избыток вошли в моду и у саксонцев. Двор искал любовных похождений так же, как и король, тратил много денег и любил своего властелина настолько, насколько мог ему подражать. Его сын перенял от него любовь к роскоши, веселью, балам и охоте. Брюль тратил больше всех, несмотря на это, он оставил после себя несколько миллионов. Его свиту считали сотнями, а Геннике, начавший свою службу с должности лакея, впоследствии иначе не ездил, как с четырьмя лакеями. Самые мелкие чиновники и те стремились к роскоши; они щеголяли одеждой, старинным фарфором и ценными безделками…
Таким образом, жизнь при дворе прусского короля представляла резкую противоположность жизни Августа. У Фридриха II никогда не было даже полудюжины рубах: он ходил в грязном белье и старых сапогах. В торжественные дни зажигались свечи только в той зале, где были гости, а когда они переходили в другую, то та освещалась, а в первой свечи тушились, вследствие чего на свадьбе одной из принцесс гостям пришлось довольно долго стоять в потемках. В боковых залах зажигали только по одной свечке; во всем остальном соблюдалась такая же экономия; зато в кассе, на случай войны, лежало семьдесят шесть миллионов талеров, и Фридрих II во время Семилетней войны хоть и переплавил часть серебра на деньги и выпустил фальшивые талеры, но ни у кого не одолжался и никому не был должен… Стол, одежда, содержание двора, все было у него рассчитано. На просматриваемых им счетах он расписывался и делал на полях надписи, чтобы, по его выражению, канальи не крали! Имея такой пример перед глазами, двор привыкал к расчетливости, тем более что и жалованье получалось самое скромное.
В Саксонии же, где Брюль жил по-царски и где одно оперное представление иногда обходилось в сто тысяч талеров, всем хотелось подражать королю и Брюлю, каждый чувствовал потребность в роскоши. А в то именно время, с которого начинается это повествование, в Саксонии была замечательная опера и всего 15 тысяч войска, тогда как в Пруссии театр был мизерный и туда ходили только солдаты, но зато было 150 тысяч под ружьем. Саксония была по уши в долгах, а Пруссия имела наличный капитал.
После скромной квартиры в Берлине помещение такого маленького человека, как Блюмли, в высшей степени поражало Симониса. Два лакея постоянно вертелись по комнатам с удобной, мягкой мебелью, отличным освещением, зеркалами, дорогим фаянсом, картинами; словом, все говорило о достатке, если не богатстве. Лакеи являлись по первому зову; хотя комнаты не особенно были велики, зато имели вид самого теплого гнездышка. Симонис оглядывался, точно он неожиданно попал в заколдованный замок.
– Это твоя квартира? – спросил он своего соотечественника.
Блюмли не переставал грустно улыбаться; его лицо выражало скорее утомление, нежели счастье.
– Да, эта квартира моя, и все, что ты видишь в ней, принадлежит мне, – ответил он.
– В таком случае тебя можно поздравить.
– Ах!.. – вздохнул Блюмли. – Благодарю за поздравление… – И опустил глаза.
Они сели рядом. Подали вино, фрукты, конфеты и пирожные.
– Судя по всему, ты занимаешь хорошую должность… важный пост? – прибавил Симонис.
– Я? Как тебе сказать… Я один из запасных секретарей министра, – тихо отвечал Блюмли, точно стыдясь этой должности, – но этим путем у нас можно всего достигнуть.
– И много у тебя занятий?
– Утром – два-три часа в канцелярии, – отрывисто сказал он, – а вечером… по вечерам я должен быть в комнатах.
– Странно, что ты, добившись такого счастья, кажешься мне как будто недовольным своей судьбою и каким-то кислым.
Чтобы скрыть свое дурное расположение духа, Блюмли принужденно засмеялся. Ему не хотелось объяснять дальнейших подробностей, и он переменил разговор.
– Ну а ты, что думаешь делать? – спросил он.
– Объяснить довольно трудно. Думаю ко всему присмотреться, поучиться… Вообще, мне не к спеху… Причина моего приезда сюда, – прибавил он, привирая очень ловко, как начинающий дипломат, – очень важная. Рассуди сам. Тебе известно, что Аммоны мои близкие родственники. Приехав в Берлин, я сейчас же отправился к старому советнику; но он обошелся со мной, как с собакой, и почти указал на дверь… Ну, я дал себе слово обойтись без его помощи и, выхлопотав рекомендательные письма, приехал сюда, чтобы постоянно вертеться перед его носом… Месть мне эта прекрасно удается; сегодня, не успел я приехать, как имел уже случай посчитаться с ним на улице.
Блюмли слушал с напряженным вниманием.
– Ты говоришь, что у тебя есть рекомендательные письма?.. Не могу ли узнать к кому?
Симонис немного смешался, так как боялся довериться ему.
– Разве я сказал о письмах? – прервал он. – У меня только одно и то к Бегуелину.
– К Бегуелину!.. – с пренебрежением повторил Блюмли. – В таком случае мне очень жаль тебя, мой друг, и здесь я не могу помочь… Это все равно, что если бы ты имел это письмо ко мне, маленькому человеку… Бегуелин!.. Что же для тебя может сделать этот прусский резидент? Только скомпрометирует… Мы здесь не терпим пруссаков… Мы – это значит Брюль, а Брюль здесь – все…
– Ну, я называть себя пруссаком вовсе не желаю, так как я бежал из Пруссии, чтобы не умереть с голода, – прибавил Симонис.
Блюмли, казалось, призадумался.
– Я тебе желаю всего лучшего, – начал он, – но если ты желаешь чего-нибудь добиться, то нет иной дороги, как познакомиться с Брюлем и устроить так, чтобы он в тебе нуждался…
Блюмли снова задумался, вздохнул и опустил глаза.
– Разве ты тоже шел по этой дороге? – спросил Симонис.
Швейцарец посмотрел на него с любопытством.
– Да, – ответил он и, встав, начал ходить по комнате, заглядывая во все двери; но убедившись, что никто их не подслушивает, уселся возле Симониса и начал шепотом: – Да, друг мой, через женщин здесь многое можно сделать; исключая королевы, которая живет молитвами да сплетнями, все остальные любят молодых людей и ищут развлечений в их обществе… Если твое сердце свободно, а увядшие и отчасти потерявшие первичную форму прелести тебе не противны… то испытай свое счастье.
Симонис улыбнулся и долго ничего не отвечал.
– Что ж? – наконец, отозвался он. – Кто хочет добиться известного положения и состояния, не должен дорожить собой… Я даже предпочитаю женщин в летах… К тому же обречь себя на вечную неволю я не имею особенной охоты.
Симонис рассмеялся каким-то притворным смехом.
– При прусском дворе, – сказал Блюмли, – женщины не имеют никакого значения. Королева живет точно в изгнании, а Фридрих никогда не влюбляется и с прекрасным полом обращается так же, как и с солдатами на учении. Здесь же, начиная от старой Фаустины, немолодой Мошинской и не первой молодости жены Брюля, – все женщины окружены кавалерами… и духовенство не без греха… – прибавил он еще тише. – Здесь иной свет.
– Не лучше прусского, – ответил Симонис, – но здесь, должно быть, легче втереться в него и безопаснее жить.
– Здесь безопаснее!.. – прервал его Блюмли, сделав гримасу. – Ты думаешь, что безопаснее? Не забудь, что там есть Кюстрин и Шпандау, а здесь Кенигштейн и Плейсеннбург, и тебе, как кандидату будущих симпатий, не мешает знать историю Сциферта…
– Какого Сциферта?
– Я мог бы завтра утром показать его тебе где-нибудь в предместье, так как сегодня он уже освобожден; но ему еще нельзя показываться в городе… Шесть лет тому назад Сциферт был секретарем министра при военном ведомстве, и графиня его очень любила, потому что он был так же красив, как и ты. Сегодня же от него остались кожа да кости. Желтый, сгорбленный и постоянно кашляет. У него есть домишко в предместье, где он в бедности будет доживать свои последние дни.
– В чем же он провинился? – с любопытством спросил Симонис.
– Как тебе это объяснить… я даже, право, не знаю! Он влюбился в молодую служанку старой графини, очень красивую девушку. На него донесли завистники, и он лишился своего места. Из мести к Брюлю он поступил неосторожно, посылая письма в Голландию, чтобы подорвать там его кредит. Письма были перехвачены, и Сциферт осужден на казнь, но графиня вступилась за него, и он отделался позорным столбом на рынке, где палач заклеймил его и отвез в тюрьму.
Блюмли побледнел; он не мог больше выговорить ни слова и вынужден был выпить глоток вина, чтобы продолжать:
– Сциферт просидел шесть лет в Кенигштейне, в сырой конуре, без солнца, без воздуха, не имея никакой надежды на спасение и не смея ни с кем поговорить. Шесть лет, друг мой!.. Разве это не то же самое, что быть шесть лет в предсмертной агонии? Понимаешь ли ты, что значит в продолжение шести лет просидеть без света и людей молодому человеку, преисполненному жизни и испытавшему все прелести наслаждений! Шесть лет царапать ногтями холодные стены тюрьмы!..
Симонис вздрогнул.
– Ну, брат, о подобных милостях ты мне лучше не говори, – взволнованно сказал он. – Не дай господи… Это не для меня. Лучше поговорим о чем-нибудь другом.
Блюмли начал рассказывать о красотах окрестностей и жизненных удовольствиях; он сам чувствовал неприятное впечатление от этих тяжелых воспоминаний.
– Во всяком случае, – прибавил он, – если ты думаешь пробыть здесь более или менее продолжительное время, тебе нужно будет представиться Брюлю и познакомиться с лицами, окружающими его… Он, как человек и как правитель, очень интересен… Ты узнаешь много любопытных вещей. В качестве путешественника и туриста, интересующегося всем, ты, наверное, будешь отлично принят. Что же касается меня, то хотя моя протекция не имеет особенного значения, во всяком случае она не помешает тебе.
После разговоров о различных делах, прерываемых молчанием и заставлявших призадуматься, де Симонис должен был распрощаться с своим другом, которому пора было отправляться в резиденцию министра. По указанию Блюмли, Симонис пошел пешком на свой постоялый двор.
На следующий день утром Симонис пошел разыскивать Бегуелина и графиню Ностиц, чтобы вручить им письма. Не возбуждая ничьего любопытства, он зашел в первую попавшуюся аптеку на Старом рынке, где сейчас же и получил нужные ему сведения. Бегуелин жил в Вильдрумском предместье, в небольшом домике с садом; туда он сначала и отправился. Дверь ему открыла босая девушка. Одна половина деревянного домика была занята канцелярией резидента, а в другой он жил. С разрешения Фридриха Бегуелин, занимая дипломатический пост, имел право торговать сыром. Это был старик не представительной наружности, с громадным красным носом и плешивый; причем имел живой, беспокойный характер, был скуп и жаден. Сначала Симониса хотели спровадить в канцелярию, но когда он заявил, что у него есть письмо, которое он должен лично вручить советнику, его ввели в грязный кабинет. Бегуелин, в какой-то засаленной чуйке, в туфлях на босую ногу и в очках на носу, сидел у письменного стола и что-то писал. Как только вошел Симонис, он вдруг закричал:
– Какое письмо? От кого? Зачем? Что вам нужно? Какие у вас дела, черт возьми?
Симонис, не отвечая на все эти вопросы, отдал ему письмо, и когда Бегуелин распечатал его – и взглянул – свершилось чудо. Его злое лицо вдруг просияло, морщины на лбу разгладились и губы сложились в соответствующую улыбку; с утонченной вежливостью, теряя один туфель по дороге, старик пригласил Симониса присесть на черном диванчике, и сам с почтением присел к нему.
– Простите меня великодушно, – сказал он, положив грязную и замасленную сыром руку на колено Макса. – При наших занятиях нам постоянно приходится отбиваться только дерзостью и бранью… Ну, что нового? Шифр я после разберу, теперь не время. Что слышно в Берлине?
Симонис ответил, что никаких новостей не привез… но чтобы придать себе большую важность, он прибавил:
– Впрочем, накануне моего отъезда я посетил Сан-Суси и имел счастье не только видеть его величество, но даже говорить с ним, и, как мне показалось, там именно ждут новостей из Дрездена.
Бегуелин, сделав жест рукою, начал разбирать шифрованную записку, осмотрев все двери, он снова сел подле Симониса и, свернув руку в трубку, шепнул ему на ухо:
– Нет никакого сомнения, что здесь надвигается буря!.. Австрия заключает союз с Россией и, кажется, с другими против нас. Саксония, быть может, еще не подписала трактата, но этого нужно ожидать со дня на день; Брюль торгуется за нейтралитет: ведь и он любит чужими руками жар загребать.
Симонис слушал с большим вниманием, но ничего не ответил на это.
– Мне поручили отдавать вам все письма для отправления их к графине де Камас, – начал Симонис.
Бегуелин кивнул головою.
– Но вы знаете, – прибавил он, входя в свою роль, – я не могу часто заходить к вам, иначе…
– Разумеется!.. – ответил Бегуелин.
– Хотя, конечно, я могу объяснить свое посещение тем, что и я швейцарец, что мы соотечественники…
– А я бывший, бывший! – поправил Бегуелин и махнул рукой.
– Кроме того, я нахожу лишним, – прибавил Симонис, – скрывать от вас, что советник Аммон приходится мне дядей.
Бегуелин вскочил с дивана, поднял ногу, потерял туфель и схватился за голову.
– А, в таком случае ступайте к нему! – При этом он указал на дверь. – Здесь вам больше нечего делать.
Симонис не пошевелился.
– Извините, – ответил он, – старик Аммон – эгоист и противный человек. Я не хочу его знать, а тем больше иметь с ним дело… Я питаю к нему большое отвращение. Это негодный человек.
Удивленный Бегуелин поднял голову и тотчас подошел к Симонису, протягивая ему обе руки.
– Вы благородный молодой человек. Да сохранит вас Бог на этом трудном пути, который вы избрали.
На прощание Бегуелин шепнул гостю на ухо:
– Шпионство здесь процветает, поэтому нужно держать язык за зубами… Что же касается писем, записок и т. д., то их следует избегать… Никакие замки в ящиках не помогут… До свидания…
Отсюда Симонис отправился на Новый Рынок, где в старом каменном доме с тремя окнами на улицу жила во втором этаже баронесса Ностиц.
По словам графини де Камас, Симонис ожидал встретить в баронессе такую же старуху, как и его покровительница, которой и принадлежал этот каменный дом. Он уж издали заметил открытые окна, а на них клетки с птичками. В светлой передней сидела у окна немолодая служанка, у которой лежало на коленях протестантская Библия, а в руках она держала шерстяной чулок.
Так как служанка оказалась глухой, то Симонис должен был громко крикнуть ей на ухо, что у него есть письмо к баронессе от графини де Камас.
Должно быть, хозяйка дома расслышала раньше, чем ее старая Гертруда, так как дверь открылась и появившаяся в ней женщина, маленького роста, с морщинами на лице, в высоком, белом чепчике на голове, любезно пригласила его войти.
В зале было очень чисто и даже весело. Птички пели на окнах, солнце золотило старую мебель; на стенах висели портреты в париках; в углу стояло старенькое кресло, на нем лежала гитара; болонка подошла к нему, понюхала и зевнула.
Старушка в белом чепчике с приветливой улыбкой на губах указала Симонису на стул, а сама пошла к окну с письмом, которое он ей вручил. Чтение письма заняло немного времени. Хозяйка быстро пробежала глазами по бумаге; лицо ее приняло добродушнейшее выражение, и она подошла к молодому человеку.
– Ну, как поживает моя Софи?.. Здорова ли?.. Все так же надоедает ей ревматизм?
Симонис уверил ее, что графиня де Камас вполне здорова.
– Вот что значит жить в наш век: ни она ко мне, ни я к ней не можем собраться, а ведь мы очень любим друг друга.
При этом она с любопытством посмотрела на Симониса, а затем на его костюм и вообще на всю фигуру. Казалось, она хотела сразу изучить его и отгадать, что это за человек?
Она нагнулась к нему и, подняв палец к губам, значительно посмотрела.
– Что же вас заставило сюда приехать? – спросила она и, не ожидая ответа, продолжала: – Знаю, знаю, но будьте осторожны, очень осторожны!
И, нагнувшись еще ближе к Симонису, который в свою очередь наклонился к ней, начала говорить, закрывая свой рот дрожащей рукой.
– Нет сомнения, что против Берлина готовится заговор… Да, да… Заговорщики уже разделили между собой владения Фридриха. России достанется Пруссия за издержки во время войны, Силезию возьмет Австрия; Магдебург и Гальберштадт отдадут саксонскому королю; Швеция возьмет Померанию; Франция – Невшатель, а на все остальное тоже найдутся охотники.
Она в упор посмотрела на Симониса.
– Но едва ли это будет так, – прибавила она оживленно, – я надеюсь на нашего Бранденбургского и не думаю, чтобы он допустил… Посмотрим!.. Мне хорошо известно, что Брюль ничего еще не подписал, – прибавила она таинственно, – но не от того, чтобы он не хотел… О нет! Ему тоже хочется что-нибудь получить за это! Несчастный! Ему так много надо.
Во время разговора старушка вертелась на диване и каждый раз, как будто что-то вспоминая, наклонялась к уху Симониса.
– У них нет войска, – продолжала она, – всего каких-нибудь тысяч десять – двенадцать, и то больше офицеров, чем солдат. Наши прусские гренадеры съедят их на завтрак…
И, точно вспомнив что-то новое, она начала живо расспрашивать гостя:
– Говорите же, говорите, молодой человек, что вы думаете здесь делать?.. Где будете жить? С кем знакомиться и у кого бывать?
– У меня еще нет квартиры.
– Браво! – воскликнула баронесса. – У меня есть, как будто нарочно для вас, две комнаты. Правда, немного высоко, на третьем этаже, но у вас ноги молодые. Ведь вы не будете давать балов.
Старушка вынула из ящика связку ключей и показала их Гертруде, которая скорее догадалась, чем расслышала, в чем дело, и взяла ключи; баронесса фамильярно потрепала по щеке следовавшего за ней Симониса.
– Сходите, посмотрите, и если понравится, то я не возьму с вас дорого.
Он уже уходил, когда старушка схватила его за руку и спросила:
– Вы играете на каком-нибудь инструменте?
– Немного на скрипке и на клавикорде, но музыку я уже забросил.
– Днем, пожалуй, играйте себе сколько угодно, – продолжала она, – но вы, молодые, имеете привычку играть при луне, а я этого терпеть не могу, потому что это мешает мне спать.
Гертруда отправилась вперед на третий этаж; Симонис осмотрел комнаты: они были светлые, веселые и понравились ему. Оставалось только узнать цену, так как все остальное было подходяще, в особенности соседство старушки.
Служанка, хотя ее и не спрашивали, сообщила, что живший в них какой-то чиновник платил, вместе с прислугой, по три талера в месяц… Цена была доступная. Все шло как по маслу. Баронесса подтвердила вернувшемуся Симонису слова Гертруды, и условие было заключено поцелуем руки старушки. Узнав еще от баронессы, что не следует проливать воду на пол, портить стен гвоздями и бить оконные стекла, Симонис отправился за своими вещами.
В тот же день он уже был на своей новой квартире и, не откладывая в дальний ящик, написал к графине де Камас все, что узнал в продолжение дня и с минуты своего приезда в Дрезден. На следующий день утром Бегуелин был очень удивлен, получив письмо для пересылки графине. Его, видимо, беспокоила такая поспешность со стороны молодого человека.
– Извините меня, – обратился он к Симонису, – но я должен вам заметить, что вы слишком ретивы… Раз вы их приучите, они станут требовать от вас частых сведений, а наша корова не всегда имеет молоко… К тому же ветер иногда разносит такую грязную пыль по улицам, что ее посылать не стоит.
Симонис промолчал, но письмо было отправлено.
IV
Это было в то самое время, когда Брюль пользовался сильной, практически неограниченной властью. Всем было известно, что после Августа Сильного царствовал Август III, кроткий, набожный, любитель опер и охоты, халата и трубки. Его только и можно было встретить на охоте в Губерсбурге, в его часовне, или же в театре. Саксонией управлял не Божией, а королевской милостью – Брюль; и после нескольких неудавшихся попыток низвергнуть его, все пришли к тому убеждению, что пока жив король, царствовать будет Брюль.
Король предпочитал не вмешиваться ни в какие политические дела, так как любил быть в хорошем расположении духа, есть, пить, спать, стрелять, забавляться оперой, шутами и любоваться своей роскошной картинной галереей. Только время от времени он спрашивал, есть ли деньги, и, получив вполне удовлетворительный ответ, засыпал спокойно.