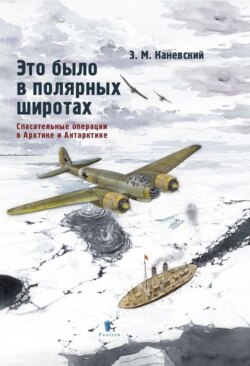Читать книгу Это было в полярных широтах. Спасательные операции в Арктике и Антарктике - З. М. Каневский - Страница 3
Глава I
«Вернуть человека к жизни»
ОглавлениеОб этой спасательной эпопее написаны десятки книг на разных языках мира, созданы документальные и художественные фильмы, память о ней вот уже шестое десятилетие живет в сердцах миллионов людей, особенно в сердцах благодарных жителей Италии. Достаточно произнести слова «ледокол „Красин“», «Нобиле», «Красная палатка» – и перед глазами возникают источенные морем дрейфующие льды, обгоревшие куски гигантского дирижабля, жалкие фигурки потерпевших крушение воздухоплавателей, раздвигающий мощные ледяные поля корпус советского ледокола…
Крупная операция по спасению зарубежной арктической экспедиции 1928 года оказалась исторической, ее последствия во многом сказываются по сей день. Она была международной, в ней приняло участие около полутора тысяч моряков, пилотов, исследователей, промысловиков-охотников, шестнадцать судов различного тоннажа и назначения, более двадцати самолетов. СССР, Норвегия, Швеция, Финляндия, Франция, Италия направили в воды, омывающие архипелаг Шпицберген, в небеса над ним достойнейших своих представителей. И все это для того, чтобы спасти членов экспедиции на борту дирижабля «Италия». В момент катастрофы там находилось шестнадцать человек, один из которых погиб при падении дирижабля на лед, шестерых (так называемая группа Алессандрини) унесло в неизвестность ветром вместе с остатками оболочки воздушного корабля, девять человек оказались на льдине, в красной палатке[1]. Вскоре трое из них (Дзаппи, Мариано и шведский геофизик Мальмгрен) ушли по льдам к ближайшей земле, за помощью, а шестеро остались в палатке в надежде, что сигналы их радиопередатчика услышит кто-нибудь на Большой Земле.
В конце мая 1928 года, через несколько дней после того, как прервалась связь с дирижаблем, в Москве при Осоавиахиме был создан Комитет помощи дирижаблю «Италия». В тот же день столичный радиолюбитель-коротковолновик Иван Петрович Палкин через свою домашнюю любительскую рацию передал обращение ЦК Осоавиахима ко всем радиолюбителям Сибири со срочным заданием: связаться с пропавшей экспедицией. Тысячи коротковолновиков, плотно надвинув на головы наушники, часами просиживали у своих самодельных радиостанций, напряженно вслушиваясь в эфир.
Поздним вечером 3 июня двадцатидвухлетний тракторист (а по совместительству – киномеханик) небольшого поселка Вознесенье-Вохма Северо-Двинской губернии (ныне Костромской области) Николай Шмидт и его семнадцатилетний приятель Миша Смирнов среди шума и треска в эфире внезапно услыхали сигналы бедствия из Арктики. Приемничек у них был очень слабый, передатчика вообще не имелось, текст был крайне неразборчив, координаты неточны, однако самое главное было понято и принято. В Москву, в Общество друзей радио полетела срочная телеграмма.
Новость ошеломляла, вызывала недоверие, кривотолки. Советский полпред в Италии Д. И. Курский по просьбе итальянских властей сделал официальный запрос: не ошибка ли – сообщение о каком-то безвестном радиолюбителе из далекого глухого села? Нет, ошибки не было, уже через день, 5 июня, москвичу Ивану Палкину удалось не только вновь перехватить сигнал бедствия (впервые он сделал это накануне), но и засечь волну, на которой работала красная палатка.
…До чего же трудно вообразить себе уровень техники той кажущейся нам безумно далекой эпохи! Когда взволнованный радиолюбитель запеленговал итальянскую станцию, он тотчас сообщил об этом заместителю наркома почт и телеграфа А. М. Любовичу. Замнаркома тут же связался с опытными радиооператорами приемно-контрольного пункта на Варварке, и выяснилось, что тамошние специалисты не слышат работы итальянского радиста из-за… проходящего под окнами трамвая! Но так или иначе связь была установлена, сообщение о местонахождении лагеря Нобиле ушло на итальянское судно «Читта ди Милано», находившееся у берегов Шпицбергена, и его радисты получили наконец возможность напрямую снестись с соотечественниками.
Небезынтересно отметить, что первыми забили тревогу о драматической судьбе, ожидающей экспедицию Нобиле, советские полярные исследователи, и произошло это задолго до вылета «Италии» из Италии! Находясь в командировке в Германии, директор Института по изучению Севера, выдающийся арктический исследователь профессор Рудольф Лазаревич Самойлович познакомился с Нобиле и его планами полета на дирижабле к Северному полюсу. Самойлович направил в Ленинград специальное письмо, в котором предупреждал научную общественность о том, что молодого и весьма честолюбивого генерала может подстерегать неудача, что – не исключено – дирижабль потерпит аварию. Мало того, уже тогда же нашим полярникам, находившимся на Таймыре и на Новосибирских островах, было, в частности, поручено внимательно следить за полетом дирижабля. В случае необходимости им предписывалось немедленно организовать помощь воздухоплавателям, иными словами, направить спасательные партии по дрейфующим льдам к месту возможной катастрофы. Беда, однако, случилась в Западной Арктике, у берегов Шпицбергена, и помощь пришлось организовывать как бы заново.
Комитет при Осоавиахиме предполагал направить в район катастрофы сразу несколько ледокольных пароходов, и это было сделано, причем профессор Самойлович настоял на том, чтобы основное задание было возложено на самый мощный по тем временам ледокол – «Красин». В этом предложении крылся немалый риск и не один. Ледокол находился в отнюдь не блестящем состоянии. Во всяком случае, он совершенно не был пригоден к трудному ледовому рейсу: «Красин» не работал более года, стоял вопрос о его полном «разоружении» и постановке на длительную консервацию. Из команды в сто с лишним человек остались считанные единицы. А самое главное – отправить в одиночку во льды мощный ледокольный корабль означало обречь всю экспедицию на огромные беды: в случае если «Красин» застрянет среди ледяных полей – выручить его уже не смог бы никто, для этого был необходим еще более сильный ледокол, а такового не имелось во всем мире…
Словом, момент был крайне неподходящий для того, чтобы начинать арктический рейс, спасательный поход вполне мог обернуться очередной трагедией. Но решение было принято, и «Красина» стали готовить к выходу в море.
Руководить плаванием была призвана «тройка»: начальник экспедиции Р. Л. Самойлович, комиссар П. Ю. Орас и полярный пилот Б. Г. Чухновский. Позже, размышляя над тем, какими мотивами руководствовались те, кто ринулся спасать, и те, кто решил «воздержаться», отойти в сторонку, один из членов «тройки» написал: «Многие страны, которые особенно любят говорить о своей высокой культуре, гуманности и человеколюбии, предпочли остаться лишь молчаливыми свидетелями того, как одни люди гибнут, а другие проявляют героические усилия, чтобы их спасти… На подмостках Арктики разыгралась сцена, имеющая большой символический смысл. Мир может быть спасен только теми, кто проповедует и осуществляет на практике новую идеологию, кто не подчиняется в своих действиях разлагающим соображениям капиталистической наживы и кто действует исключительно из моральных соображений… Без громких слов, без многоаршинных статей и интервью советские экспедиции (здесь имеются в виду еще три наших судна[2]. – 3. К.) пошли в поход».
«Пошли»… А какой ценой? «Красин» стоял в Ленинградском порту с погашенными топками и абсолютно пустыми трюмами. Команда насчитывала от силы два десятка человек, но через четверо суток семь часов и сорок семь минут после решения Комитета помощи (Самойлович в одной из телеграмм в Москву так и писал, что «выход ледокола возможен при полном напряжении через три дня по получении боевого задания») корабль покинул порт и взял курс на Север. За эти несколько суток он был забит грузами и углем, на него по конкурсу набрали с других судов команду, на борт прибыли представители прессы и кинооператор (именно благодаря ему мир сумел затем в деталях познакомиться с красинской эпопеей – снятый Вильгельмом Блувштейном фильм «Подвиг во льдах» до сих пор не сходит с экрана).
Сказать, что экипаж работал с полной отдачей сил, – значит не сказать ничего. Круглосуточно трудились многие тысячи людей в Ленинграде и в порту. Профессор Самойлович взволнованно пишет о них в книге «На спасение экспедиции Нобиле», выдержавшей несколько изданий[3]. Эта книга – о рабочих, грузчиках, продавцах, шоферах, кладовщиках, о служащих правительственных учреждений и организаций, о членах семей моряков, не говоря уже о самих моряках. Еще на берегу с наилучшей стороны проявил себя командир «Красного медведя» – так назвали красинцы трехмоторный «юнкерс» (эти машины в 1920-е годы по лицензии делали наши рабочие на авиазаводе), погруженный на борт ледокола, – Борис Григорьевич Чухновский. В дни, предшествовавшие отплытию, он лежал в госпитале, где его готовили к операции по поводу аппендицита. Узнав о драме во льдах и о подготовке спасательной экспедиции, летчик, невзирая на яростные протесты докторов, покинул больничную палату и присоединился к экипажу «Красина».
Под стать командиру был весь летный состав. Один из них – штурман и радист Анатолий Дмитриевич Алексеев – девять лет спустя стал участником высадки на полюс четверки папанинцев, Героем Советского Союза. Душой воздушного экипажа был второй пилот Георгий Александрович Страубе, Джонни, как дружески звали его на судне. Очень веселый, храбрый, остроумный и доброжелательный человек, он на первой стадии похода, до начала полетов, занимался комплектованием продовольственных посылок, которые летчики должны были, по первоначальному плану, сбросить на лед в окрестностях красной палатки. (Во время Великой Отечественной войны Г. А. Страубе умер от голода в блокадном Ленинграде…)
В момент выхода в море на борту «Красина» было сто тридцать шесть человек и среди них две женщины – уборщица Ксения Александро́вич и московская журналистка Любовь Воронцова. Нужно признать: начальник экспедиции был далеко не в восторге от того, что в этот опасный рейс идут женщины, и во время одного из заходов в норвежский порт даже подумывал о том, чтобы отправить их обеих домой, но, как записал Самойлович в дневнике, «единодушные просьбы товарищей окончательно решили их судьбу – они пошли с нами». Очевидно, не последнюю роль сыграли слова капитана «Красина» Карла Павловича Эгги, сказанные им о судовой уборщице: «Она уже много лет работает на „Красине“. Очень старается и порядочный человек».
Начальника экспедиции, конечно, мучили проблемы куда более серьезные, чем наличие на борту двух дам. Как поведет себя долго не плававшее судно, как будут работать три его паровые машины, оправдает ли надежды самолет, что нового и злого приготовила Арктика для людей, вознамерившихся проникнуть в глубь ее ледяных полей, за восьмидесятую параллель, кто выручит, если случится авария? На последний вопрос профессор Самойлович отвечал сам себе без малейшего сомнения: «Конечно, никто. Ибо какой корабль пробьется туда, куда может пройти лишь самый большой ледокол в мире! Как ни странно, при этой мысли у меня стало даже как-то радостно на душе. Никто? Тем лучше: значит, мы должны надеяться только на себя…»
Так сто тридцать шесть человек вышли на «Красине» в рискованный ледовый поход во имя спасения жизней девятерых: семи итальянцев, одного чеха и одного шведа. Начальник экспедиции, выступая перед экипажем, сказал: «Помните, что наша задача – благороднейшая из всех, какие могут выпасть на долю человека, – спасти погибающих от верной смерти, ибо вернуть человека к жизни – это непревзойденное, истинное счастье человеческое».
Когда Самойлович произносил подобные слова, он вкладывал в них определенный, самый прямой смысл: да, прекраснее спасения чьей-то жизни нет на свете ничего, и спаситель ощущает это ничуть не менее остро, чем сам спасенный. Лично ему, профессору Самойловичу, до сих пор еще не приходилось спасать людей, хотя в его многочисленных северных экспедициях не раз возникали тяжелые ситуации, когда все зависело от поведения коллег. Подавляющему большинству красинцев тоже не выпадало случая кого-то спасти, но вот сам «Красин» уже выступал восемь лет назад в роли арктической «палочки-выручалочки» (забегая вперед, можно смело утверждать, что эту роль ледокол блестяще исполнял всю свою остальную жизнь, жизнь полярного труженика и воина). Причем тогда речь также шла о спасении целой экспедиции, которую, строго говоря, вполне можно назвать иностранной.
В январе 1920 года белогвардейские правители Севера России направили ледокольный пароход «Соловей Будимирович» (позже он стал зваться «Малыгиным») за грузом оленьего мяса к устью северной речки Индиги. Льды затерли судно и увлекли его в зимнее Карское море. На борту находилось восемьдесят пять человек – членов команды и пассажиров, включая женщин и детей. Архангельские власти бросили пароход на произвол судьбы, его ожидала неминуемая гибель в сплошных карских льдах, но тут в город вошли красные части, и обстановка резко переменилась: советское правительство приняло самые активные меры для спасения «Соловья Будимировича». Чужого судна!
В конце марта из Архангельска сразу в несколько адресов – Ленину, наркому иностранных дел Чичерину, Фритьофу Нансену (с великим норвежским полярником-гуманистом начал взволнованную переписку Горький) – пошли телеграммы. Одну из них, на имя президента российской Академии наук А. П. Карпинского, подписал Самойлович, начальник Северной научно-промысловой экспедиции, из которой и вырос впоследствии Институт по изучению Севера, нынешний ордена Ленина Арктический и антарктический научно-исследовательский институт в Ленинграде. Рассказав о бедственном положении «Соловья Будимировича», Самойлович, в частности, написал: «Необходимо оказать помощь в самом срочном порядке. В Англии находится русский ледокол „Святогор“ большой мощности, по признанию авторитетов, вполне пригодный для спасательной цели. Российская академия наук своим авторитетным обращением по радио в Норвегию, Швецию, Англию поможет ускорению отправки спасательной экспедиции, все расходы по которой и щедрую награду участникам берет на себя правительство». Именно после этой телеграммы Карпинский и Горький обратились к Нансену с просьбой вмешаться в происходящее «во имя гуманности», «во имя человечности».
Ледокол «Святогор» и ледорез «Канада» (он же – «III Интернационал», а позже – «Литке») двинулись в июне 1920 года во льды, пробились в Карское море, проложили себе дорогу сквозь дрейфующие поля и под ликующие крики «ура» всех трех экипажей подошли к «Соловью Будимировичу». Часть его команды и пассажиров уже болела цингой – помощь подоспела вовремя. Советские и норвежские моряки, находившиеся на ледоколе и ледорезе, вывели пароход в Баренцево море, и тот своим ходом пришел в Архангельск. А ледокол «Святогор» еще год оставался в руках англичан и лишь усилиями нашего торгпреда в Англии Леонида Борисовича Красина был возвращен на родину, где стал называться «Красиным».
И вот теперь, восемь лет спустя, «Святогор – Красин» снова шел спасать «во имя человечности».
Ледокол ненадолго зашел в норвежский порт Берген, чтобы заправиться углем. Здесь же оказались два американских полярных пилота, Хьюберт Уилкинс и Бен Эйлсон, недавно завершившие большой трансарктический перелет с Аляски на Шпицберген (эти два имени еще встретятся нам в одной из последующих глав). Самойлович и другие ученые, а также капитан и штурманы ледокола с жадностью расспрашивали американцев о ледовой обстановке, которую те наблюдали собственными глазами всего несколько недель назад в том самом районе Ледовитого океана, куда направлялся сейчас «Красин». Услышанное не утешало, однако другого пути все равно не было.
25 июня радисты ледокола приняли ошеломляющую информацию: «Нобиле спасен, он первым покинул льдину на самолете шведского летчика Лундборга. При повторной попытке сесть возле красной палатки пилот потерпел аварию и позже был вывезен коллегой, другим шведским летчиком». Итак, после катастрофы, в результате которой один человек погиб, а шестеро были унесены в неизвестность, спасен единственный член экспедиции на «Италии», и таковым стал генерал Умберто Нобиле, капитан, обязанный покидать гибнущий корабль последним! В это отказывались верить, это не укладывалось в голове…
В то время никто на «Красине», естественно, не подозревал, какая чудовищная политическая игра велась вокруг имени и поступков генерала. Никто не ведал, что заместитель министра авиации маршал Бальбо (а министром, нужно добавить, был сам дуче, Бенито Муссолини) – лютый враг талантливого конструктора и воздухоплавателя Нобиле. В Риме спали и видели, как командир «Италии» терпит позорную неудачу!
А раз так, то никого уже не волновало, что при падении дирижабля на лед именно Нобиле получил наиболее тяжелые травмы (у него были сломаны рука и нога, пробита голова), что он стал бы обузой для остальных, если бы всей группе пришлось двинуться к берегу по дрейфующим льдам. Никто не желал всматриваться в поведение Нобиле, когда за ним прилетел Лундборг, имевший строгое предписание командования «Читта ди Милано» вывезти именно его, начальника экспедиции. Все словно ослепли и оглохли, не видя и не слыша, как стойко противится Нобиле такому двусмысленному предложению, как уговаривает он шведского пилота вывезти не его, а другого, тоже раненного при катастрофе дирижабля (позже, на родине, этот другой не пощадил своего руководителя, оклеветал его, подставил под дополнительные удары…).
Так или иначе, после месячного пребывания в лагере на льду командир покинул подчиненных и был доставлен на борт итальянского судна «Читта ди Милано», где оказался, по сути, под арестом, в отдельной каюте, в почти полной изоляции. Карьера генерала была перечеркнута одним махом. Как будто предчувствуя уже тогда, сколь непростая ситуация складывается в связи с «делом Нобиле», Самойлович записал в дневнике свои впечатления о «нездоровом ажиотаже» вокруг генерала. И добавил: «Мы будем уверенно и спокойно продолжать свой путь. Питаю глубокое убеждение, что еще многим понадобится наша помощь».
Да, помощь требовалась очень многим. Ее ждали пятеро в красной палатке, ее еще вполне могли ждать шестеро унесенных ветром да трое ушедших из лагеря в поисках ближайшего берега. В их помощи мог отчаянно нуждаться экипаж гидросамолета «Латам», бесследно исчезнувшего в полярном небе. На его борту находились шесть человек, отчаянно вылетевших на спасение итальянцев, и одним из этих шестерых был великий норвежский арктический и антарктический путешественник Руал Амундсен. Когда «Красин» шел на север вдоль норвежских берегов, со всех судов и рыбачьих лодок нашим морякам кричали: «Спасите Амундсена, верните нам Руала!»…
Экстренная помощь в любой момент могла понадобиться и Михаилу Сергеевичу Бабушкину, будущему Герою Советского Союза. Его одномоторный «юнкерс» находился на борту ледокольного парохода «Малыгин» – вот и бывший «Соловей Будимирович», словно отдавая старые долги, принял участие в спасательных операциях! Судно пробивалось к красной палатке с другой стороны, однако его отделяло от итальянского лагеря расстояние в добрых четыреста миль. Решено было начать полеты – сперва для разведки льдов, затем для организации промежуточной базы горючего, чтобы потом попытаться долететь до льдины с людьми.
1
Палатка была изготовлена из светло-голубой ткани. Чтобы сделать ее более заметной на льду, потерпевшие аварию использовали анилиновый краситель, флаконы с которым во время полета сбрасывали с дирижабля для определения высоты. Нарисованные на ткани полосы быстро выцвели, и палатка пробрела беловатый оттенок. Тем не менее в историю полярных исследований вошло легендарное название «красная палатка». – Здесь и далее прим. ред.
2
Ледокол «Малыгин», ледокольный пароход «Седов» и исследовательское судно «Персей».
3
Р. Л. Самойлович. На спасение экспедиции Нобиле. Поход «Красина» летом 1928 года. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967, 4-е изд.