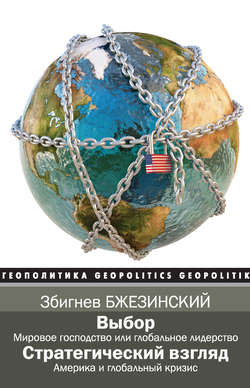Читать книгу Выбор. Стратегический взгляд (сборник) - Збигнев Казимеж Бжезинский, Збигнев Бжезинский, Carl J. Friedrich - Страница 7
Выбор
Мировое господство или глобальное лидерство
Часть I
Американская гегемония и глобальная безопасность
1. Дилеммы национальной небезопасности
Определение новой угрозы
ОглавлениеДилеммы, проистекающие из новой для Америки уязвимости в отношении безопасности, позволяют утверждать, что Соединенные Штаты находятся на пике третьей в своей истории большой волны судьбоносных дебатов о государственной обороне. В первый раз споры разгорелись вскоре после завоевания независимости вокруг того, пристало ли только что добившемуся свободы американскому государству содержать в мирное время регулярную армию и какие меры предосторожности надо принять, чтобы ее наличие не привело страну к деспотизму. Конгресс США первоначально не имел желания создавать постоянную армию, и Александру Гамильтону пришлось обратиться к нему с предостережением на страницах «Федералиста», предупреждая, что без такой армии «Соединенные Штаты представят самое необычайное зрелище, какое только наблюдал мир, – страну, которую собственная Конституция лишает возможности готовиться к обороне прежде, чем ее захватит неприятель»[8].
Вторая волна продолжительных дебатов, имевших настолько же важнейшие последствия, происходила после Первой мировой войны из-за отказа Америки от членства в Лиге Наций. Дебаты завершились почти через 30 лет, уже после Второй мировой войны, достигнутым решением Соединенных Штатов взять на себя бессрочные обязательства по отношению к европейской безопасности в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора. Одобрение Договора Конгрессом подразумевало коренной пересмотр смысла и границ национальной безопасности США: оборону Европы отныне следовало рассматривать как передовую линию обороны самой Америки. Атлантический альянс стал основой американской оборонной политики.
Третья волна дебатов тоже, по-видимому, завершится нескоро и вызовет раздоры как внутри страны, так и за рубежом. По сути, предстоит ответить на вопрос, насколько далеко готовы зайти Соединенные Штаты в стремлении сделать максимальной собственную безопасность, какие финансовые и политические издержки при этом допустимы и в какой мере дозволительно рисковать стратегическими связями с союзниками Америки. Хотя открытые баталии развернулись после событий 11 сентября, признаки, предвещавшие третьи «Великие дебаты», забрезжили еще в середине 1980-х годов, когда предложенная президентом Рейганом «стратегическая оборонная инициатива» (СОИ) породила острые внутриполитические и международные разногласия. Проект СОИ отражал своевременно осознанный факт, что развитие технологии меняет соотношение между наступательными и оборонительными вооружениями, а периметр системы национальной безопасности перемещается в космическое пространство. СОИ, однако, была сосредоточена в основном на защите от одной, отдельно взятой угрозы, исходившей от Советского Союза. С исчезновением этой угрозы лишился смысла и сам проект.
Через десятилетие в процессе третьего в истории США принципиального пересмотра подходов к национальной безопасности в фокусе внимания постепенно оказалась более широкая проблема – способность общества к сохранению на фоне почти неизбежного распространения и диверсификации оружия массового поражения непрерывных волнений в мире и растущей угрозы терроризма. Совокупное влияние этих факторов делает значительно более тесной взаимозависимость между состоянием дел на планете в целом и безопасностью американской территории.
Но даже если роль Америки в обеспечении безопасности ее союзников и – в более широком плане – поддержании общемировой стабильности оправдывает ее притязания на бо́льшую степень национальной безопасности по сравнению с реалиями других государств, все же времена абсолютной безопасности миновали – это непреложный факт. Защита территории заокеанских союзников США перестала служить дальним щитом для самой Америки. Но если военные специалисты уже давно обеспокоены складывающимся положением, то широкой общественности истина открылась лишь 11 сентября.
Безопасность Америки впредь следует рассматривать в неразрывной связи с международной обстановкой. Неудивительно, что после событий 11 сентября приоритетность волнующих общество вопросов изменилась: заметно снизилась значимость идеалистических целей, в то время как озабоченность собственной безопасностью заметно усилилась. Однако планирование в одностороннем порядке и нацеленность на единоличное обеспечение внутренней и международной безопасности не гарантируют долговременную безопасность. Поддержание беспрецедентного всеобъемлющего военного потенциала США и повышенной способности американского общества к выживанию необходимо подкреплять систематическими усилиями, направленными на расширение зон общемировой стабильности, устранением некоторых самых вопиющих причин политического насилия и поддержкой политических систем, признающих права человека и конституционные механизмы основополагающими. Отныне уязвимость Америки будет возрастать всякий раз, когда демократия за ее пределами окажется под угрозой отступления, а демократия эта, в свою очередь, станет более уязвимой, если Америка позволит себя запугать.
Центральный вопрос третьих «Великих дебатов» о национальной безопасности Америки – как опознать угрозу? Ответ во многом зависит от истолкования того, с кем происходит противостояние. Поэтому его интерпретация представляет собой не просто интеллектуальное упражнение, а стратегически важное действие, у которого есть несколько аспектов. Определение угрозы должно стать трамплином для мобилизации усилий государства. На основе его предстоит выявить, что именно поставлено на карту, а также не только обнаружить сущность угрозы, но и хотя бы отчасти уловить ее сложную природу. Оно должно позволить провести разграничение между неотложными и более долгосрочными задачами. И наконец, такое определение поможет выявить долговременных союзников, временных партнеров, скрытых оппонентов и открытых врагов.
Поскольку в Америке демократия, определение угрозы должно быть понятным обществу, чтобы то было готово выдержать материальные лишения, необходимые для отражения опасности. Для этого нужны ясность и конкретность, хотя при этом возникает соблазн прибегнуть к демагогии. Мобилизовать общество на длительное напряжение сил проще, если угрозу персонифицировать, идентифицировать как зло и тем более создать ее тиражируемый стереотип. В человеческом бытии, и особенно в международной жизни, ненависть и предубеждение несут значительно более мощный эмоциональный заряд, чем сочувствие или привязанность. Кроме того, эти отрицательные чувства легче поддаются выражению, чем значительно более близкая к истине картина неизбежно сложных исторических и политических мотиваций, сказывающихся на поведении государств и даже террористических группировок.
Ход публичных дебатов, развернувшихся в Соединенных Штатах после 11 сентября, подтверждает эти соображения. Внимание общества в той мере, как это отражают выступления политических лидеров и редакционные статьи в ведущих изданиях, в основном сосредоточилось на терроризме как таковом, на его природе, неустанно ассоциируемой со злом, и на пресловутой личности Усамы бен Ладена, приковавшей к себе всеобщее внимание. Президент Буш проявил склонность трактовать угрозу чуть ли не в богословских терминах (вероятно, в силу своей религиозности), рассматривая ее как схватку между «добром и злом». Он даже воспользовался ленинской формулой «кто не с нами – тот против нас» – принцип, всегда импонирующий взбудораженной общественности, но несущий в себе черно-белое видение мира, игнорируя все те оттенки серого, в которые окрашено большинство глобальных дилемм.
В претендующих на более высокий интеллектуальный уровень обсуждениях событий 11 сентября чаще всего указывалось в неопределенно-обобщенной форме на исламский образ мышления, изображавшийся религиозно и культурно враждебным западным (и особенно американским) представлениям о современности. Конечно, администрация США благоразумно старалась не отождествлять терроризм с исламом, всячески стараясь подчеркнуть, что на ислам как таковой вина не возлагается. Но некоторые сподвижники оказались не настолько щепетильны в таких нюансах. Они довольно быстро инициировали кампанию, в ходе которой обществу внушалось: вся исламская культура настолько враждебна Западу, что неизбежно подпитывает террористические нападения на Америку. При этом старательно избегались обсуждения проблемы выявления реальных политических мотиваций, стоящих за феноменом терроризма.
Почти теологический подход президента Буша обладал, помимо политически-мобилизующего эффекта, дополнительным тактическим достоинством – объединить в одной простой формуле несколько источников угрозы, вне зависимости от того, связаны они между собой или нет. Произнеся в начале 2002 года свои знаменитые слова об «оси зла», президент риторически смешал воедино независимые проблемы, инициируемые Северной Кореей для стабильности в Северо-Восточной Азии, Ираном с его масштабными амбициями в районе Персидского залива, а также оставшиеся от незавершенной кампании 1991 года против иракского правителя Саддама Хусейна. Тем самым зловещие дилеммы, создаваемые стремлением этих государств обзавестись ядерным оружием, оказались за общей ширмой морального осуждения трех конкретных, но не объединенных союзом режимов (два из которых, по сути, считают друг друга врагами) и привязаны к пережитому только что американским народом болезненному опыту непосредственного столкновения с терроризмом.
Сам американский народ, пожалуй, может на какое-то время удовольствоваться «осью зла» в качестве примерного определения нависшей угрозы. Но встают две другие проблемы. Во-первых, поскольку безопасность Америки связана теперь с глобальной безопасностью и кампания против терроризма нуждается во всемирной поддержке, важно, чтобы другие народы за пределами Америки согласились с такими задачами. Произойдет ли это? Во-вторых, содержит ли такая формулировка адекватный диагноз и закладывает ли она надлежащий фундамент для долговременной и успешной стратегии реагирования на тот вызов, который бросают как по отдельности, так и совместно друг с другом терроризм и распространение оружия массового поражения?
Трудность состоит в том, что администрация весьма туманно определила то явление или те силы, с которыми американцев призывают сражаться в ходе «войны с терроризмом». Ясности не прибавилось и после того, как президент низвел (либо возвысил, в зависимости от точки зрения) террористов до «творцов зла», о которых вроде как ничего больше не известно и чьи мотивации, оказывается, просто внушены сатаной. Называть врагом терроризм – значит расписаться в блаженном неведении относительно того, что терроризм – это применяемый индивидуумами, группами и государствами смертоносный метод устрашения. Войны не ведут против методов или тактики действий. Например, никто не стал бы провозглашать в начале Второй мировой войны, что она ведется против «блицкрига».
Терроризм как метод борьбы применяется определенными людьми, как правило, в политических целях, вполне поддающихся определению. Поэтому почти за каждым террористическим актом скрывается политическая проблема. Террористы намеренно прибегают к жестоким и не совместимым с моралью атакам на гражданское население, на символизирующих какие-либо институты отдельных лиц или материальные объекты, рассчитывая на политический эффект[9]. Чем слабее и фанатичнее политические экстремисты, тем они более склонны предпочесть другим методам борьбы самые бесчеловечные формы терроризма. Их безжалостный расчет состоит в провоцировании возмездия со стороны более сильного противника в таком масштабе, что это обеспечит террористам дополнительную поддержку и даже легитимность. Перефразируя Клаузевица, можно сказать, что терроризм есть продолжение политики иными средствами.
Соответственно, для борьбы с терроризмом необходимо противопоставить ему продуманную кампанию, в рамках которой надо не только ликвидировать самих террористов, но также выявить и принять во внимание (в какой-либо адекватной форме) лежащие в основе их действий политические побуждения. Настаивать на понимании – не значит оправдывать террористов или призывать к их умиротворению. Почти все террористические группировки образовались на почве политических конфликтов: конфликты их создают, и они же служат их питательной средой. Так обстояло дело с Ирландской республиканской армией (ИРА) в Северной Ирландии, испанскими басками, палестинцами Западного берега и Газы, российскими чеченцами и всеми прочими подобными движениями[10].
Будучи чем-то новым для Америки, терроризм – вовсе не новое явление в других частях планеты. Начиная с середины XIX века и примерно до Первой мировой войны он был широко распространен в Европе и царской России. Происходили тысячи вооруженных нападений, в том числе убийства высокопоставленных особ и взрывы зданий. В одной только России от рук террористов погибли более 7000 государственных лиц и полицейских чинов, включая царя. Что касается других стран, то самый впечатляющий из совершенных там террористических актов – убийство в Сараево австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда – оказался той самой искрой, из-за которой заполыхал пожар Первой мировой войны.
Британцам в недавнем прошлом довелось несколько десятилетий страдать от терроризма ИРА: потери среди гражданского населения в результате взрывов, организованных активистами ИРА в Британии, исчисляются сотнями людей, среди которых есть даже представители высшей ветви королевской семьи. Убийства официальных лиц высокого ранга происходили за последние годы в нескольких европейских государствах, прежде всего в Испании, Италии, Германии, и этот перечень можно продолжать еще очень долго[11]. Совсем не пассивно ведут себя террористические группировки как левого, так и правого толка в Латинской Америке, где их жертвами стали уже десятки тысяч человек.
Терроризм, выросший на почве этнического, национального или религиозного протеста, особенно живуч и менее всего поддается искоренению путем уничтожения террористов. Истоки терроризма – в социальном недовольстве, которое, даже если подкреплять идеологическими догмами в духе радикального марксизма, в целом имеет тенденцию к спаду, если дело террористов не встречает сочувствия в данном обществе. Социальная изолированность приводит к деморализации части террористов, облегчая поимку остальных. Несколько бо́льшую устойчивость (как свидетельствует опыт Китая и Латинской Америки) имеет терроризм, обладающий специфической опорой в лице отчужденного и географически отделенного социального класса, например крестьянства, особенно когда он поддерживается партизанским движением. Но максимальную сопротивляемость физическому подавлению проявляет терроризм, вдохновляемый историческими мифами об общем этническом происхождении и подогреваемый религиозным рвением.
Сами террористы, вероятно, неисправимы, но с условиями, которые их создали, дело не обязательно обстоит так же. Об этом различии важно помнить. Террористам свойственно жить в собственном мире, заслонившись от реальности патологической уверенностью в своей правоте. Насилие становится для них не просто средством достижения некоторой цели, но raison d’être, смыслом существования. Вот почему без устранения террористов не обойтись. Но чтобы их ряды не пополнялись, необходима взвешенная политическая стратегия, призванная ослабить весь комплекс благоприятствующих терроризму политических и культурных факторов. Корни всего, что питает террористические движения, должны быть политически подрублены.
Очевидно, что неистовость совершенных 11 сентября терактов и особенно выбор Америки в качестве объекта этих вопиющих преступлений объясняются в основном политической историей Ближнего Востока. Вдаваться в ее подробный анализ необязательно, ведь и террористы явно не углубляются в изучение трудов по истории, прежде чем встать на путь насилия. Ненависть, толкающая их в конечном итоге к террору, формируется скорее общим эмоциональным контекстом недовольства и обид, которые они ощущают, наблюдают или знают из рассказов окружающих.
Политический настрой арабского населения Ближнего Востока – это результат столкновения стран региона с французским и британским колониализмом, провала попыток арабского сообщества предотвратить возникновение Израиля, подобного же обращения Израиля с палестинцами, а также установления прямого и косвенного контроля Америки над регионом. Наиболее экстремистские политические и религиозные силы региона рассматривают ее присутствие как оскверняющее священную чистоту исламских святынь святотатство (совершенное вначале в Саудовской Аравии, а теперь в Ираке), как препятствие к благоденствию арабского народа и инструмент пристрастной поддержки Израиля в его конфликте с палестинцами. Хотя политическое рвение экстремистов возбуждается религиозным пылом, примечательно, что некоторые из террористов, причастных к событиям 11 сентября, вели явно нерелигиозный образ жизни. Так что нападение на Всемирный торговый центр во второй раз за пять лет имело очевидный политический подтекст.
От исторических фактов не уйти: главной причиной того, что острие терроризма оказалось направлено на Америку, стала, несомненно, вовлеченность США в ближневосточные дела, точно так же как английское присутствие в Ирландии спровоцировало многочисленные акции ИРА против объектов в Лондоне и самой королевской семьи. Британцы осознавали этот основополагающий факт и старались принимать его во внимание в своих ответных шагах как на силовом, так и на политическом уровне. Америка же, напротив, продемонстрировала удивительное нежелание задуматься над политической подоплекой терроризма и идентифицировать его политический контекст.
Чтобы одержать победу над ближневосточными террористами, требуются усилия сразу по двум главным направлениям: уничтожая террористов, необходимо в то же время налаживать политический процесс, направленный на преодоление тех условий, в которых они возникают. Именно так, а не иначе, ведут себя британцы в Ольстере и испанцы в Стране Басков. Именно так русских призывают действовать в Чечне. Внимание к политической подоплеке возникновения терроризма – это не уступка террористам, а непременная составная часть стратегии ликвидации и изоляции террористического подполья.
Неготовность Америки признать зависимость между событиями 11 сентября и современной политической историей Ближнего Востока, где бушевание политических страстей на почве религиозного фанатизма и неистового национализма сочетается с политической слабостью и нестабильностью, – это опасная форма отрицания действительности. Достаточно вспомнить весну 2002 года, когда Соединенные Штаты проявили готовность одобрять даже самые жесткие меры, предпринимаемые Израилем для подавления палестинского движения, рассматривая их как часть борьбы с терроризмом. Нежелание признать историческую связь между подъемом направленного против Америки терроризма и присутствием Америки на Ближнем Востоке чрезвычайно затрудняет создание формулы эффективного стратегического ответа на террористический вызов.
Первоначальная поддержка, оказанная миром Америке после преступления 11 сентября, была, как уже отмечалось выше, и выражением искреннего сочувствия, и своевременным подтверждением лояльности. Но солидарность, впрочем, не означала согласия с американским толкованием характера угрозы. И по мере того, как оно облекалось в риторические одежды и формулировалось во все более жестких выражениях, достигших кульминации в виде провозглашения «оси зла», в американском понимании терроризма все больше видели оценку, оторванную от политического контекста этого явления.
Неудивительно, что уже через полгода после событий 11 сентября почти единодушная всемирная поддержка Америки сменилась возрастающим скептицизмом в отношении официальных формулировок США по поводу общей угрозы. Америка рискует постепенно остаться в одиночестве во всем, что касается политических аспектов тревожащих ее опасностей. Между тем угроза может приобрести еще более пугающие размеры, поскольку средства высокой поражающей способности становятся все более доступными не только для государств, но и для подпольных организаций.
Соединение терроризма с распространением оружия массового поражения (ОМП) – это действительно устрашающая перспектива. Но и к этой проблеме нельзя подходить с позиций абстрактных рассуждений на тему «зла» или полагаясь лишь на американское могущество. Дело осложняется тем, что поведение самой Америки в сфере распространения ОМП не так уж и безупречно. Соединенные Штаты содействовали усилиям Великобритании в создании ядерного потенциала, негласно помогали в том же Франции, попустительствовали, а возможно, и напрямую помогали ядерным программам Израиля, закрыли глаза на подобные действия Китая, Индии и Пакистана и, наконец, проявили неразборчивую беспечность к собственным ядерным секретам. Когда критики укоряют США в том, что все их нынешние опасения по поводу распространения ОМП запоздали, в этом есть доля правды.
Кроме того, очень многие за рубежом, прежде всего в Западной Европе, ставят под сомнение побудительные мотивы Америки, подозревая, что ее внезапная глубокая озабоченность распространением таких видов оружия лишь отчасти продиктована шоковым эффектом 11 сентября. Одной из причин обеспокоенности Америки потенциальным появлением оружия массового поражения и средств его доставки у Ирана и Ирака, столь ярко контрастирующей с равнодушием к наличию ядерного оружия у Израиля, считают понятную заинтересованность Израиля в разоружении этих государств и недопущении их перевооружения в будущем. Включение Северной Кореи в «ось зла» обычно интерпретируется как намеренный ход в расчете скрыть более узкий, односторонний характер позиции Америки, которую тревожит процесс распространения ОМП именно в ближневосточном регионе.
Стремление некоторых иностранных государств связать с объявленной Америкой войной против терроризма решение своих собственных задач внесло еще больше неразберихи в определение угрозы, создав дополнительный риск превращения этой войны в объект политического «пиратства» со стороны других держав. Знаменательно, что и премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, и Президент России Владимир Путин, и бывший председатель КНР Дзян Цзэминь ухватились за понятие «терроризм», чтобы реализовать собственные замыслы. Всем троим расплывчатое американское определение «глобального терроризма» пришлось как нельзя более кстати, послужив удобным оправданием операций по подавлению, соответственно, палестинцев, чеченцев и уйгуров.
Отправной точкой для поиска эффективного ответа на угрозу террора в сочетании с распространением ядерного оружия должно стать признание наличия связи обоих этих явлений с конкретными региональными проблемами. Никакие разговоры о «глобальном терроризме» не помогут заслонить региональность происхождения террористов, вполне определенную направленность их ненависти или их религиозные корни. Подобным же образом угроза распространения ОМП, особенно в ее взаимосвязи с поощряемым на государственном уровне терроризмом, имеет преимущественно региональное, а не глобальное происхождение.
Из этого следует, что эффективно противодействовать все более опасному стремлению Северной Кореи к обладанию ядерным потенциалом, чреватому цепной реакцией его дальнейшего распространения, можно лишь с учетом сложившегося в Северо-Восточной Азии регионального контекста и принимая во внимание как специфические, так и коллективные интересы Южной Кореи, Китая и Японии. Независимо от формулы «оси зла», успешно решить эту проблему можно только на основе признания и удовлетворения особых интересов ведущих государств региона. Верность этого тезиса подтверждается той настойчивостью, с которой Америка пытается вовлечь Северную Корею в многосторонний региональный диалог по вопросам нераспространения, столь резко контрастирующей с американской политикой в отношении Ирака и Ирана.
Ответы на вызовы терроризма и распространения ОМП не могут быть найдены без Америки, но они, конечно же, не могут исходить исключительно от одной Америки. Война против ближневосточного терроризма приведет к реальному уничтожению террористических организаций лишь тогда, когда они утратят социальную опору и, следовательно, способность пополнять свои ряды и когда наконец иссякнут источники их финансирования. Даже одержав подобную победу, едва ли можно будет ощутить ее плоды немедленно. Поставить же под контроль распространение ОМП удастся, если действия подозреваемых государств либо станут объектом эффективных международных инспекций, либо будут жестко пресекаться внешней силой. В обоих случаях решающую роль будет играть деятельное участие Америки, но добиться результата окажется намного легче, если американские инициативы завоюют искреннюю международную поддержку.
Конечно же, Соединенные Штаты достаточно могущественны, чтобы сокрушить Северную Корею или любое ближневосточное государство, помочь Израилю обеспечить свою безопасность и сохранить контроль над всем Западным берегом и Газой, чтобы поддержать антитеррористические карательные силовые операции против Сирии и удержать египтян или саудитов от антиамериканских либо антиизраильских действий. Что касается военной кампании против Ирана, то ее можно свести к выборочным ударам по иранским объектам, причастным к созданию оружия массового поражения, ограничив тем самым масштабы необходимых военных усилий.
Подобного рода действия могут поставить заслон распространению ядерного оружия хотя бы на ближайший период. Но их способность излечить террористический недуг весьма сомнительна. Несомненно, они вызовут еще более мощную волну негодования в адрес Америки и будут восприняты как насаждение нового порядка в регионе в духе неприкрытого колониализма. Помимо этого, подобные меры, по всей вероятности, подвергнутся резкому международному осуждению, особенно в Европе, не говоря уже о реакции исламского мира. Вследствие этого на карту могут быть поставлены американские позиции в Европе, а «война с терроризмом» превратится в сугубо американское и преимущественно антиисламское предприятие. Нарисованная Сэмюэлем Хантингтоном картина «столкновения цивилизаций» станет самоисполняющимся пророчеством.
И наконец, последнее, но не менее важное соображение: политика одностороннего принуждения вызовет в международном сообществе такие умонастроения, что государства, не желающие подвергнуться шантажу, посчитают своей первоочередной задачей тайное приобретение ОМП. Причем у этих государств появится дополнительная мотивация поддерживать террористические группировки, а те, одержимые жаждой мести, с еще большей вероятностью могут анонимно применить оружие массового поражения против Америки. Принцип выживания сильнейших, всегда присутствовавший в какой-то мере в международной политике (хотя его роль постепенно ослаблялась регулирующими поведение государств международными соглашениями), утвердится в качестве высшего закона глобальных джунглей. В долгосрочном плане все это может обернуться для Америки фатальным разрушением основ ее национальной безопасности.
Вот почему один из призывов, прозвучавших в ходе третьих «Великих дебатов» о безопасности Америки, – отказаться от Атлантического альянса в пользу новой «коалиции партнеров-единомышленников» – глубоко ошибочен. Хотя об этом не говорят открыто, речь идет о попытке некоторой весьма твердо настроенной группы в администрации Буша и части самых консервативных политических кругов предпринять стратегический маневр, направленный на смену базовых геополитических приоритетов Америки. Данная группа, по сути, стремится предложить обоснование, мотивацию и стратегию образования под руководством Америки новой глобальной коалиции взамен той, что была взращена ею после 1945 года, в период «холодной войны».
Коалиция времен «холодной войны», основанная на общих ценностях и неприятии коммунистической диктатуры, создавалась для противостояния советской мощи. Главным воплощением коалиции стал Атлантический союз (формально проявляющийся в структурах НАТО), призванный сдерживать дальнейшую советскую экспансию; затем последовал отдельный «договор безопасности» с Японией. Крушение Советского Союза в 1991 году не только ознаменовало исторический триумф демократического альянса, но и поставило на повестку дня вопрос о его будущей миссии. В результате в течение десяти последующих лет происходило расширение союза параллельно с попытками постепенно распространить его за пределы Европы.
Террористическая атака 11 сентября сыграла на руку тем кругам, по убеждению которых естественными и первоочередными партнерами Америки надо считать государства, находящиеся в состоянии какого-либо конфликта с мусульманами, будь то Россия, Китай, Израиль или Индия. Кое-кто даже утверждает, что Америка должна озаботиться переустройством Ближнего Востока и, применив свою мощь во благо демократии, подчинить своей воле арабские государства, сокрушить исламский радикализм и сделать регион безопасным для Израиля. В американском обществе эти идеи разделяют различные правые, неоконсервативные и религиозно-фундаменталистские течения. А благодаря страху перед терроризмом они пользуются немалой популярностью у населения.
Однако, в отличие от предыдущей коалиции, у предлагаемой стратегической формулы мало шансов на длительную политическую жизнь. Подобное партнерство, основанное не столько на общих ценностях, сколько на совпадении тактических целей, будет носить конъюнктурный характер. В лучшем случае оно сможет привести к краткосрочному соглашению, способному лишь содействовать распаду великого демократического альянса, который Америка успешно крепила уже более 40 лет, но никак не заменить его.
Не исключено, что к риску такой перемены добавится обильно приправленный риторикой пересмотр американской стратегической доктрины. О подобной тенденции свидетельствует речь, с которой президент Буш выступил 1 июня 2002 г. в Уэст-Пойнте. Рассылая ее текст представителям внешнеполитического сообщества по электронной почте, пресс-служба Белого дома сопроводила его следующим комментарием: в выступлении «формулируется новая доктрина внешней политики Америки (упреждающие действия в случае необходимости защитить нашу свободу, защитить наши жизни)… Речь в Уэст-Пойнте дает представление об убеждениях и образе мышления президента и его администрации…».
В этом выступлении президент отверг традиционную стратегию сдерживания как несоответствующую угрозам терроризма и распространения ОМП, получившим приоритетное значение после окончания «холодной войны». Он заявил о своей решимости «перенести сражение на территорию противника, сорвать его планы и противодействовать самым серьезным угрозам еще до их возникновения». Примечательно, что Буш так и не назвал «противника», оставляя полный простор для произвольного выбора мишеней. В новопровозглашенной доктрине «упреждающей интервенции» не уточнялось, ни по каким критериям будет определяться «терроризм», ни при каких условиях распространение ОМП будет расцениваться как зло, заслуживающее упреждающей военной акции со стороны Соединенных Штатов.
По сути, Соединенные Штаты тем самым присвоили себе право устанавливать противника и наносить первый удар, не заботясь о достижении международного консенсуса в отношении согласованного определения угрозы. Прежняя доктрина «взаимного гарантированного уничтожения» (известная под аббревиатурой MAD – mutual assured destruction) сменилась новой концепцией «единоличного гарантированного уничтожения» (solitary assured destruction – SAD). Неудивительно, что переход от MAD к SAD многими был воспринят как стратегический регресс.
Не улучшило положения и отождествление двух разных понятий – «упреждение» и «предотвращение». В разработанном Советом по национальной безопасности документе 2002 года о стратегии национальной безопасности, а именно в главе 5 «Предотвращение угрозы применения нашими противниками оружия массового поражения против нас, наших союзников и наших друзей», оба термина употребляются как взаимозаменяемые понятия. Заместитель министра обороны еще более усилил неопределенность, заявив 2 декабря 2002 г. в Международном институте стратегических исследований (IISS): «Все, кто считает, что мы будем дожидаться точных сведений о неминуемости нападения на нас, не сумели извлечь урок из событий 11 сентября».
При этом разница между упреждением и предотвращением весьма значительна с точки зрения международного порядка и ни в коем случае не должна стираться. Речь идет, например, о разнице между решением Израиля в июне 1967 года упредить нападение арабов, к которому завершавшие передислокацию арабские вооруженные силы были почти готовы, и воздушным ударом Израиля в 1981 году по атомному реактору «Осирак» с целью предотвратить перспективу появления у Ирака ядерного потенциала. Первая акция была реакцией на неминуемую угрозу; вторая имела целью не допустить само возникновение угрозы. Подобным же образом нападение США на Ирак в 2003 году, возможно, диктовалось необходимостью предотвращения будущей «серьезной и требующей быть начеку угрозы» (как выразился президент Буш), но никак не упреждения неминуемой угрозы удара с иракской стороны.
Упреждение может оправдываться высшими государственными интересами перед лицом неминуемой угрозы и, следовательно, почти по определению осуществляется по большей части в одностороннем порядке. Чтобы обосновать (хотя бы задним числом) подобный произвол, нужны исключительно надежные разведывательные данные. Предотвращению же должно предшествовать, по возможности, настойчивое политическое давление (в том числе с привлечением международного сообщества), призванное предупредить нежелательный ход событий, причем применение силы допустимо лишь тогда, когда все другие средства исчерпаны и сдерживание перестало быть эффективной альтернативой. Отказ от разграничения двух этих видов действия, тем более со стороны сверхдержавы, имеющей максимум средств сдерживания, может породить цепную реакцию односторонних «предотвращающих» войн, маскируемых под «упреждающие» акции.
Вследствие этого столь радикальные перемены в доктрине и конфигурации союзов могут нанести весьма значительный урон самой Америке. Они приведут к изменению как ее мировой исторической роли, так и ее образа в мире. Перестав быть маяком свободы для народов планеты, пробуждающихся к политическому бытию, Америка будет восприниматься как лидер нового «Священного союза», равнодушный к поиску баланса между порядком и справедливостью, безопасностью и демократией, государственной мощью и социальным прогрессом. Оттолкнув своим высокомерием старых друзей и променяв их на новых, не способных ни по-настоящему воспринять основополагающие американские ценности, ни стать подлинными партнерами в борьбе с истоками глобального насилия, Америка может попасть в положение гегемона в изоляции. Несмотря на все свое могущество, изолированная Америка станет жертвой всевозможных враждебных ей альянсов с участием не только ее врагов, но и покинутых ею бывших союзников, а также новых, но неверных друзей.
Самая главная опасность, угрожающая как Америке, так и миру в целом, исходит от политического беспорядка, которому все больше сопутствует насилие и который может однажды перерасти в глобальную анархию. Терроризм – одно из самых уродливых его проявлений. Распространение оружия массового поражения – одна из самых грозных перспектив. Но оба явления – не что иное, как симптомы одной и той же главной мировой болезни. Только настойчивое осуществление глобальной стратегии, направленной на устранение глубоких причин раздирающих мир конфликтов, способно восстановить утраченную национальную безопасность Америки. А для этого нужно заручиться повсеместной международной поддержкой, затмевающей своими масштабами даже союз, нанесший поражение тоталитарным режимам XX столетия. Глобальное могущество Америки – необходимая исходная предпосылка такой мировой стратегии, но не в этом ее историческое предназначение.
8
Urwin G. The Army of the Constitution: The Historical Context //…to insure domestic Tranquility, provide for the common defence… / Ed. by Manwaring M. – Carlisle: Strategic Studies Institute, 2000. – P. 45.
9
Иными словами, «терроризм и связанная с ним асимметрия возникают тогда, когда у маргинализированной самопровозглашенной элиты чувство безысходности, порождаемое тем, что воспринимается ею как несправедливость, угнетение и неравенство, переходит в стремление к насилию… Эти конкретные мужчины и женщины готовы убивать и разрушать, а возможно, умереть при этом во имя поставленных перед собой целей» (The Inescapable Global Security Arena. Authored by Dr. Max G. Manwaring. – Carlisle: Strategic Studies Institute, 2002. – P. 7.)
10
Политолог Роберт Пэйп из Чикагского университета, автор исследования о действиях террористов-смертников за период с 1980 по 2001 год, установил, что из 188 рассмотренных им терактов «179, возможно, имеют отношение к масштабным и последовательно реализуемым политическим либо военным кампаниям». Он также отмечает, что «существует лишь слабая связь между действиями террористов-самоубийц и исламским фундаментализмом, как и любыми другими религиозными убеждениями. В реальности главными подстрекателями совершаемых смертниками акций выступают «тамильские тигры» в Шри-Ланке – организации марксистско-ленинского толка, члены которой происходят из индуистских семей, но категорически отрицают любую религию (на их долю приходится 75 из 188 исследованных акций)». (См. Pape R. Dying to Kill Us // The New York Times. – 2003. – Sept. 22.)
11
Достаточно примера одной только Италии: Франко Феракути насчитал не менее 14 569 террористических актов, совершенных в Италии в период между 1969 и 1986 годами, в результате которых погибли 415 человек. Максимальное число террористических инцидентов – 2513 – произошло в 1979 году. (Ferracuti F. Ideology and Repentance: Terrorism in Italy // Origins of Terrorism / Ed. by Reich W. – Washington: Woodrow Wilson Center Press, 1998. – P. 59.)