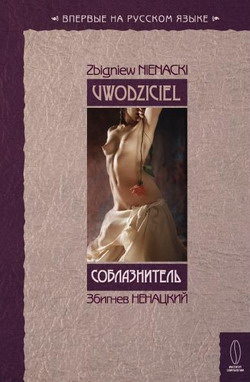Читать книгу Соблазнитель - Збигнев Ненацкий - Страница 3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВСТУПЛЕНИЕ К АВТОТЕРАПИИ
ОглавлениеМой дом мне иногда кажется сотканным из красок и света – больше всего коричневого и разных оттенков пурпура. Поток золотистого сияния спускается с красной черепицы на мягкую, пушистую зелень луга, а на кирпичных стенах кое-где поблескивают маленькие желтые пятнышки, которые прорвались сквозь густую листву старой груши. Такое впечатление появляется у меня, когда светит солнце, а озеро перед домом старается отразить голубое небо, но делает это безуспешно и преимущественно бывает темно-зеленым. Конечно, все выглядит иначе в пасмурный день или осенью, ранней весной либо зимой, но для настоящей истории это не имеет особого значения. Ибо ни время года, ни мои собственные впечатления не играют здесь никакой роли.
Мой дом стоит чуть в стороне от других домов в деревне. Совсем рядом начинается огромный лес, который протянулся на четырнадцать километров, за ним находится ближайшая железнодорожная станция. Дом построен на склоне холма, у озера, раскинувшегося на тридцать километров. От дома озеро отделено довольно большой полосой болот, обычно рыжих и мглистых, лишь летом зеленоватых и наполненных гомоном птичьих голосов. Мои владения с двух сторон отгораживает высокий забор из елового штакетника, с третьей – болота и озеро, а с четвертой – канал, ведущий к лесным озерцам. На берегу канала я построил ангар для лодки и яхты, а кроме того, небольшую пристань. Вот… А в конюшне, в стойлах, где когда-то пофыркивали лошади, тихо дремлют две мои машины: вездеход и легковой автомобиль «Шкода», которым обычно пользуется моя жена.
О яхте и двух машинах я вспоминаю в самом начале, так же как намеренно называю свой участок «владениями», чтобы наши критики могли наточить свои перья. Я заметил, что они чувствительны к такого рода «обрамлению» повествования и тут же начинают подозревать автора в том, что он пишет роман для легкого чтения или историю из «высших сфер». Современный роман должен развертываться не на яхте и не на машине, а у пивного ларька, в кабаке, в утомительном хождении со службы к приятелю и обратно домой, где героя ждет ненавидящая его жена и выводок распущенных детей. Яхта, машина, вилла у озера могут быть использованы лишь в сатирическом романе из жизни нуворишей и частного сектора, а ружье на плече имеет право носить только директор какого-нибудь большого завода, которого к тому же скоро должны уволить за злоупотребления.
В яхт-клубе «Якорь», членом которого я являюсь, нет ни одного нувориша – туда входят люди, просто обожающие парусный спорт. Яхты они построили своими руками либо отремонтировали старые посудины. Каждый год многие из них, так же как и я, все свободное время проводят в ангаре: чистят, ремонтируют, подкрашивают свои яхты. Летом на моем озере полно катеров и яхт, но никогда – я сам этому удивляюсь – не встречал я ни на одном из них владельца частного предприятия, нувориша, или кого-то в этом роде. Не видел я там и ни одного литературного критика, а что еще более удивительно – писателя.
В кружке автомобильного клуба, в который я вхожу, также одни инженеры, несколько мастеров, восемь рабочих, пять представителей так называемых свободных профессий и чиновников не очень высокого ранга. А в охотничьем кружке «Вальдшнеп», членом которого я не являюсь, но представители которого охотятся в лесу недалеко от моего дома, – директор МТС, бригадир, четыре слесаря, трое лесничих, два врача, четверо служащих из волостного правления, агроном и несколько милиционеров. Чтобы быть точным, я хочу добавить, что в радиусе сорока километров от моего дома живут лишь два представителя частного бизнеса: пан Богумил Простек, мелкий строительный предприниматель, и пан Станислав Карницкий, владелец небольшой мастерской по ремонту автомобилей. Но у них нет ни яхты, ни виллы у озера. Пан Простек имеет микроавтобус «Жук», которым он подвозит строительные материалы, а Карницкий ездит только на мотоцикле. Я не знаю, что они делают с деньгами. Как-то раз я спросил Простека, почему он не купит себе яхту. Простек посмотрел на меня удивленно. «Что я – ненормальный? Мне вполне хватает и того, что я могу полежать на травке у воды». Поэтому я не понимаю почему яхта, машина, дом у озера должны быть символом богатства, а не приверженности к какому-нибудь стилю или образу жизни? Что касается меня, то десять лет назад я продал четырехкомнатную квартиру в большом городе и на эти деньги купил дом в деревне, после чего у меня еще осталась некоторая сумма на яхту. В доме нет водопровода и канализации. Моя жена, которая работает школьным методистом русского языка и контролирует двенадцать волостей в нашем воеводстве, каждый день ездит по своим служебным делам, и для этого ей нужен автомобиль. Иногда, когда работы слишком много, она не возвращается домой, а ночует у какой-нибудь учительницы. Конечно, приходится мириться с этими неудобствами, но мне их компенсируют близость воды и яхта, а зимой – прекрасный лес, к тому же жена понимает, что здесь я чувствую себя более счастливым, чем в городе. Поэтому мне не совсем ясно, почему литературный критик, который живет в Варшаве в четырех– или пятикомнатной квартире с ванной и центральным отоплением – а цена такой квартиры в два раза превышает стоимость всех моих владений, яхты и автомобилей, – считает, что не он, а я являюсь представителем какого-то современного high life[1].
Я не люблю литературных критиков, что правда, то правда. Но вы меня поймете, когда я скажу, что я профессиональный писатель.
Жизнь моя очень проста. Летом я встаю очень рано и после небольшой прогулки сажусь на несколько часов за письменный стол в кабинете с окном, выходящим на озеро. После обеда я выплываю на яхте или еду за покупками в город на своем старом, купленном у военных, «газике». Зимой я с утра бегу в дровяной сарай, колю дрова, разжигаю печи, потом выношу ведро с помоями и приношу чистую воду из колодца. За работу я сажусь в такие дни позже, но зато дольше гуляю по лесу, больше времени занимает и поездка в город через заносы по заснеженной дороге. Зимой я выезжаю реже, а если необходимо, свой старенький «газик» отдаю жене, поскольку у него передний и задний привод, что позволяет ему преодолевать даже высокие сугробы. Так что мне особо не стоит завидовать, хотя у меня есть дом у озера, две машины и яхта. Но я люблю эту свою жизнь, правда, иногда задумываюсь над тем, не влияет ли на мою психику близость леса и не прав ли мой любимый писатель Эрнст Вихерт[2], когда говорит, что лес отупляет и дурманит, он тот великий волшебник, который расставляет сети и холодными пальцами вынимает из их ячеек человеческие сердца.
И все же я люблю лес, воду, мне нравится беседовать с людьми. Я рад визитам друзей, обожаю свою работу, свою жену, своего сына, дочку. Можно сказать, что иногда я счастлив, но бывают минуты – особенно с утра, когда я вижу почтальона, бредущего через сугробы или подъезжающего к дому с беззаботным бренчанием велосипедного звонка, – мне хочется спрятаться в сарай или куда-нибудь убежать. Меня охватывает какое-то странное чувство, главным образом страх. Я знаю, что это состояние мне следует как-то описать и передать другим, ведь искреннее выражение чувств любого человека иногда может стать свидетельством эпох, но я не могу его выразить просто в форме сухого рассказа, ибо таким образом мне трудно будет правильно воспроизвести направление моих мыслей и чувств.
Некий литературный критик заявил, что он не любит книг о писателях. Я тоже не особый поклонник таких книг. Я мог бы героя этой истории сделать врачом, учителем польского языка или влюбленным в литературу агрономом, но с некоторых пор я прежде всего начал ценить компетентность, если не сказать – профессионализм. О медицине я больше всего люблю говорить с врачом, о лесе – с лесничим, о шитье и починке обуви – с сапожником, а о литературе – с писателем. А поскольку я решил написать роман о писательской ответственности – дело, точно так же достойное внимания, как всякое другое, – то героем сделал писателя, которому дал свою жизнь, свои черты лица, ввел в свой дом и заставил его сесть за мою пишущую машинку.
Итак, в моей книге речь будет идти о всякого рода проблемах сегодняшнего дня, а возможно даже о больших и маленьких драмах, а также о яхтах, автомобилях, лошадях для верховой езды, Веймарах, Франкфуртах и Парижах; здесь будет представлен весь тот «галантный двор», который так ненавидят критики. И как, на мой взгляд, метко заметил один из них – «не приведи Господь, как часто Европа ужасно напоминает обычную польскую провинцию».
Я уже десять лет живу в деревне, но о деревенской жизни не написал ни слова, что страшно удивляет моего друга Петра, телевизионного режиссера. Уже много лет Петр надеется, что я напишу для него телевизионный сценарий или пьесу. Он навещает меня довольно часто, потому что в десяти километрах от моего дома находится Дом творчества польского телевидения, рядом с которым расположена посадочная площадка для вертолетов; на них сюда прилетают разные знаменитые люди из Варшавы. В распоряжении отдыхающих – дом лесника, переделанный в роскошный пансионат, четыре верховых лошади, пристань для яхт. Петр, как правило, приезжает ко мне на коне, которого выпускает пастись на мой покрытый густой травой луг, а сам беседует со мной или с женой, обедает или ужинает, а потом возвращается в Дом творчества. Когда-то мне намекнули, что Петр, возможно, любовник моей жены, но это меня мало волнует. Независимо от того, правда ли это или нет, воспитанный человек не должен вникать в подобные мелочи. Так же считает моя жена и, возможно, поэтому наша совместная жизнь продолжается больше двадцати лет, а Петр – которого вы наверняка назовете нонконформистом – женился уже в пятый раз. Вы думаете, что я ханжа? Может быть. Между ложью и правдой много места на разного рода полуправды, четверть-правды и микроправды. Именно они и являются нашим хлебом насущным.
– Я мог бы написать о своей деревне, – терпеливо объясняю Петру, – но мне кажется, что вряд ли это кого-нибудь заинтересует. Я читал «Конопельку»[3], знаю прозу Кавальца[4], слежу по телевидению за конфликтами современного села и поэтому отдаю себе отчет в том, что моя деревня не может служить местом действия сценария или пьесы.
Во-первых, как говорится, это захолустье, четырнадцать километров от железнодорожной станции, тридцать пять километров от ближайшего городка, который когда-то был районным центром. Два раза в день сюда приходит автобус, а зимой его вообще отменяют, потому что у нас дороги пятой очередности по очистке снега. Но на почте у нас есть телефонный коммутатор и девятнадцать номеров. Если я хочу пригласить на ужин агронома или лесничего, мне не надо идти к ним, я просто звоню. Если хочу купить свежей рыбы на ужин, звоню рыбакам и заказываю леща или линя. Кое-где в сараях стоят автомобили; почти у каждого есть трактор. Что еще добавить? Я видел по телевидению фильм о том, как в одном городке травили девушку с незаконнорожденным ребенком: камнями выбили ей стекла в доме. Здесь тоже встречаются женщины, у которых внебрачные дети, но никто им стекла не бьет, не осыпает ругательствами и не проклинает с амвона. Есть тут одна, у которой восемь незаконнорожденных отпрысков, каждый от другого отца и к тому же неизвестного происхождения. Представь себе, что у этой женщины, из-за того, что у нее приличных размеров дом, проходят уроки Закона Божьего. Я спросил об этом нашего приходского ксендза. «Все мы грешники», – ответил мне ксендз. И он наверняка прав. Конечно, встречаются и у нас женщины, которые ворчат в магазине: «Я себе отказываю в третьем ребенке, потому что мне не хватает на фрукты и одежду, а такая заводит себе восьмерых. Потом ее детей забирают в приют и содержат за счет наших налогов». Другие женщины говорят с завистью: «Этой-то хорошо. Балуется с разными парнями, сколько душе угодно, а волость ей еще подкидывает пособие. Баба и не собирается работать, как мы. Ходит словно королева, а мы тут вкалываем». Хочешь, чтобы я сделал об этом киносценарий или написал пьесу? Или описал своего друга лесничего, у которого никогда нет дров для кухонной плиты. Когда бы я к ним не приехал, его жена все время говорит об этом, а он обещает: «Мне ведь положена натуроплата дровами в лесу, завтра возьму трактор и привезу». Но не привозит, поскольку вечно занят чтением книг. В последнее время изучает Хайдеггера и Кьеркегора. В конце концов его жена разрубила доски, из которых он собирался сделать книжные полки, так что ему все же пришлось привезти прицеп дров. Мокрых, наполовину сгнивших. Что тебе еще рассказать, мой дорогой друг? Однажды у нас в деревне повесился двадцатилетний парень, сын богатых и набожных крестьян. Похоже, он влюбился без взаимности, и эта несчастная любовь привела его на чердак и надела петлю на шею. Представь себе горе и позор родителей, сына которых должны были похоронить в левом углу кладбища. Заплаканные, они пришли ко мне, чтобы я им как-то помог. Я отправился с визитом к ксендзу, захватив с собой трактат «О душевных болезнях» великого Эскироля, в котором этот замечательный врач утверждает, что каждое самоубийство является результатом психических нарушений, имеющих либо постоянный, либо временный характер. Ксендз старательно переписал текст Эскироля и поехал к епископу, а потом несчастного мальчика похоронили в месте, подобающем для христианина. Сейчас на могиле парнишки стоит прекрасный памятник, могу тебе показать, если хочешь… Нет, мой дорогой, вы любите демонстрировать собственные представления о деревне, драматические истории о бедных девушках с незаконнорожденными детьми, о страшных, в стиле девятнадцатого века, конфликтах во враждующих семьях польских Капулетти. А ведь ни одна девушка в моей деревне не выйдет замуж за того, кого ей выберут родители, она возьмет себе в мужья парня, которого полюбила или от которого забеременела. Пусть только тут какой-нибудь отец посмеет заикнуться сыну, что ему не нравится девушка, на которой тот собирается жениться, запретит ему хозяйничать в доме или не пообещает в недалеком будущем купить автомобиль. Он тут же останется один на этой земле. Ваши фильмы и передачи деревня воспринимает как сказания давно минувших дней. Для вас польское село является либо сосредоточием патриархальных, известных и примитивных добродетелей, либо клубком животных страстей. Между тем, по моим наблюдениям, здесь нет белизны, мрака и пурпура, а всего лишь серость и банальность. Конечно, не скрою, что я являюсь свидетелем и больших драм, которым Шекспир мог бы придать поистине огромные масштабы, но клянусь, ни одна из них тебя не заинтересует, поскольку она не влезает в вашу схему, пришедшую из девятнадцатого века. Ведь проигнорировал же ты историю о парнишке, которого хотели похоронить как собаку в левом углу кладбища? Мать этого мальчика могла бы стать новой Антигоной, а ксендз Креоном. А не приходит ли тебе в голову мысль, что эта беззаботная женщина, которая уже отдала восьмерых детей в приют, а сама ходит беременной в девятый раз, возможно, является современной Медеей? Медеей «страшно провинциальной»…
И Петр становится грустным, потому что я опять не хочу писать сценарий. Он садится на лошадь и едет в Дом творчества, а потом вертолетом возвращается в Варшаву.
А я – поскольку моя жена отсутствует, потому что ей снова пришлось где-то заночевать, – иду с визитом к лесничему, чтобы поговорить об экзистенциализме, или в дом агронома, чтобы пофлиртовать с его женой, это довольно красивая молодая женщина, по профессии учительница. Если ее муж дома, мы говорим о том о сем, а Зося заваривает специально приготовленный для меня чай пяти сортов, потому что именно такой я люблю, и смотрит на меня с нежностью. То же самое происходит тогда, когда ее мужа нет дома, только я в таких случаях говорю что-нибудь вроде: «А вы знаете, пани Зося, что лесничий вот-вот собирается привезти на пастбище в 138-м участке свежее и ароматное сено для оленей и серн?». И тогда пани Зося опускает глаза, на ее щеках появляется румянец. Она долго молчит, потом наконец отвечает: «Ах, не надо так спешить, хорошо?». Я с пониманием киваю головой: «Я даже сказал бы, что спешка нам вовсе ни к чему». Ей все еще кажется, что она снова сможет полюбить своего мужа, а я совершенно в этом не уверен. Раньше или позже мы встретимся на пастбище, хотя ее мужу двадцать пять, а мне сорок пять лет. Ибо нельзя второй раз полюбить мужчину, которого в семнадцать лет одарили большой и романтической любовью и который после свадьбы оказался ничтожным эгоистом. И так же сильно, как этого человека любили, его стали ненавидеть. Агроном Адам считает, что женщину завоевывают лишь один раз в жизни, а потом просто берут ее в жены и живут с ней. Агроном Адам оплодотворил свою семнадцатилетнюю жену в первую же брачную ночь, после чего сказал: «Раз ты хотела иметь ребенка, так ты им и занимайся, а я этого не люблю». Агроном Адам еще трижды оплодотворил свою жену, но поскольку трудно одновременно воспитывать детей, преподавать в школе и продолжать заочно учиться в институте, его жене пришлось уже трижды делать аборты. Когда у Зоси наступает период овуляции, она ложится спать в другой комнате, но и это не помогает, потому что муж берет ее силой. Зося дрожит перед каждым половым актом и говорит ему об этом, но он отвечает: «Так живут все женщины, впрочем, если хочешь, можешь скоблиться, ведь это не так уж и больно». В то же время агроном боится сесть в кресло у зубного врача, хотя у самого почти все зубы гнилые. Когда я ему говорю, что с такими зубами он вряд ли может понравиться какой-нибудь женщине, агроном отвечает, что ему это безразлично, поскольку он не собирается изменять своей жене. Когда Зося высказывает ему свои претензии, он удивляется: «Что тебе надо? Я не пью, не курю, не бегаю за девками. Ты где еще найдешь такого мужа?». И действительно, очень мало мужчин, которые не пьют, не курят, не бегают за юбками. Он даже при мне часто шепчет ей: «Ах, как я тебя сильно люблю. Ты мое единственное счастье». Но в такие моменты она отстраняется от него и стискивает зубы. Я заметил, что стиснутые зубы и злое выражение лица появляется у нее все чаще и чаще. Вот почему я знаю, что момент, когда мы встретимся на пахнущем сеном пастбище на 138-м участке, уже очень близок. Но, естественно, нам не следует торопиться.
Теперь стоит еще вспомнить о Розалии, которой двадцать восемь лет, она разведена, живет с пятилетней дочкой и работает зоотехником километрах в пяти от моего дома на конном заводе, где выращивают жеребцов. О Розалии мужчины говорят: «Это шлюха», а женщины рассказывают, что она спала с директором конного завода, со всеми инженерами, зоотехниками, конюхами и ветеринарами. По их утверждению, каждый, на ком надеты штаны, является потенциальной жертвой Розалии. Она красива, высока, худа, со смуглым лицом, черными глазами и длинными вьющимися волосами цыганки.
У Розалии есть любимый жеребец по имени Марс, на котором она почти каждый день ездит по полевым и лесным дорогам в высоких сапогах и плотно облегающих ее бедра брюках – всегда с непокрытой головой. Возможно, она знает, в котором часу и по какой дороге я гуляю по лесу, потому что иногда, но если честно, не так уж часто, я слышу на лесной тропинке топот копыт ее коня. «Добрый день пану», – говорит она мне с высоты седла, придерживая поводья. «Добрый день пани», – отвечаю я вежливо. Обычно мы довольно долго стоим на тропинке, она на лошади, я рядом с суковатой палкой в руке. Потом Розалия что-то говорит о погоде, некоторое время мы разговариваем о пустяках, и она уезжает, одаряя меня милой улыбкой. В последний раз Розалия спросила, почему я не езжу на лошади. «Вы прекрасно выглядели бы в седле, как герой фильмов о Диком Западе». – «Все это прекрасно, пани Розалия. Но вы, вероятно, не знаете, что многие из этих великолепных кавалеристов и сыновей Дикого Запада, шерифов и метких стрелков, как правило, в действительности имели большие проблемы с женщинами. В седле у мужчин легко травмируются яички. Я вам тоже советую ездить боком, по примеру древних амазонок».
Должен вам признаться, что по натуре я человек довольно тривиальный, люблю немного посквернословить, с удовольствием разглядываю цветные фотографии раздетых женщин, пошлепываю жену по заду и, если случится какая-нибудь неприятность, ругаюсь не хуже нашего кузнеца.
Моя мать всю свою жизнь восторгалась моим отцом. Разница в возрасте у них была двадцать лет. Я уже вырос, он постарел, а мать оставалась молодой и красивой, но отец всегда вызывал у нее восхищение, что меня даже немного раздражало. Когда-то вроде бы набожная, она, вскоре после свадьбы, перестала ходить в костел, ибо поняла, что человек не должен поклоняться двум богам, ведь один из них садился с ней за стол, гладил ее по голове, ложился с ней в постель.
Я ревновал мать из-за ее отношения к отцу, тем более, что ко мне она относилась совершенно иначе. Мамаша часто тыкала меня кулаком в спину, и не было насмешки, которой она меня бы не награждала. К примеру, мать без конца повторяла: «Генрик, ты брюзжишь, как старый холостяк». Однажды это услышал отец и сказал ей: «Во-первых, Цеся, не все старые девы и старые холостяки брюзги и странные люди. Во-вторых, они, вероятно, не женились или не вышли замуж, потому что у них были трудности с налаживанием эротических и просто человеческих контактов, быть может, они вели себя иначе, чем все остальные. Короче говоря, они именно потому-то и превратились в старых холостяков, что были странными людьми, а странные они вовсе не потому, что стали старыми холостяками». Мать казалась удрученной, поскольку считала, что нет ничего более прекрасного, чем супружество, которое является фактором спасения для женщины и мужчины. «Ты не права, Цеся, – сказал ей мой отец, – супружество не совершает чудес. Оно не меняет человека ни в лучшую, ни в худшую сторону. Моя врачебная практика показывает, что трудности, связанные с партнерством, как правило, усиливают в человеке имеющиеся у него основные черты характера. Если мужчина и раньше был экономным и заботливым, то теперь в браке у него наконец есть о ком беспокоиться и за кем ухаживать. Если он любил алкоголь, то полюбит его еще больше. Если был мотом, то теперь становится еще большим транжиром. Если был властолюбивым, то становится настоящим тираном, потому что теперь у него наконец появилась настоящая возможность кем-то командовать».
Думаю, что моя мать не была так глупа, как считали знакомые отца. Просто отец лишил ее мировоззрения. Это, однако, не мешало ей без конца отчитывать меня, поучать, давать затрещины, даже тогда, когда я стал студентом и приводил домой девушек.
Как-то раз вечером я доставил такое наслаждение Иольке, что любовные стоны, вероятно, долетели до кухни, где моя мать что-то готовила. И с этого дня она уже никогда не ругала меня, не пошлепывала и не делала саркастических замечаний. Похоже, мать признала, что теперь в ее доме двое мужчин.
Моей матери уже нет в живых – она умерла через три года после смерти отца. От рака, но все говорили, что от тоски по мужу. Я не спорю с этим мнением, ибо многим людям хочется верить, что можно умереть от тоски по любимому человеку. Впрочем, может быть, так оно и есть, и я тоже с течением времени начинаю понемногу верить в это. Приятно думать, что любовь может быть такой большой и прекрасной.
Я получил хорошее, хотя и довольно суровое воспитание.
Каждое воскресенье проходил торжественный семейный обед. На стол блюда подавала мать и лучшие куски подкладывала на тарелку отца, потом по очереди, в зависимости от возраста, получали еду и мы, три сына. Я был средним, поэтому мне доставались средние куски и таким же «середнячком», похоже, на всю жизнь и остался. За разговоры во время обеда без разрешения отца в худшем случае можно было схлопотать от отца пощечину, а в лучшем – приходилось с тарелкой идти на кухню. Поскольку я часто пытался высказаться по различным вопросам, то нередко получал по щекам или ел на кухне. К старости я немного поумнел и все реже высказываюсь в тех случаях, когда меня не спрашивают.
Своих детей я воспитываю подобным образом, однако приходится учитывать тот факт, что изменилось время и молодежи позволено высказываться даже тогда, когда их никто не спрашивает. Я также разрешаю сыну и дочери иметь собственное мнение по многим вопросам. Но одного я не переношу: хамства. Когда мой сын в пылу дискуссии со мной – а это уже было перед его экзаменами на аттестат зрелости – сказал: «Да что ты там, отец, в этих делах понимаешь», – я ударил его по лицу. Все это произошло во время прогулки по лесу. Он пришел домой с красной припухшей щекой. «Что случилось?» – спросила его мать. «Да ничего особенного, просто наткнулся на ветку», – буркнул он и убежал в свою комнату. Впрочем, это был последний случай, когда я его ударил. Что касается дочери, я никогда и пальцем ее не тронул и, похоже, моя жена права, считая, что я ее избаловал и отношусь к ней совсем иначе, чем к сыну. Но в дочери я всегда видел будущую женщину, а я считаю, что к женщинам следует относиться иначе, чем к мужчинам.
Современные принципы педагогики раздражают меня, а рекомендации доктора Спока просто смешат. Может, потому, что мне хорошо знакомы работы Фрейда, Адлера и Юнга. Партнерство, говорите?… Признаюсь, я даже не понимаю, какое значение вкладывается в этот термин. Если бы меня мой сын похлопал по плечу и спросил: «Как дела, старик?», то тут же оказался бы под столом. Какой он для меня партнер, раз не он меня, а я его содержу? Я не могу взять себе в партнеры мальчишку, который учится в старшем классе средней школы, или даже как сейчас, на четвертом курсе медицинского института. Пусть он сперва получит образование и узнает кое-что об окружающем мире, пусть обзаведется семейством, которое будет жить в дружбе и согласии, тогда мы попартнерствуем. А пока что я могу послушать, какие проблемы его заботят, поделиться своими, но все равно поступлю согласно своим убеждениям.
При всем при этом я всегда придерживался одного принципа, чего не могу сказать о моей жене: не вымещал своего плохого настроения на детях, не наказывал больше или меньше в зависимости от того, был ли я весел или грустен, и старался быть справедливым и снисходительным. Не избегал я также и рискованных тем, отвечал на самые интимные вопросы как сына, так и дочери. Друзья часто упрекают меня в том, что я деспот, тираню окружающих, воспитываю детей как обезьянок, и вообще жизнь моей семьи – это пытка и унижение. Так, к примеру, на моем столе в кабинете всегда стоит маленький колокольчик. Всякий раз, когда я работаю, а во время работы я люблю пить крепкий чай, я просто тихонечко звоню. По сигналу колокольчика новый стакан мне приносит жена, сын или дочь, и все они считают это знаком особого доверия. Как сейчас помню своего семилетнего сына, когда он с большим благоговением приносил стакан чая и бесшумно ставил его на стол. Если я был на него сердит, мать предупреждала мальчика: «Не ходи, отец отошлет чай обратно». Он просил: «Нет, мама, я тебя прошу, позволь мне это сделать. Папа так занят, что даже не заметит, кто ему принес чай». «Ты его не знаешь, он все видит», – вздыхала мать и разрешала ему нести чай. Как она и предсказывала, я отсылал его на кухню. Потом начиналось тихое посредничество матери, что мальчик это слишком принимает к сердцу, и тогда я делал вид, что не замечаю, кто мне ставит на стол чай. Кажется, после этого на кухне была большая радость: «Отец взял чай, он на меня уже не сердится». Я всегда считал, что ребенок должен заслужить любовь отца, ибо таким образом он может научиться добиваться любви и уважения других людей.
– Что самое интересное, когда мой сын готовился к экзаменам на медицинский факультет и все дни и ночи корпел над книгами, он как-то раз «одолжил» из моего кабинета колокольчик и осмелился позвонить. Жена и дочь влетели в его комнату: «Ты что, сопляк, сравниваешь себя с отцом? Пусть тебе когда-нибудь жена принесет чай, если захочет, или сын с дочкой, если они у тебя будут». Но у меня было другое мнение. Я заварил сыну чай, потом сам принес ему стакан. «Требую от вас всех одного, – заявил я, – уважения к своей и к чужой работе. Работа не бывает более или менее важной, если человек вкладывает в нее все свое сердце». И в моем доме было принято, что, когда я писал, никто не имел право включить радио или телевизор. Но когда занимались мой сын или дочь, или когда жена готовила какой-нибудь доклад, я тоже выключал радио или телевизор. В конце концов телевизор можно посмотреть и у знакомых. Не знаю, вероятно, это и есть партнерство родителей и детей?
Однажды я пошел на так называемый «выселок», где живут рабочие-лесозаготовители. Некоторые жили в страшной нищете из-за пьянства мужчин и лодырничанья женщин. Я попросил, чтобы тринадцатилетний мальчик за деньги вымыл мне машину. Мне ответили: «Ну что вы, господин, он еще успеет в жизни наработаться». Моему сыну приходилось мыть не только мою, но и чужие машины. Ежегодно по крайней мере две недели каникул он посвящает тому, чтобы нарубить дров на всю зиму. Через окно своего кабинета я вижу, как он, худой, вытирая пот со лба, раскалывает топором на пеньке тяжелые колоды и потом, прихрамывая, относит дрова к сараю. В такие моменты я не могу писать, кусаю губы, и слезы не дают мне прочесть напечатанные на бумаге буквы. Дело в том, что у моего сына только одна стопа и он носит протез. Это случилось очень давно. Простите за то, что я не буду об этом распространяться, не буду описывать время, когда он ходил на костылях и смотрел, как другие дети играют в волейбол, бьют по мячу, бегают, танцуют, ездят на велосипедах. Пусть останется моей тайной, сколько раз, там в лесу, когда меня никто не видит, я вдруг приседаю, словно кто-то меня пнул ногой в живот, заслоняю лицо и, съежившись, долго не двигаюсь с места. Но потом я возвращаюсь домой и продолжаю относиться к сыну строго и требовательно, словно он такой же как все. Ругаюсь, если он не вымоет машину, не очистит яхту, не принесет воды из колодца или плохо сложит дрова. Никогда ни с одним человеком, ни с женой, ни с дочерью, ни с кем-то из посторонних я не говорю о его ноге, словно это не имеет для меня значения. Но и он, и я, и моя жена, и дочь знаем, что это неправда.
Когда моему сыну было шестнадцать лет, ему очень нравилась дочка директора конного завода, хорошенькая блондинка с голубыми глазами. Однажды вечером, когда мы в сумерках стояли с сыном на крыльце, по дороге мимо моего дома проходила эта девушка со своей знакомой, вероятно, приезжей. Мы слышали, как дочь директора сказала: «А здесь живет писатель. У него есть сын. Но знаешь, он колченогий».
Я сделал вид, что не слышу. Так же поступил и мой сын. Он крикнул девушкам: «Привет, куда идете?». И, прихрамывая, пошел на прогулку в сторону леса. А я вернулся в свой кабинет, зажег свет, потом долго сидел, склонившись над своей пишущей машинкой. Разные мысли и слова приходили мне в голову, но в конце концов я просто написал:
«Сынок! Человек оказался существом, хуже всего подготовленным к жизни, а ведь он правит миром. У адмирала Нельсона был только один глаз, на войне потерял глаз и Кутузов. Бетховен был глухим. Демосфен заикался. Ты знаешь, как я боялся воды, а ведь я, как ты утверждаешь, стал хорошим яхтсменом. Ты говорил, что в будущем хочешь стать врачом. Мало быть только врачом. Ты должен стать великим врачом. И тогда все забудут о твоей ноге, самые красивые женщины будут добиваться твоего расположения. Возможно, величие и сила человека кроются в его слабости.
Твой отец».
Я вынул напечатанный лист бумаги из машинки, отнес в комнату сына и положил ему на кровать.
Думаю, что он нашел эту записку и прочитал ее. Но мы об этом никогда не говорили.
Теперь я расскажу о моей жене, Барбаре, которая, несмотря на свои сорок лет, еще очень красивая женщина, среднего роста, с пушистыми рыжевато-блондинистыми волосами, карими глазами, светлой кожей. Шея у нее гладкая, как у молодой девушки, округлые щеки, неглубокие морщинки в углах глаз, да и то, вероятно, оттого, что она часто смеется. Я выгляжу с ней рядом как мрачный, худой, сгорбленный астеник с иронической улыбкой на лице. Никто не верит, что это я научил ее быть веселой, а ведь когда-то Барбара была совершенно другой. Веселье у нее проявляется прежде всего в глазах и в женственных движениях, а это приводит к тому, что когда я на нее гляжу или она смотрит на меня, даже самые большие мои проблемы становятся не такими важными и их легче перенести.
Когда я с ней познакомился двадцать лет назад, она была необыкновенно красивой женщиной, официанткой в кафе, куда я приходил еще будучи начинающим писателем, чтобы встречаться с такими же молодыми литераторами. Барбара десять лет прожила в Советском Союзе, куда ее родители уехали, чтобы спастись от гитлеровцев, и бегло говорила по-русски. Я уговорил ее поступить на русскую филологию. Отдельную главу и, вероятнее всего, как-нибудь в другой раз, я посвящу тем проблемам, которые приходится пережить молодому писателю, когда его жена учится в вузе, а в доме двое детей.
О женщинах я знаю много, потому что Барбара не была моей первой любовью, случались у меня флирты и во время нашего супружества. Мне кажется, что некоторые женщины похожи на инструмент с одной струной. Как только коснешься этой струны, она издает только один, всегда одинаковый звук и тон; даже сам выдающийся скрипач Кулька не сыграл бы на этой струне концерт Паганини. А бывают женщины с сотнями струн, как фортепьяно или клавесин. Человек, лишенный слуха и умения играть, потренькает одним пальцем какую-нибудь мелодию, но если появится виртуоз, то ты услышишь музыку всего мира. Слушаешь и плачешь. Слушаешь и смеешься. Слушаешь, и у тебя появляется чувство, что ты беседуешь с Богом. Из моей жены я писательским скальпелем выкроил несколько женских образов для своих книг и театральных пьес: святую Жанну д’Арк, прелестную идиотку, придворную даму, кокетку, Марию-Антуанетту, римскую матрону и уличную шлюху. И думаю, присмотрись я к ней поближе, то обнаружу еще кого-нибудь.
Ругаемся мы редко, в основном из-за детей, их воспитания. Иногда мне кажется, что она не понимает меня достаточно глубоко и не пытается войти в мир моих писательских сомнений и страхов. Время от времени она просто смешит или злит меня, особенно если ревнует или упрямо и вопреки очевидному утверждает, что я необыкновенно красив и все женщины, какие встречаются на моем пути, старые и молодые, хотят лечь со мной в постель. Ее ревность иногда кажется мне какой-то странной, даже неестественной. Когда я возвращаюсь из заграничной поездки или просто подольше плаваю по озеру или гуляю в лесу, потом, уже лежа в кровати, она начинает выпытывать: «Скажи мне честно, ты мне изменял? Ты встречался на пастбище с Зосей, правда? Я знаю, что она в тебя немного влюблена». Когда-то я горячо все отрицал, но потом понял, что она мне все равно не верит и к тому же производит впечатление немного разочарованной. Поэтому я признаюсь теперь в изменах, на самом деле имевших место и вымышленных, конечно, чаще всего в последних, ибо настоящих бывает не так уж много. И тогда она тихо лежит рядом и вздыхает: «Ну, конечно, понимаю. Такой мужчина, как ты, не может быть собственностью одной женщины. Они чувствуют, что ты король пениса». Вы смеетесь? Я тоже смеюсь по этому поводу, но признаюсь, что приятно слышать такие слова, даже если они не соответствуют действительности. А впрочем, если над этим вопросом подумать как следует, то, несмотря на свой возраст, я не столь уж плох, раз так утверждает моя жена, тем более, что ей об этом больше известно, чем вам. Лежу рядом с ее теплым телом, думаю о «короле пениса», гордо выпячиваю свою худую грудь, а она говорит: «Сегодня, во время моей поездки в Бобровники, молодой учитель подошел ко мне и, краснея, сказал: „Какая у вас красивая брошка на груди“. И представь себе, Генрик, он, дотронувшись до этой брошки, задержал ладонь на моей кофточке». Я возмущенно воскликнул: «А что ты ему на это?». «Да ничего. Пусть убедится, какие у меня упругие груди, хотя я родила двоих детей. Ну, посмотри сам, права ли я?». Говоря это, она распахивает ночную рубашку и поднимает груди вверх, чтобы я мог их коснуться. Так у нас обычно все и начинается, впрочем, такое бывает довольно часто.
Думаю, что Барбара немного похожа на мою мать, хотя одновременно очень от нее отличается. Моя мать никогда не работала и всегда жила за счет моего отца, Барбара работает и живет своей жизнью. Но как моя мать в отце, так и Барбара уверена в моем всемогуществе и необыкновенной талантливости. Именно она уговорила меня сдать на водительские права и купить автомобиль, хотя и мать, и мои дети считали, что я не должен этого делать из-за своего неровного характера. Она же убедила меня заняться парусным спортом, а потом и сдать документы на рулевого яхты. Хотя мои друзья утверждали, что я слишком уж хило выгляжу для яхтсмена. Наконец, она подала мысль переехать в деревню, когда заметила, что мне осточертели все литературные морды в нашем городе. А ведь я очень боялся бросить работу в редакции и с ужасом думал о том, на что мы будем жить в этих лесах. «Я заработаю на жизнь, – сказала она, – а кроме того, ведь у тебя талант и там ты сможешь его развить».
В одной серьезной книге мы прочитали, что для нормального развития ребенка, как девочки, так и мальчика, особенно в период созревания, в доме должен быть властный отец и уступчивая мать. Вот почему я не вхожу в кухню, не заглядываю в кастрюли, не завариваю ни чая, ни кофе, это дозволено делать только моей жене, дочери или сыну. Барбара с гордостью повторяет детям: «Ваш отец никогда в жизни не вымыл за собой тарелки, когда-то всю посуду мыла его мать, а потом я и вы». Моя жена говорит об этом также в компании взрослых людей, в связи с чем некоторые считают ее идиоткой. А хуже всего то, что она говорит неправду. Потому что в те годы, когда она получала образование, именно я занимался детьми, готовил обеды, мыл посуду, делал с ними уроки. Но дети этого не помнят. Конечно, теперь все не так; зачем мне мыть посуду, если в доме живут почти взрослые дети. А когда они уезжают в интернат или в студенческое общежитие – я не пачкаю много посуды и складываю ее в специальный тазик. Через день посуду моет моя жена. Я сам готовлю себе завтраки и ужины, подогреваю приготовленный обед, но дети этого не видят. Поэтому у детей и знакомых я пользуюсь репутацией старорежимного деспота, который тиранит жену и детей, сам пуговицы не пришьет, не выгладит брюк, не говоря уже о том, что и не подумает выстирать себе носки или рубашку. И даже я сам иногда начинаю верить в то, что я именно такой, как они думают.
Меня часто раздражает отношение Барбары к нашей дочери, Уршуле. Оно чем-то напоминает мое отношение к сыну – довольно суровое.
Один великий эндокринолог сказал мне, что пол ребенка определяет не вид его внешних половых органов, а психическое осознание собственного пола. Оно вроде бы формируется до третьего года жизни. Поэтому своему маленькому сыну я посоветовал гордиться своим маленьким членом и научил его, когда он им писал, чертить разные фигуры на снегу, на стенах и заборе. А дочери я внушал, что нет ничего более прекрасного, чем ее маленькая розовая ракушка, и вообще как чудесно быть девочкой, а потом женщиной. В свою очередь для женщины нет большей радости, чем сделать что-то приятное любимому мужчине. А поскольку для маленькой Уршульки этим самым любимым мужчиной был я, то она без конца убирала мою комнату, нянчила «наших детей», то есть кукол, и выпекала различные пироги из мокрого песка, которые я «съедал» с большим аппетитом, а я в свою очередь расчесывал ее длинные волосы, прикалывал банты, целовал. Я никогда не разрешал ей носить брюки, влезать на деревья, в крайнем случае девочке можно было заниматься гимнастикой, много плавать и ездить на велосипеде. Я никогда ей не позволял колоть дрова и топить печь, а говорил: «Это мужское дело». Когда она садилась в машину, я открывал перед ней дверь, всегда и везде пропускал впереди себя. Когда она немного подросла, я говорил ей слова, которые вам, возможно, покажутся возмутительными: «Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Между мужчиной и женщиной может быть только любовь. Не будь просто дружком ни для одного парня, не давай себя ни одному соученику похлопывать по плечу или по спине, отойди от ребят или девушек, если при тебе они произнесут какое-нибудь бранное слово или грязно выругаются. Никогда не веди себя как парень, не ходи и не садись как мальчишки. Помни, что существуют женщины настоящие и ненастоящие, то есть такие, которые уподобляются мужчинам. Встречаются и ненастоящие мужчины, которые стали похожими на женщин. Ищи лишь настоящих мужчин, даже среди своих товарищей, и водись только с ними. Ты их узнаешь по тому, что они с удовольствием несут твой портфель из школы, по тому, как ударят парня, который при тебе выругался или задел тебя. Но не презирай мужчин за то, что они тебе оказывают услуги, не показывай им свою власть. Если, защищая тебя, мальчик будет избит, не иди за более сильным, а подними своего защитника с земли, возьми его портфель, вынь носовой платок и оботри его лицо. С этого момента будь с ним мила, потому что он показал себя храбрым и достойным человеком. Не доверяй мальчишкам, которым родители дают много денег, презирай физическую силу. Презирай тех, которых ты поймала на лжи, а цени тех, кто готов признать свои ошибки и отвечает за них. Если заметишь, что парень кого-то обманул, даже для того, чтобы сделать тебе приятное, больше не встречайся с ним, потому что может наступить день, когда он захочет обмануть и тебя, чтобы сделать приятное или понравиться другим. Ты мне рассказывала о мальчике, который пригласил тебя в кондитерскую полакомиться пирожными, а потом – как он тебе позже сказал – в шутку сбежал, не заплатив по счету. Никогда больше с ним не встречайся. Когда он вырастет, возможно, так же будет стараться избегать всякой ответственности. Если какой-нибудь парень принесет тебе зимой прекрасный букет роз, а ты любишь цветы, не принимай эти цветы, сначала узнай, откуда у него деньги. Не слушай признаний своих подруг, не рассказывай им о своих интимных переживаниях, ибо ни они, ни ты не скажете друг другу правды; если тебе хочется перед кем-то высказаться, сделай это перед симпатичным и достойным доверия мальчиком, внимательно выслушай его признания и постарайся его понять. Помни, что тебе придется прожить жизнь не с подругой, а бок о бок с мужчиной, которого тебе надо будет понимать. Помни, что хоть мужчина и кажется тебе сильным и уверенным в себе, но душа у него столь же нежная, как самый хрупкий механизм; не играй с ним, ибо этот механизм можно испортить. Помни, что на самом деле взрослеют лишь женщины, а у мужчин это случается довольно редко. Постарайся быть самым значительным событием в жизни любого мужчины и прилагай усилия, чтобы все время меняться, дабы он постоянно находил в тебе что-то новое. И помни, что все происходящее между любящим мужчиной и любящей женщиной не бывает ни противным, ни отвратительным. Помни, что ты пришла в мир для того, чтобы любить, а не ненавидеть, как сказала Антигона. Думай о развитии своей человечности, но знай также, что как женщина ты можешь состояться только в любви и через любимого мужчину. Не говори своему любимому мужчине, что ваш ребенок или дети для тебя важнее всего, он почувствует себя обиженным и уйдет к той, для которой снова станет самым важным. Знай, что любовь женщины разделена: она иначе любит детей, а иначе мужчину. Помни, что воспитание детей – это всего лишь эпизод в вашей жизни; детям надо идти своим путем, а ты должна продолжать жить со своим мужчиной. Уважай своего мужчину и будь ему послушна, но не давай себя унижать, ибо, кроме того, что ты женщина, ты еще и человек. Если кто-нибудь тебе скажет, что твой мужчина тебе изменяет, не бросайся сразу на него с обвинениями, а сначала подумай, нет ли тут твоей вины. Если узнаешь, что он тебе изменил, задумайся, но приди в ужас, если услышишь, что с другой он делит свои заботы и мечты. Умей многое прощать, даже измену, но не прощай безответственности за твою судьбу и судьбу твоего потомства. Помни, что нет мужчин с некрасивыми лицами; некрасивой может быть только душа мужчины. Если ты встретишь настоящего мужчину, иди за ним, хотя тебе, возможно, придется страдать, однако это страдание покажется тебе сладостным. Знай, что самым большим наслаждением для женщины является сотворение мужчины, ибо мужчиной человек становится через женщину. Помни, что самым прекрасным чувством в мире для человека является любовь. Ее нельзя купить, выклянчить, получить в подарок от родителей. Любовь нужно завоевать».
Так я говорил своей дочери, пока она подрастала, ибо я знал, что она не очень красива и если хочет быть любимой, должна стать женственной. Но жена как будто никак не могла простить ей того, что она не так красива, как сама Барбара в молодости, и постоянно поглядывала на нее с недовольством, ругая и отчитывая девочку. Она предъявляла мне претензии за то, что я больше внимания уделяю воспитанию дочери, чем сына. Дочка ей отвечала тем же самым – была строптивой, непослушной, скрытной. Любой пустяк вырастал до масштабов огромного конфликта; мне приходилось их успокаивать, используя все свое дипломатическое искусство, чтобы не восстановить против себя ни одну из сторон.
Помню день, когда моя четырнадцатилетняя дочь удивительно робко вошла в мой кабинет и встала рядом пристыженная, словно сделала что-то плохое. «Отец, – шепнула она, – ты меня спрашивал об этом. И это случилось сегодня». Я обнял ее и посадил на колени, мою уже такую большую девочку, а она спрятала лицо на моем плече и расплакалась. «Это прекрасно, – сказал я, – с сегодняшнего дня я к тебе уже буду относиться иначе, и сейчас ты последний раз сидишь у меня на коленях. Ты перестала быть ребенком». А дочь заплакала еще горестнее, словно ей было жаль того, что она перестала быть ребенком, что я не буду ее больше целовать и сажать на колени. Но я не принимал близко к сердцу ее слезы, потому что женщины часто в таких случаях плачут. Вечером я попросил жену, чтобы она была с ней поласковее и не ругала ее, потому что в такие дни девочка имеет право быть немного более капризной и нервной. «Ах так, – проворчала жена, – значит, она сначала тебе, а не мне, рассказала о случившемся. Считаю, что она бесстыдница». В этот момент жена показалась мне довольно мелочной и глупой бабенкой.
Вскоре в нашем доме дошло до ссоры между Барбарой и Уршулой. Причиной стали какие-то рубашки, которые Уршула развесила в кухне на веревке, где обычно сушились кухонные полотенца.
«В этом доме распоряжается только одна женщина, – кричала жена. – Я! Слышишь, Уршула? Я, только я, понимаешь? Никто, кроме меня, не имеет права хозяйничать в кухне. Свои трусы, рубашки, колготки можешь развешивать на чердаке. Хозяйничать будешь на своей кухне».
Уршула прибежала ко мне, рыдая. «Мать меня ненавидит! – кричала она. – Она ревнует к своей кухне, к тебе, потому что считает, будто бы я у нее тебя отнимаю».
Я пришел в ужас. Чувствовал, что, если я сделаю неверный шаг, произойдет катастрофа. Я неожиданно понял, что передо мной открылась неизвестная мне сторона характера жены. Я раздражал Барбару своим внимательным отношением к дочери, тем, что пробуждал в ней и подчеркивал ее женственность за счет жены, которая хотела быть единственной и неповторимой женщиной в моей жизни.
Я посадил Уршулу в свое кресло. Какое-то время я ходил по комнате, а потом попытался сформулировать то, о чем думал: «Вспомни, я всегда становился на твою сторону, я тебя любил, люблю и буду любить. Чаще всего в душе я признавал твою правоту, хотя, может быть, не всегда говорил об этом. Но сейчас права она. В этом доме может хозяйничать только одна женщина, поскольку в моей жизни существует только одна женщина. Она. Не пытайся ни в чем ограничить права матери, ведь она сейчас в таком возрасте, в котором женщина все больше и больше думает о старости и очень боится за свою женственность. Ты не права, считая, что она тебя ненавидит. Она тебя любит как свою дочь, но подозрительно относится к твоей юной привлекательности. Она похожа на человека, который боится, что потеряет должность, небольшую должность в своей кухне и в своих владениях. Не пытайся соперничать. Будь только дочерью и убедишься, что она станет для тебя матерью. Не хозяйничай в доме, спрашивай ее, советуйся с ней».
«Мать меня обидела, она должна передо мной извиниться», – упрямилась Уршула.
«О нет, – заявил я твердо, – если бы я ее заставил это сделать, то признал бы в тебе другую женщину, ибо только женщины, если они обижают одна другую, должны просить друг у друга прощения. Я могу принять только одну версию: мать накричала на свою дочь за непорядок в кухне. Тут не будет никаких извинений, потому что здесь у нас не салон, не встреча за чашечкой кофе, а семейный дом. Тебе придется проглотить то, что сказала мать, и в следующий раз не спорь с ней».
«Выходит, это мне надо у нее просить прощения?» – пыталась иронизировать Уршула.
«Никто не извиняется перед матерью за то, что она отчитала ребенка, но и от нее не требуют извинений».
Уршула вышла от меня немного надутой, однако перевесила белье на чердак. Правда, с тех пор конфликты случались все реже и реже, возможно, потому, что Уршула стала больше считаться с матерью, а может быть, из-за того, что она через какое-то время просто переехала в интернат и только по воскресеньям приезжала домой.
Однажды, когда моя дочь еще ходила в восьмой класс, она принесла мне вырезку из газеты:
«Экспресс Вечорны». № 58
Трагический финал любви подростков.
Узнав об измене, он выстрелил в свою девушку, тяжело ее ранив, после чего явился в милицию.
В одном из подваршавских поселков по соседству жили 14-летняя Анна П. и 16-летний Зигмунт З. Они каждый день вместе ходили в школу. Вначале Зигмунт З. хорошо учился, и преподаватели не имели с ним никаких проблем. Но в шестом классе произошли изменения к худшему. Ему пришлось трижды оставаться на второй год в одном и том же классе. Именно в это время между Анной и Зигмунтом вспыхнула большая любовь.
Как-то летом Зигмунт нашел в ручье, протекающем около их поселка, старый карабин, который там, вероятно, лежал еще со времен войны. Он вытащил его из воды и убедился, что ствол и затвор, а также ствольная коробка находятся в рабочем состоянии. Парень вычистил заржавевшие части, сделал деревянный приклад и из карабина соорудил так называемый обрез. Ему удалось найти штук двадцать патронов. Оружие он спрятал в кладовке родительского дома. О своей находке Зигмунт рассказал девушке, а потом вручил ей два патрона, чтобы она зашила их в свой плащ, заявив: «Запомни, Аня, если ты мне когда-нибудь изменишь, то одну пулю я пущу в тебя, а вторую в себя».
Между тем Зигмунта З. задержала милиция за кражу мопеда, и суд по делам несовершеннолетних преступников приговорил его к заключению в исправительно-трудовой колонии. В колонии он учился на слесаря и одновременно ходил в школу, где закончил седьмой класс. Когда он находился в колонии, его невеста – как он ее называл – была приглашена на свадьбу своей двоюродной сестры, где познакомилась с другим парнем. Анна рассказала об этом своим подругам, что, к сожалению, тут же стало известно Зигмунту, который как раз получил отпуск из колонии.
Возмущенный Зигмунт З. пришел ночью к дому Анны П., пряча под плащом взятое из тайника оружие. Когда девушка вышла, они вместе пошли в лес. Здесь произошла драматическая ссора. Когда девушка призналась в измене, парень, крикнув: «Прощай, Аня», быстро вынул обрез и с близкого расстояния выстрелил девушке в грудь. Анна упала на землю, Зигмунт попытался покончить с собой, однако решил, что это наказание будет для него слишком мягким. Он сам явился в милицию.
Бедная девушка получила тяжелое ранение и до сегодняшнего дня находится в больнице.
Врачи-психиатры признали, что Зигмунт З. действовал в состоянии аффекта, вызванного известием об измене его возлюбленной.
Воеводский суд в Варшаве, исходя из того, что Зигмунт З. в момент совершения преступления был несовершеннолетним, решил содержать его до совершеннолетия в исправительно-трудовой колонии. Суд разделил мнение экспертов-психиатров, что обвиняемый действовал в состоянии аффекта.
– Я взяла эту статью для тебя у одной из подруг, – объяснила Уршула. – У нас все ее читали. Вот как выглядит настоящая большая любовь, правда, папа? Ромек написал об этом песню для нашего школьного ансамбля.
Я нахмурился:
– Никакая это не любовь, – буркнул я. – Если мужчина любит женщину, то не хочет причинить ей зла. Даже если она уходит с другим. Страдая, он одновременно радуется, что любимая счастлива.
– А все же судьи решили иначе, чем ты. Они приговорили его только к содержанию в колонии, поскольку признали, что он действовал в состоянии аффекта, ты же сам читал.
Я разозлился еще больше:
– Эти судьи не знали, что граница между любовью и ненавистью изменчива. Трудно определить, когда любовь превращается в ненависть, которую вызывает уязвленное самолюбие. Он любил не ее, а себя.
Я подумал, что и я, и тысячи таких же как я отцов не хотели бы класть в гроб пятнадцатилетнюю дочь, а потом смотреть, как по земле безнаказанно ходит ее убийца, а все потому, что он без конца говорил о любви. В мире происходит много несправедливостей, ибо люди имеют неправильное представление о чувстве, которое зовется любовью.
– Если кто-то, Уршула, клянется, что не может жить без тебя, – сказал я, – то ничего не мешает ему лишить себя жизни. Но почему он должен лишать жизни тебя? А сам посидит годика два в колонии, все им будут восхищаться, слагать о нем песни и баллады, а потом он влюбится в другую и будет с ней жить долгие годы.
И когда я себе представил мою Уршулу, лежащей в гробу, в цветах, ее похороны и свою пустоту, меня охватила такая ярость, что я начал бегать по комнате, выкрикивая:
– Ложь, Уршула! Та любовь, которой вас учат – это обман. Писатели и поэты – самые большие лжецы, потому что они оправдывают убийства, совершенные такими парнями, как этот Зигмунт. Нет, поэты не лгут. Не все поэты лгут. Петрарка не убил свою Лауру. Однако ложью является утверждение, что из-за любви можно убить ту, которую обожаешь. Настоящая любовь – это прощение.
А моя дочь стояла, глядя на меня с изумлением, вот эта моя маленькая женщина, которую я на миг вообразил лежащей на кладбище, в могиле, покрытой венками.
– Все постоянно говорят о любви, – сказала Уршула. – И ты, и они, и мы. Скажи, как выглядит настоящая любовь? Дай мне почитать какие-нибудь книги об этом. Я хочу знать правду о любви.
– Книги? – воскликнул я. – Десятки книг о любви стоят на полках в моем кабинете. Сейчас я принесу их наверх в твою комнату.
Я пошел в свой кабинет, в котором со всех четырех сторон – за исключением окна с видом на озеро и небольшого кусочка стены, где висит оправленный в рамку мой патент рулевого, – находятся полки с книгами. Я начал быстро снимать книги с полок, словно вытаскивал снаряды из какого-то огромного снарядного ящика и с большой их стопкой направился к дочери.
Но когда я услышал первый скрип старых деревянных ступенек, меня неожиданно охватил страх, мне показалось, что тошнота подступила к горлу, и я почувствовал отвращение. На пятой ступеньке я остановился, а потом вернулся к себе, придавленный тяжестью бумажных поленьев, которые мне хотелось сжечь.
А теперь я вам расскажу о Гансе Иорге. О докторе Гансе Иорге.
Все в этом человеке мне казалось антипатичным. Высокая, худая, чуть сгорбленная фигура, маленькая головка, на полных губах улыбочка – то ли мягкая и преисполненная снисходительности, то ли иронично-злорадная, взгляд быстрый, но холодный. И голубые глаза – слишком светлые, часто пропадающие за блеском толстых стекол.
Первый раз я увидел его в потемневшем от старости хрустальном зеркале, когда я присел на корточки, чтобы на свои туфли надеть войлочные музейные тапки. Он тоже опустился на колени, как обезьяна подражая всем моим несложным движениям при завязывании шнурков и натягивании на туфли бесформенных тапочек. Потом почти плечом к плечу, в группе каких-то немцев с гор Граца, мы переходили из зала в зал, сосредоточенные, с некоей набожностью и почтением, с которыми мы обычно вынуждены относиться к прошлому.
– В этом кресле 22 марта 1832 года умер Иоганн Вольфганг Гете, – говорила экскурсовод. – Обратите, пожалуйста, внимание на то, какой скромной была его спальня. Только кресло со скамеечкой для ног и сосновая кровать, а на стене зеленовато-белый коврик, придающий теплые тона комнате. Два столика, термометр, два барометра, один из них сделан из простой бутылки. И ничего больше. Ни картин, ни скульптур, ничего общего с великолепием предыдущих залов…
Я говорил сам себе:
Значит, вина моя в том, что Проперций меня вдохновляет,
Что злоязычный со мной часто кутил Марциал?
Что не оставил я древних сидеть безвылазно в школах,
Но что со мною они в Лаций вернулись и в жизнь?[5]
Так я шептал, а у него губы слегка дрожали, словно и он повторял те же самые строфы, которые звучали на уроках немецкого у фрау Хильды Грюнштейн, в последнем классе лицея я должен был их не только знать на память, но и мгновенно разбирать и собирать, как части винтовки. Герман тогда был милым силачом, а Доротея имела формы девушки, которая два раза в неделю приходила убирать квартиру моих родителей. С невинной миной и чистым взглядом, я смотрел в глаза фрау Хильды Грюнштейн и высокопарно декламировал описание Доротеи:
Красной шнуровкой у ней приподнята выпуклость груди;
Плотно черный корсаж облегает стройную спину.
И я видел эти груди Доротеи – сильные, распирающие ее клетчатую блузку, две большие белые дыни, о которых я думал, засыпая, а потом утром тщательно складывал пижаму, чтобы мать не заметила пятен ночной поллюции.
– Kennst du das Land, wо die Zitronen blьhen?[6] – декламировал я фрау Грюнштейн, и с нашей уборщицей в клетчатой блузке входил в эту страну, в безлюдные леса, дикие ущелья, и уединенные места, полные необузданных ручьев, где витал запах девушки, подметающей пол.
Он тоже что-то шептал, словно молился в церкви Великого Олимпийца, возможно, повторял те же самые строки или что-то из «Фауста», «Ифигении в Тавриде», «Римских элегий» или «Геца фон Берлихингена» – и я почувствовал к нему симпатию.
В широко раскинувшемся парке, тут же за домиком Листа в Гартенхаузе, где экскурсовод обращала наше внимание на скромную конторку, за которой, стоя или присев на высоком табурете, похожем на седло, Гете писал, – этот человек впервые ко мне обратился:
– Посмотрите на печь. Она потрясающая! Кажется, сделана из листовой меди. Хотел бы я нечто подобное иметь в своем доме. Какая легкая, элегантная и одновременно необыкновенно полезная.
Он как будто не заметил моего неприязненного взгляда, потому что я не увидел смущения на его лице. Этот человек правильно говорил по-немецки, но все же чувствовалось, что прекрасный немецкий не является его родным языком.
Только иностранец мог так по-хамски вести себя. Я терпеть не мог подобных типов. Для него только то было прекрасным, что имело практическое значение, вроде этой печи в кабинете поэта. Именно такие, как он, брали мои рукописи и, взвешивая их в руке, говорили: «Кто это будет читать, скажите пожалуйста? Кому это нужно?». Словно кому-то могло быть нужным известие, что где-то существует край лимонных рощ в цвету. Да, существуют такие края, я даже там был, но возвращался таким же беспомощным, еще более опустошенным. Руки, которые я протягивал с просьбой любить меня, уже давно перестали меня слушаться, так что я их теперь даже не поднимал.
В парке ярко светило ослепительно холодное солнце. С шелестом падали листья желтые, золотистые, бурые. Белая скамейка в чисто подметенной аллее – это и в самом деле было единственное место, где я мог переждать то время, когда Иоанна запакует свои чемоданы. Тогда мне не надо было провожать на вокзал эту свою Лотту, покидающую Веймар с распухшими от плача глазами. «За две недели общения с тобой я постарела на десять лет…»
Веймар. Паломничество к святым местам. Кто не верит в Бога, а нуждается в святости, должен совершать паломничество к большим замкам, маленьким дворикам, убогим мансардам, рассматривать старые чернильницы, заостренные гусиные перья, просиженные кресла и жесткие табуреты, отшлифованные святыми ягодицами. Веймар, Sturm und Drang[7]. Концерт Марии Шимановской[8]. Ульрика фон Летцов. Иоганн Себастьян Бах. Проповеди в Гердеркирхе. «Лоэнгрин» Вагнера, «Нибелунги» Геббеля; Виланд, Мицкевич и медальон Давида д’Анже; Кристина Вульпиус, Шарлотта фон Штейн, Лукас Кранах, «Von deutsche Art und Kunst»[9], величественная голова Юноны, Шиллер, «Fruchtbringende Gesellschaft»[10], концерты Листа, желтые, золотистые листья, бронзовая, а возможно, медная печь, прекрасная и практичная.
Письмо от 1 мая 1766 года: «Ты права, делая из меня святого, таким образом ты удаляешь меня от своего сердца. Тебя, святую, я не могу сделать еще более святой, поэтому мне остается только постоянно мучиться». О, святая Шарлотта! Сколько реликвий скрывает твое платье! Мы не животные, которыми правит закон копуляции, для нас остается сладкая терзающая мука несостоявшегося акта. Веймар, 15 марта 1786 года: «У меня есть только два Бога: Ты и сон». Веймар, 10 мая 1785 года: «Ты никогда мне не напишешь, пока я об этом не напомню. Как ты себя чувствуешь? Откликнись дружеским словом. Любимая. Между четырьмя и пятью поднимается воздушный шар». Лейпциг, вечером 10 ноября 1767 года: «Ты далеко, а что значит холодная бумага по сравнению с Твоими горячими руками?». Pardon, Messieurs, que je vous ai fait attendre. Il m‘est tres agrйable de voir, les amis de Madame Szymanowska, qui m’honore aussi de son ammittiй. Elle est charmante comme elle et belle et gracieuse comme elle est charmante[11]… Предлагаю, чтобы ты со мной встретилась в Бланкенхане. Я выехал бы верхом в нужное время. Когда мы находимся в жесточайшей нужде…».
И снова этот неприятный чужой человек:
– Могу ли я к вам присесть? Простите, что я навязываюсь, но я здесь чужой. Уже две недели я брожу по Веймару, пытаясь хоть как-то проникнуться странным климатом этого города, вы ведь понимаете, что я имею в виду, правда? Вы меня извините, что там, в музее, я, может быть, слишком уж назойливо поглядывал на вас, но меня заинтересовало, что вас привело в дом великого поэта, который так давно умер и все же живет – в вас, во мне. Нет, нет, прошу не возражать и не соглашаться. Ведь это, в сущности, не имеет никакого значения, хотя я уверен, что вы любите литературу так же, как когда-то любил ее я. То, что я тогда чувствовал, было слепой любовью, сейчас я смотрю на свой идеал несколько другими глазами. Знаю, что и он не без недостатков.
– Неужели вы тоже пишете? – заинтересовался я.
– О нет, упаси Бог. Впрочем, почему я сказал «упаси Бог»? Ведь это так прекрасно – уметь хорошо писать. Да, я когда-то хотел стать писателем, но мой отец, довольно известный врач, заставил меня изучать медицину. Сейчас я много путешествую. Люблю знакомиться с новыми людьми. Мне сорок пять лет. А вам? Простите, может, я у вас отнимаю время. Вдруг вы хотите побыть один?
Я посмотрел на часы. Иоанна, вероятно, уже запаковала свои чемоданы.
– У меня полно времени, – улыбнулся я, – и мне тоже сорок пять лет, если это вас интересует.
– Вы плохо обо мне думаете, – возмутился он. – Я не сую нос в чужие дела, и в действительности возраст или профессия моего собеседника не имеет для меня почти никакого значения. Впрочем, это легко можно понять после продолжительного разговора. Но я убедился, что люди начинают больше доверять друг другу и становятся разговорчивыми лишь после того, как будут соблюдены некоторые формальности. Ганс Иорг. Доктор Ганс Иорг.
Я поднялся со скамейки, назвал свою фамилию и профессию. Тут он рассмеялся:
– Мы называем друг другу свои имена и фамилии, словно имеет какое-то значение, зовут ли меня Ганс Иорг или Петер Функ. В некоторых странах необходимо еще сообщить и свое отчество. Однако, вероятно, больше пользы было бы, если бы мы называли свою группу крови или сколько в ней сегодня содержится лейкоцитов. Может случиться, что кто-то из нас попадет под машину, заболеет или с ним произойдет какая-нибудь другая неприятность. Тогда вы скажете: «Я не знаю, как этого типа зовут, но у него нулевая группа крови». И человека можно спасти. А какая польза от того, что вы скажете: «Это Ганс Иорг, адрес у него такой-то и такой-то, личность романтическая, женат»?
Он меня развеселил.
– Можете быть уверены, что для меня не имеет никакого значения, как зовут и сколько зарабатывает человек, с которым мне приятно разговаривать. Другое дело, если бы он предложил мне заплатить по его векселям.
Иорг спросил серьезно:
– А если бы я был женщиной? Предположим, красивой, молодой, кокетливой?
– Пригласил бы ее в гостиницу «Элефант», и мне было бы все равно, зовут ли ее Герда, Хильда или Доротея.
Я вспомнил припухшие глаза Иоанны, ее бесконечное «ты – обманщик», и неожиданно меня охватило чувство, что этот человек знал о наших отношениях и хотел меня оскорбить.
Но Иорг добродушно улыбался, и мне показалось, что он потянулся к моей руке, словно хотел взять и проверить пульс. Такие жесты всегда действовали на меня успокаивающе, особенно в детстве, когда я часто болел ангиной, и мой отец, в белом халате и со стетоскопом на груди, садился на краешек моей постели.
– А если бы женщиной были вы? – упрямо продолжал он свой допрос. – Ну, скажем, молодой и красивой женщиной, которая отдыхает в парке, и рядом с ней присел мужчина, возможно, более молодой и красивый, чем я? Неужели вы так же беспечно отнеслись бы, а вернее, вы, как женщина, к имени, фамилии, доходу собеседника?
Я пожал плечами:
– Вы хотите мне открыть довольно банальную истину, что мужчины более готовы, чем женщины, к анонимным контактам?
– Почему же тогда женщины так часто жалуются, что их обманули?
Я насторожился. А вдруг он жил в нашей гостинице и слышал ночные вопли Иоанны, то, как она кулаком стучала по столу, ее стоны и всхлипывания?
– Не знаю, – ответил я резко.
– Потому что им нужна любая правда. Или хотя бы видимость правды. Правды стереотипной.
– Почему вы мне об этом говорите? – подозрительно спросил я.
– Я трижды видел вас в Доме Гете с высокой, бледной женщиной. Сегодня вы были один. Как вы уже знаете, я тоже хожу туда часто, но вы никогда не обращали на меня внимания. Знаю, что во мне ничего особенного нет. Я бесцветный. Но чтобы вас не отпугнуть, признаюсь, что это нечто вроде защитной окраски. И прошу на меня не обижаться за то, что я признался, что я знаю об этой высокой и бледной женщине. Четыре раза в Доме Гете! Боже мой, разве такой человек не заслуживает дружбы Ганса Иорга? Дело в том, что я вел наш разговор именно так по одной простой причине: мне не хотелось вам представляться, и в то же время я не должен показаться невежливым. Не люблю говорить, кто я, как меня зовут, сколько я зарабатываю, что люблю, а что ненавижу, поскольку всякий раз, когда я заявляю, что доволен своей жизнью, что являюсь владельцем процветающей клиники, что у меня терпеливая и умная жена, хороший сын, я путешествую, наслаждаюсь прекрасными пейзажами и не отказываю себе ни в чем, я замечаю, как в глазах моего собеседника появляется неприязнь. Нам импонируют люди, о которых говорят, что «у них все получается», но мы их не любим. Неужели вы отважитесь сделать персонажем своей книги человека, у которого все получается, и он счастливо доживает до преклонного возраста? К концу жизни вы отметили бы его печатью трагедии. С какого момента Сорель перестает быть симпатичным? Когда он начинает делать карьеру. Неужели Вокульский был бы таким же милым человеком, если бы заключил в объятия панну Ленцкую, изгнал купцов-евреев, продолжал бы руководить компанией вместе с князьями и нажил бы миллионы и кучу детей? Мы обожаем влюбленных нытиков, которые терзаются сомнениями. Или таких, у которых все шло хорошо, а потом все развалилось, и они оказались на самом дне. Христу не удалось создать Царство Божье на земле. «Распни его», – кричали люди, ибо таковы правила драмы и вообще великой литературы. Иначе человеческая судьба не приобретает характера метафоры и перестает быть универсальной. А я нуждаюсь в вашей дружбе. Хочу, чтобы вы забыли, что меня зовут Ганс Иорг, что у меня терпеливая и умная жена, процветающая клиника, хороший сын, что я люблю жизнь и умею ею наслаждаться. Поэтому я вам расскажу о себе, чтобы вы не приняли меня за кичливого дурака, которому в жизни повезло и который – о ужас! – чувствует себя счастливым. Я – доктор Ганс Иорг. Запомните, врач, который видит в ваших глазах страх и, даже не коснувшись руки, знает, что у вас учащенный пульс. И все же я не считаю себя врачом по призванию. Возможно, моим призванием было бы литературное творчество, но еще в девятнадцать лет меня убедил отказаться от этого занятия отец. «Зачем тебе такая профессия?» – спросил он меня с искренним удивлением. «Потому что меня интересует человек», – ответил я гордо. Но он только пожал плечами: «Писатели мало знают о человеке. Ведь они видят человека как бы снаружи, его оболочку, рельефную имитацию. Конечно, они пытаются исследовать и душу, сферу психических ощущений, больше того, говорят, что это как раз и является предметом их изучения. Однако они судят человека по его словам и поступкам, а уже к ним приспосабливают сферу психических ощущений. Они становятся похожими на тех врачей, которых интересует лишь проявление болезни. Сколько книг, сын мой, напоминают шаманские обряды по изгнанию злого духа из существа, называемого человеком. Сколько книг в качестве предмета исследования выбирают „одержимость“ злым духом, воплощенном в фатальной женщине, несчастной любви, неискреннем друге? Немногие писатели знают анатомию человека и понимают метаболические процессы, пытаются разгадать прекрасный и так легко подверженный порче чудесный механизм человеческого тела. Сколько художников и философов противопоставляет убожество тела величию духа, так, словно тело и дух не находятся в тесном симбиозном союзе. Конечно, я говорю не о всех писателях. Некоторые из них, хотя бы Гете, интересовались не только человеком, но и природой, ибо человек является ее частью. Хорошо быть писателем, – продолжал свою мысль отец, – но начни со знакомства с анатомией человека, который должен стать объектом твоего художественного творчества. Учись, как когда-то учились великие художники. С изучения каждой мышцы. Пойми, почему человек двигает рукой так или иначе, что с ним происходит, когда он ходит, когда ест, спит, когда чувствует влечение к женщине. Что происходит в его организме, когда в нем просыпается чувство ненависти или любви». Так говорил мой отец; но, может быть, вам скучно меня слушать?
– Нет, продолжайте, господин Иорг, – ответил я, незаметно бросив взгляд на часы.
– Так вот, дорогой друг, я воспитывался в доме, где постоянно говорили о механизме человеческого тела, хотя отец больше любил художественную литературу, на память знал «Энеиду», читал в оригинале Гомера. Думаю, что он был врачом, какие сегодня редко встречаются. Отец мог часами выслушивать излияния пациентки, потом добродушно улыбался и заявлял: «Фрау Крюгер, вы рассказали мне о своих переживаниях, которые были бы достойны пера какого-нибудь великого писателя, а теперь ложитесь, пожалуйста, на этот диван и раздвиньте ноги: мы возьмем мазки из влагалища, потом сделаем анализ крови и исследуем спинномозговую жидкость. Возможно, если результаты окажутся благополучными, мы вам выпишем лекарства, и вы не будете так часто простужаться, стоя вечером у клуба, где, как вы говорите, ваш муж постоянно встречается с разными любовницами». И порой я с искренним возмущением замечал, как отец, откладывая только что прочитанную книгу, полную драматических и бурных страстей, так же добродушно улыбался, и мне казалось, что он сейчас скажет: «Все это очень красиво и трогательно, а сейчас, фрау, ложитесь на диван и раздвиньте ноги, мы возьмем мазки из влагалища, потом сделаем анализ крови и исследуем спинномозговую жидкость».
– Отвратительно, – сказал я.
– Вот именно. Я с вами согласен, – подтвердил Иорг. – Так к литературе подходить нельзя. Думаю, что так вообще нельзя подходить к человеку. Ведь это прекрасное, необыкновенное существо, так же далекое от животного, как звезда от звезды. Уже сама мысль о том, что кто-то осмелился бы взять мазки из влагалища Анны Карениной, Наны, Лолиты, Изабеллы Ленцкой, мадам Бовари является пощечиной не только хорошему вкусу, но и всему человечеству. Исследовать спинномозговую жидкость Манфреда или Конрада, Раскольникова или Жана Батиста Кламанса в поисках причины их необыкновенного поведения – это чистое сумасшествие. Да, я вижу отвращение на вашем лице. И все же у моего отца, хотя он был добрым и уважаемым человеком, иногда появлялись такие идеи, и скрывал он их только из-за большой, привитой ему с детства любви к литературе. Странно, но, хотя я и понимал, что, по сути дела, знание человеческого тела вовсе не обязательно для профессионального писателя, я все же дал себя убедить отцу и закончил медицинский факультет. Будучи молодым врачом, я начал работать в большой клинике. Был ли я хорошим врачом? Или хотя бы старался стать хорошим врачом? Нет, друг мой. Это было невозможно. Чем дольше я общался с больными, чем больший запас знаний скапливался в моем мозгу, тем сильнее становилось родившееся во мне подозрение, что все мы лишь игрушки в руках богов. Поэтому тогда мне стала близка греческая литература, где судьба человека определялась силами, существующими вне его, и никто не мог избежать своего предназначения. Ибо люди, с которыми я имел дело, были похожи на героев греческих трагедий, отмечены и заклеймены обстоятельствами, на которые они не имели влияния и иметь не могли, поскольку они разыгрались задого до их зачатия. Вот великий актер, которого в смирительной рубахе пришлось вывести со сцены, потому что когда-то, еще до его рождения, отец, возможно, в каком-то лупанарии[12], заразился сифилисом.
Знаете ли вы, что происходит с индивидуумом, у которого слишком много генетического материала или, с другой стороны, нехватка этого материала? А какие последствия приносит недостаток генетического материала? Вы смотрите на человека как на дом с удивительно прекрасной архитектурой, но одновременно вы знаете, что этот дом через мгновение рухнет, потому что кто-то там использовал неподходящий материал. Нет, это плохое сравнение. Фундамент здания можно откопать, укрепить, предупредить жителей, чтобы они вовремя его покинули и переехали в другое место, а человек может неожиданно рухнуть, как большая башня, и иногда мы даже не знаем, отчего это случилось. Под твердым сводом черепа происходят процессы, которые мы не до конца понимаем и на которые мы можем лишь частично воздействовать. Там что-то рождается, что-то умирает, что-то странно и ужасающе изменяется. Вольному воля? Смешно считать, что человек волен поступать, как хочет, когда у него медленно, но непрерывно, из месяца в месяц развивается опухоль мозга. Знаете ли вы, сколько ежесекундно умирает у вас нейронов? И что человек, с которым вы в данный момент разговариваете, завтра может оказаться совсем другим, хотя носит ту же фамилию и та же фотография вклеена в его паспорт. Вы были кем-то другим вчера, кем-то другим стали сегодня, кем-то другим будете завтра. Вот любящий глава семьи и достойный уважения чиновник неожиданно появляется в городском парке, чтобы перед маленькими девочками обнажить свой половой орган. Вот деликатный, утонченный поэт, стихи которого звучат в моей памяти как самая прекрасная музыка, привезенный в мою клинику во время ночного дежурства, воет под письменным столом, как степной волк. Приятное лицо, прекрасные, умные глаза, что же там случилось за лобной костью? Ecce homo[13].
Он убил своих родителей, разрубил на части собственную мать и смеялся мне прямо в лицо, когда я расспрашивал его о подробностях. Schizofrenia simplex[14], мой дорогой, но разве это что-нибудь объясняет?
И неужели после всего того, что известно о механизме человеческого тела, можно стать писателем? Что касается меня, то после нескольких лет работы я вдруг почувствовал, что еда перестает доставлять мне удовольствие, я не могу спать, теряю охоту заниматься любовью. Я понимал, что это значит, и меня охватил страх, мне казалось, будто и меня прокляли боги. Однажды я положил записку на столе отца, такую же записку оставил жене и уехал, чтобы испытать свою судьбу. Я помню, что тогда шел дождь, и я вел свою машину под шуршание бегающих по стеклу «дворников». Я говорил себе: «Ты не врач, тебя зовут вовсе не Ганс Иорг. Ты – Никто. И можешь стать тем, кем захочешь». И вдруг я почувствовал огромное облегчение, захотелось жить и действовать, мир, несмотря на потоки дождя, показался мне прекрасным и симпатичным, я начал думать о любви. Я остановился в маленьком городке, купил газету и начал просматривать ее, с удовольствием уплетая свиную отбивную. В газете было объявление, в котором говорилось, что какой-то человек ищет компаньона с наличными деньгами для небольшого дела, речь шла о продаже тюльпанов. Я взял деньги в банке и стал предпринимателем. Так я решил обмануть богов и избежать своей судьбы. Впрочем, я это делаю до сегодняшнего дня, время от времени пытаясь изменить свою личность. Я был крестьянином, и с большой радостью, в высоких резиновых сапогах, перемазанных землей, ходил за трактором, который пахал мой кусочек земли. Ездил с археологической экспедицией на раскопки. Работал барменом в пивной. Забавно, но я даже пробовал свои силы в качестве автора романов. А вы? Неужели вам никогда не надоедала собственная личность? Не пытались ли вы когда-нибудь измениться, переродиться, стать другим? Я вам клянусь, что это совсем не трудно…
– Мне пора, – вскочил я со скамейки, – извините, уже поздно.
Я чувствовал, что ненавижу этого человека. До сих пор я так ненавидел только себя.
Она стояла у окна в халате и, не шевелясь, смотрела поверх крыш домов в какой-то только ей видимый мир, в котором, быть может, именно я с лицом, искаженном, словно в широкоугольном объективе, извивался в муках не имеющего конца страдания. Иоанна не упаковала чемодана, даже не вытащила его из-под кровати. Не повернулась она и в мою сторону, хотя я громко хлопнул, закрывая за собой дверь.
Последнее время я часто видел ее в такой позе, особенно после долгих и изматывающих скандалов. Часами, иногда даже до поздней ночи она могла так смотреть в окно, а возможно, в себя, или в меня, а может быть, в прошлое, которое, как она утверждала, я у нее украл. Иоанна была непричесана. Черные, густые кудри, которые я когда-то любил целовать, сбились в толстые колтуны. Лицо без косметики прорезывали глубокие темные морщины, которые делали ее старше, намного старше. Спина была сгорбленной из-за выпирающих худых лопаток. Иоанна мало ела, утверждая, что ненависть ко мне лишает ее аппетита.
– Может, пойдешь поужинаешь? – спросил я тихо. – Я думал, что ты уехала, и перекусил в городе.
Ответ можно было услышать сейчас или через час, а может быть, через три часа, завтра или вообще никогда. Но она отозвалась сразу же, продолжая смотреть в окно:
– Ты хотел, чтобы я уехала.
– Да. Ведь мы об этом говорили все утро. Мы – люди воспитанные, отдаем себе отчет в том, что говорим, и отвечаем за свои поступки. Ты утверждала, будто наша любовь умерла, я даже согласился с тем, что именно я ее и убил, поскольку не умею по-настоящему любить и никогда, как ты утверждаешь, тебя не любил. Мы уже не можем жить друг с другом без ненависти, и ты сказала, что нам надо расстаться. Это должно было произойти сегодня.
Я почувствовал сухость в горле, язык у меня был шершавый, ни капли слюны во рту. Я заглянул в шкафчик, куда я вчера поставил бутылку водки, но в ней почти ничего не осталось.
– Выпила, – заметил я, но без всякого упрека в голосе.
– Это ты меня научил пить. Только ты. До тех пор, пока я с тобой не познакомилась, я и капли не брала в рот.
– Действительно. Но я знаю, когда следует остановиться.
– О да. Ты человек благоразумный, – едко заметила она. – Но может ли твой разум посоветовать, куда мне идти? У меня уже нет дома, нет детей, нет даже тебя.
У водки был острый, неприятный вкус. Рюмку я не допил. Ждал.
– Оставь немного, – попросила Иоанна и повернулась ко мне.
Она взяла недопитую рюмку и опять вернулась к окну; за стеклом ничего не было видно, уже наступила ночь, неон на другой стороне улицы не горел, фасад огромного административного здания в это время был темен.
– Я тебе предлагал, что уеду и оставлю тебе свою квартиру. Я купил в деревне дом, надеясь, что мы будем жить там вместе. Но ты не умеешь жить без людей и заставила меня вернуться сюда. Сейчас ты говоришь, что тебе никто не нужен, но отсюда уезжать не хочешь. Значит, уеду я и оставлю тебе квартиру. Квартира очень удобная, в моей комнате можешь оборудовать себе мастерскую. Ведь ты же так хорошо рисовала!
– Я сама знаю, кем была! – сказала она со злостью. – Возможно, не была так знаменита, как другие, но со мной считались. Этого ты не станешь отрицать.
– Нет. Может быть, я и полюбил тебя за талант.
– Лучше не произноси таких слов, иначе я тебя ударю. Не надо мне напоминать, кем я была, и что именно ты меня уничтожил. Да, ты, только ты. Один ты. Из-за тебя я бросила свой дом, детей, Яна…
– Он тебя бил. Издевался над тобой. Относился к тебе как к собаке. Помнишь, как ты выглядела, когда первый раз пришла ко мне? Помнишь, почему не хотела раздеться? Потому что ты вся была в синяках. А полосы на спине? До сегодняшнего дня ты мне не сказала, чем он тебя бил.
Иоанна отвернулась от окна, улыбнулась и даже – что меня встревожило – к ней вернулось хорошее настроение. Затем выпила оставшуюся водку и поставила рюмку на стол.
– Он бил меня кабелем. Да, это было больно. Я умирала, живя с ним, он бросил меня на самое дно. Я перестала быть человеком. Но случались такие минуты, когда он поднимал меня на вершины. Ты этого не делал никогда.
Она подошла ближе.
– У тебя тоже появилось желание взять кабель в руки. Ты тоже хочешь меня ударить.
Я отошел и встал на ее место у окна.
– Нет, Иоанна. Я тебя не ударю. Возможно, это сделать необходимо. Но поверь мне, я никогда не ударил ни одной женщины. Это противоречит моей натуре. Во мне все бунтует против насилия. Я думал, что именно поэтому ты и полюбила меня.
– Ты просто слабый человек, – заметила Иоанна. – Мягкий, глупый, маленький человечишка. Ты даже не способен уйти и оставить меня здесь одну. Нет! – она ударила кулаком по столу и истерически закричала: – Ты не можешь оставить меня после всего того, что ты со мной сделал! Я не умею быть одна! Не хочу быть одна! Я убью себя, понимаешь! В один прекрасный день я перережу себе горло или выпрыгну из окна!
За окном было темно. Неон погас месяц назад, здание выглядело вымершим, как после пожара.
– Схожу в магазин и куплю что-нибудь выпить, – сказал я.
Когда я вернулся обратно, в комнате горели все лампы, стол был накрыт чистой скатертью, в подсвечнике стояла зажженная свеча. Иоанна, что-то тихо напевая, расставляла на столе рюмки.
– В нашем доме в деревне я раскрашу тебе всю стену в спальне большими красными розами, – сказала она. – Комнату наверху я сама оборудую. Тебе нужно будет поставить столик для пишущей машинки. И купить вторую машинку. Для меня. Разве это дело – постоянно нанимать машинистку. Нет, я не хочу печатать твои романы, но могу хотя бы перепечатывать письма. Их приходит все больше и больше. Это прекрасно, правда? Вчера из издательства прислали целую пачку. Почти двадцать писем. Я их все прочитала. Это после твоей «Розамунды». В основном пишут женщины лет тридцати. Они думают, что ты их хорошо понимаешь и, наверное, это правда. Ты нежный, деликатный, чуткий…
Я вытащил пробку из бутылки. Чмоканье пробки вызвало у меня чувство тошноты, которое усилил запах алкоголя.
– А еда? Может, откроешь какую-нибудь консервную банку? – спросил я.
– Если хочешь, конечно, могу подать сардины, но у меня нет хлеба. Есть только соленые палочки и крекеры.
– Тебе все же надо что-нибудь съесть, – буркнул я, разливая водку по рюмкам.
– Да. Ты чуткий и деликатный, у тебя было много женщин. Скажи, скольких ты имел?
– До тебя не было ни одной.
– Почему ты не хочешь со мной поговорить серьезно? Из-за этого мы так часто ссоримся, ты относишься ко мне как к идиотке, которая ничего не знает и ничего не понимает. Ты просто играешь со мной. Я тебе нужна в постели, ну, может быть, как прислуга, а теперь ты еще и хочешь сделать из меня бесплатную машинистку, но поговорить со мной, рассказать мне о себе, о том, что ты думаешь, что чувствуешь, что собираешься писать, – это уже без меня. Для этого у тебя есть коллеги, друзья.
– У меня нет друзей…
– Конечно, нет. Ты никого не любишь, вот почему и тебя никто не любит. Когда-то здесь бывало много людей. Прекрасных, известных во всем мире. Сегодня уже никто не приходит. Тебе они не нужны. Ты никого не приглашаешь. Почему?
– Потому что ты этого не хочешь.
– Я? – возмутилась она, выпивая четвертую рюмку. – Опять хочешь сказать, что я виновата. Это я убила нашу любовь, это я сделала из нашего дома ад. А ты знаешь, что говорит о тебе твоя жена? Что говорит о тебе твой сын? Что в один прекрасный день ты вернешься к ним так же неожиданно, как ушел. Потому что ты слабый, никчемный обманщик. «Великий писатель», – сказала о тебе эта маленькая, глупенькая, прелестная идиотка, которая без ума от твоей профессии. Да она не доросла тебе даже до колен. Она закрывала глаза на твой подлый, противный, двуличный образ жизни, готова была даже меня принять, только бы иметь при себе мужа-писателя, автора романчиков, которыми зачитываются домохозяйки. Она испытывала оргазм, когда уборщица ей говорила: «Какую прекрасную книгу написал ваш муж».
– Оставь ее в покое! – рявкнул я.
– Нет, мой дорогой! Но если ты ее защищаешь, то объясни, почему ты начал флиртовать со мной? Что ты искал во мне и что нашел? Почему именно при мне ты написал самые лучшие сцены «Розамунды»? И все же скажи, не испытываешь ли ты страх?…
– Не пей больше…
– Скажи, ты не боишься, что однажды все поймут, что ты просто обыкновенный обманщик? Что все тобой написанное – это сплошной вздор, обман, банальности?
Тут она опрокинула на скатерть полную рюмку.
– Прости, – пробормотала Иоанна.
Она неловко поставила рюмку на большое мокрое пятно от разлившейся водки.
– Налей! – приказала она.
– Нет, хватит.
– Тогда я сама себе налью, – захихикала она. – В таких делах я вполне могу обойтись без тебя.
Я пересилил нарастающее во мне отвращение и залпом выпил свою рюмку.
– Я беспокоюсь о тебе, – начал я, – ты почти ничего не ешь, у тебя бывают периоды сильной депрессии, слишком много пьешь, совсем перестала рисовать. Неделями у тебя не появляется желания залезть в ванну. Тебе надо обследоваться у специалиста, или позволь, я сам поговорю с ним о тебе…
Иоанна отставила рюмку. Затем положила ладони на стол. Ее руки беспокойно двигались, словно каждая из них жила какой-то своей жизнью. Они напоминали белые морские звезды, сжимающиеся и раскрывающиеся в каком-то ужасном ритме.
– Хочешь из меня сделать сумасшедшую? – спросила она тихо. – Это очень хороший способ избавиться от женщины. Знаю, что у тебя есть друзья-психиатры, которые в любой момент готовы подтвердить, что я ненормальная и засадить в палату без дверных ручек.
– Я думал о психологе…
Она встала из-за стола и, легонько покачиваясь, направилась в кабинет, откуда вернулась с пачкой писем.
– Тебе кажется, что ты великий писатель, потому что ты состряпал несколько романов, в которых собственное представление о жизни изобразил как реально существующую действительность. Но кто-то тебе все же должен сказать правду. Тысячам читателей ты кажешься мудрым, всеведущим, прекрасным. А кто ты на самом деле? Подлый, глупый и беспомощный человечек, который ничего не знает о жизни, о людских бедах, о душевных сомнениях женщин и мужчин. А ведь тебе пишут, веря, что ты поможешь решить их проблемы, что дашь им какой-нибудь совет, приободришь их. Хватит ли у тебя духа, чтобы вчитаться в крик человеческого отчаяния? Эти письма припирают тебя к стенке, давят как таракана.
Иоанна стояла у стола, время от времени теряя равновесие, и читала, то смеясь, то произнося текст крикливо, хрипло, почти плача:
«Прочитав Вашу „Розамунду“, я решила написать Вам, поскольку мне кажется, что только Вы, такой чуткий и умный, сможете меня понять и найти выход из моей трагической ситуации. Я часто думаю, от чего страдала бы больше – от того, что любимый мужчина умер, или если бы он оставил меня, уйдя к другой. Когда состояние моего мужа было опасным, я готова была отдать его другой женщине, лишь бы он только жил, не важно где и с кем. Он умер, и все мне говорят: „Вы потеряли мужа, но у вас есть дети, жить надо для них“. Но мне этого мало. Возможно, я нетипичная женщина, больная, ведь мне кажется, что мир рухнул у меня под ногами. Двадцать лет совместной жизни – для меня они промелькнули как одно чудесное мгновение. Так во что же мне верить и чего ждать?…».
«Мне тридцать два года, у меня высшее образование, двое очаровательных детей и муж, из-за которого мне завидуют все приятельницы. Он мой ровесник, не пьет, не курит, заботиться о семье, любит детей и вроде бы – чудеса да и только – даже не изменяет мне. Вы скажете – ненормальная женщина, что ей еще надо от жизни? Так вот, мне надо немного – хочется капельку душевности, нежного слова, улыбки и ежедневного общения. Мой муж утверждает, что мир и жизнь слишком суровы, чтобы позволять себе романтические вздохи. Жена должна быть надежным партнером, а не носящейся со своими чувствами мимозой. В интимных моментах муж обвиняет меня в холодности, заявляет, что я ледяная сосулька, а я уже не могу заставить себя быть нежной и чувственной, как в первые месяцы нашего брака. Однако я понимаю, что могла бы быть другой, если бы ко мне иначе относились. Несмотря ни на что, я его люблю, но бывают моменты, когда я совершенно серьезно думаю о том, чтобы найти себе другого партнера…».
Иоанна перестала читать, потому что на нее напала икота. Она хохотала, захлебывалась от собственного смеха. Потом налила водки, выпила.
– Банальности, правда? Глупые, идиотские письма. А ведь это обычные человеческие проблемы, пан писатель! И что вы этим людям советуете?
«Глубокоуважаемая госпожа. Благодарю за слова признания моего творчества. А что касается Ваших внутренних конфликтов, настоятельно прошу вас обратиться к социологу…»
– Слушай дальше, маленький обманщик. Вот твоя читательница:
«Мне двадцать семь, мы женаты четыре года. У нас есть трехлетняя дочь. Наша совместная жизнь складывалась не лучшим образом, потому что мы не смогли найти общий язык, муж много работал и постоянно был в разъездах. Я его умоляла, чтобы он поменял работу и почаще был со мной, но он об этом даже слышать не хотел. Я стала очень нервной, мне все труднее стало сдерживаться, ссоры возникали из-за каждого пустяка. И вдруг в один прекрасный день муж меня бросил. Я ужасно переживала его уход. Он навещает нашего ребенка, но утверждает, что ненавидит меня. Я не могу в это поверить. Я многое передумала и поняла, что могу стать другой. Но как его убедить, чтобы он поверил?».
«Мне двадцать четыре года, уже год я замужем, у меня чудесный и умный муж, но наша совместная жизнь сложилась не очень удачно. Муж говорит, что я холодная, хотя он был моим первым мужчиной. Раньше у меня был жених, с которым мы только ласкали друг друга. Мне это доставляло большое удовольствие, и я была счастлива. Однако муж не испытывает от ласк никакого удовольствия, я тоже очень мучаюсь. Я люблю мужа и боюсь его потерять…».
– А эту к сексологу, правда? – захихикала Иоанна. – А предыдущее письмо? К психологу, а может, к психиатру? Или ты напишешь: «Считаю, что Вам надо посоветоваться с юристом»? Слушай дальше:
«Я вышла замуж за человека, о котором все говорили, что он идеальный мужчина. Он и в самом деле такой, только я все время думаю о другом, который меня бросил. Он был пьяницей, бил меня, но иногда мне кажется, что я не могу больше жить без него. Все чаще я думаю о смерти…»
– К кому ты ее пошлешь? К психиатру? Да, да, именно так, дорогие писатели. Вы только одно можете делать безошибочно: посылать человеческие трагедии и проблемы к специалистам. «Рад, что вы высоко оцениваете мое творчество. Что же касается Ваших сомнений, советую Вам обратиться с ними к сексологу, юристу, психологу, к социологу, в бордель, на панель, в Лигу женщин, к общественному попечителю, положить голову под поезд, принять крысиный яд». Да, да, это прекрасно, это мудро, это забавно. Писатель, которому нечего сказать людям. К социологу, в бордель, к психологу, к черту, в сумасшедший дом. Увертки, постоянные увертки. Вы все время пытаетесь уклониться от человеческих несчастий. К невропатологу, к хирургу, к гинекологу. Взять довольно большой камень, как следует обвязать его толстым шпагатом, но ни в коем случае не бумажным, найти мост повыше над достаточно глубокой рекой. Или: «Отправьтесь на прогулку в лес, где растут большие деревья. Там вы найдете сухой, не очень высоко растущий сук… Благодарю за признание моего творчества. Лучше всего Вы сделаете, если возьмете развод или найдете себе другого, столь же любимого человека».
– Ты пьяна, – заметил я.
– Да, дорогой, я совершенно пьяна, – покачиваясь, она тяжело опустилась на стул и перед своим лицом сделала какой-то неопределенный жест рукой.
Я задул свечу. Иоанна точно так же угасла. Склонив лоб на правую ладонь, она что-то бессмысленно шептала. Левая рука слепо шарила по столу в поисках рюмки. Я отодвинул рюмку подальше, она была пуста, в бутылке тоже ничего не осталось. Ладонь все еще ползала по скатерти. Все медленнее и медленнее. Она напоминала умирающую змею. Наконец рука застыла, пальцы раскрылись, так после агонии коченеют мышцы.
– Я пойду спать, – пробормотала она.
– Вымойся! Иди в ванную, слышишь?
Иоанна тихо засмеялась. Казалось, что ее глаза ничего не видят. С рукой, вытянутой вперед, она пошла в ванную, а я неподвижно сидел у стола и думал о том, что мне надо сделать множество дел, но знал, что ничего делать я не буду. Не соберу чемодан, не куплю билет, не выведу из гаража свой автомобиль, не приму снотворного. Преступники – это люди, тоже достойные восхищения. Ведь нужно иметь много мужества, чтобы убить другого человека. Впрочем, возможно, это вопрос даже не мужества, а воображения.
Я вспомнил о лезвии, оставленном в станке для бритья, и пошел в ванную.
Иоанна сбросила с себя халат и нагая стояла, покачиваясь, перед ванной, в которую лилась теплая вода.
– Обопрись руками на мое плечо и влезай в ванну, – приказал я. – Потом держись за стену.
И тут я заметил, какая она худая. Смеясь, левой рукой она опиралась о стену, а в правой держала душистое французское мыло и, похихикивая, с наслаждением вдыхала его запах. Я намыливал ее бедра, ягодицы, живот, взъерошенные волосы лобка, вагину, груди, подмышки, спину и при этом чувствовал отвращение не к ней, а к самому себе, презирал не ее, а себя. Струя воды смывала пену с ее смуглой кожи, а она, похихикивая, нюхала французское мыло.
Я помог ей дойти до кровати, на которой смятая постель возвышалась, как груда грязного снега. Перед тем как заснуть, Иоанна долго кашляла, я боялся, что сейчас ее начнет рвать, но она заснула, неровно похрапывая. «Проклятый бронхит», – подумал я, раздеваясь.
Она проснулась перед рассветом. Ее горячая ладонь с хищными ногтями нашла мое тело, проскользнула под пижаму, потом опустилась ниже, до боли сжимая мой вялый член.
– Ты не мужчина. Ты давно уже не мужчина! – горестно воскликнула она.
Иоанна упала лицом в подушку и зарыдала. Кровать легонько подрагивала от ее глухого, тихого плача. Не знаю, как долго это продолжалось, потому что я заснул.
* * *
– Здесь, в этом кресле, умер Иоганн Вольфганг Гете 22 марта 1832 года, – говорила экскурсовод. – Обратите внимание, какой скромной была его спальня. Только кресло…
На белой скамейке в парке сидела пожилая женщина с двумя детьми, которые бегали вокруг нее.
– Мне кажется, на Фрауенторштрассе еще не закрылся неплохой бар, – сказал Ганс Иорг. – Если у вас есть немного времени, то мы могли бы там согреться, выпив чашечку кофе. День ясный, но становится холодно.
Я честно признался, что времени у меня много, поскольку женщина, с которой я живу, поссорилась со мной и на этот раз окончательно решила уехать. А мне хотелось бы где-нибудь переждать процедуру упаковки чемоданов. К тому же я не собираюсь провожать ее на вокзал.
– Понимаю, – кивнул он головой, не расспрашивая о подробностях, что настроило меня дружелюбно, хотя еще минуту назад я наблюдал за ним с некоторой неприязнью. У него из-под мышки торчала небольшая папка, из которой выглядывали обложки нескольких журналов. Я узнал «Medical Review» и «Playboy». Я не ханжа, с удовольствием рассматриваю красивых голых девушек на фотографиях, напечатанных на хорошей бумаге, но мне казалось неприличным идти с этим в дом Великого Олимпийца. «Medical Review» я мог бы еще ему простить, хотя предпочел бы, чтобы он читал какой-нибудь журнал по минералогии. Впрочем, я должен был многое ему простить, лишь бы как-то провести время до отъезда Иоанны.
– Вы вчера вспоминали, доктор, что можно изменить свою личность, так, как меняют пижаму. Конечно, это была шутка. Похоже, у вас сильно развито чувство юмора. Кроме того, вы сказали, что человек – как дом, у которого иногда бывает слабый фундамент. Не представляю, как можно полностью заменить весь фундамент, сохраняя всю конструкцию. Вероятно, я ошибаюсь. При современной технике это наверняка возможно. Только человек не похож на дом… Пиво, – сказал я официантке. – Вернее, два пива. Думаю, доктор, в это время уже не стоит пить кофе.
Я заглянул в меню. Там были только хек и морской окунь.
– Что вы выбираете? – спросил я.
Иорг заколебался.
– Пусть будет хек, – сказал он и добавил: – Вы, дорогой друг, слишком буквально восприняли мою метафору. Ни одна метафора точно не соответствует сущности, которую мы хотим выразить. Метафора напоминает мост, по которому, не промочив ноги, можно перейти на другой берег реки. Для меня важно не завязнуть в иле повседневности. Такое топтанье обычно бывает бесплодным. Сравнивая человека с домом, с башней, с прекрасным храмом, я не имел в виду его основательной перестройки, конструктивных изменений, а небольшие – хотя, признаюсь, довольно трудоемкие – усилия для достижения комфорта. К примеру, надо поменять перегородки, пробить какое-то оконце, через которое будет попадать больше света и зелени из близлежащего парка. Сколько людей отказывается от этого, потому что их пугают тяготы и заботы, связанные с такой работой.
– Ерунда, – прервал я его довольно бестактно, – представьте себе человека, которому неприятно любое насилие. И вот перед ним мечущаяся в истерическом припадке любимая женщина, в которой он открыл огромные пласты мазохизма. Он чувствует, что не доставляет ей наслаждения из-за того, что ему чужда жестокость. И все же он не может пересилить себя, ударить ее, хотя видит – женщина постепенно становится чужой.
– Самое трудное – начать, – сказал Ганс Иорг. – Первый раз это сделать труднее всего. Потом уже все идет гладко. Я знал многих впечатлительных и утонченных людей, которые, раз ударив свою жену, с этого момента били ее все чаще и чаще, постепенно входя во вкус. Вы, друг мой, продемонстрировали мне личность абстрактную, придуманную. Вы ее определили как «человека, которому неприятно любое насилие». Таких людей нет. В каждом человеке заключены большие или меньшие пласты мазохизма и садизма; дело в том, что у одних они скрыты глубоко, а у других лежат на поверхности. До некоторых пластов приходится докапываться очень долго, у других они на виду. К примеру, боль. Одни к ней более чувствительны, другие менее. Чувство боли нам нужно для жизни, для ориентирования в мире, оно является в каком-то смысле нашим компасом. В клинике, где я когда-то работал, мы столкнулись с человеком, который вообще не чувствовал боли. Это был калека. Ему пришлось сшить специальную защитную одежду, ему нельзя было работать, а по улице он мог ходить только с сопровождающим. То же самое произошло бы с человеком, которому чуждо любое насилие. Он не мог бы есть мясо, которое было частью убитой коровы, не смог бы разжевать стручок зеленого горошка, ибо сорвать такой стручок значило бы совершить насилие над прекрасным растением. К тому же он не мог бы ходить по земле, потому что бессознательно уничтожал бы муравьев и других маленьких насекомых. Думаю, что ему пришлось бы жить в инкубаторе под наблюдением существ, которые допускают возможность умеренного насилия.
– Я никогда не был силен в геологии, – улыбнулся я Иоргу. – Однако готов согласиться с вами о возможности прокладывания в себе туннелей к скрытым до сих пор отложениям и даже перемещения в себе пластов добра и зла, любви и ненависти. Не буду скрывать, и я иногда мечтаю о перестановке в себе тех или иных перегородок, как вы это называете. Но можете ли вы назвать инструменты, которые позволили бы это сделать? Где пневматические молоты, буры, различные сверла и сверлышки, щипцы, прецизионные пинцеты, отмычки, ацетиленовые горелки? Некоторые части нашей психики могут быть как несгораемые сейфы, ключ от которых потерян, а шифр забыт. Так где же, спрашиваю, эти инструменты, доктор Иорг?
– Литература и изящные искусства, мой друг. Я не знаю более тонких и разнообразных инструментов для вскрытия человека.
А потом он взглянул на мои руки, в которых я держал кружку пива, и грустно добавил:
– Как врач я также верю в фармакологические средства, простите, если я обидел вас этим замечанием.
Я почувствовал себя усталым, как всегда, когда мне приходилось брести через трясину трюизмов и банальностей.
– Это обычное пережевывание старых истин, господин Иорг, – сказал я со злостью. – Вы хорошо знаете, что о литературе можно сказать все. Она может быть инструментом, однако может им и не быть. Возможно, литература является лишь проекцией мира и настроений писателя, либо игрой воображения. Быть может, она воспитывает человека, но не исключено, что она вовсе его не воспитывает, а даже портит. После Первой мировой войны в Германии возникла самая мирная и гуманистическая литература, достаточно вспомнить Ремарка, Маннов, Фейхтвангера, Цвейгов и многих других прекрасных писателей. Думаю, что в то время там появилась самая замечательная пацифистская литература в мире. И все же именно в этой стране, с такой литературой, пришел к власти Гитлер и родился преступный геноцид… Впрочем, можно то же самое сказать и о любом предмете, например, об обыкновенном ноже, который я держу в руке. Для чего он служит? Чтобы резать хлеб? Для ваяния одухотворенной Мадонны? Для убийства?
На лице Ганса Иорга появилось печальное выражение.
– Мы друг друга не понимаем. Говорим на одном и том же языке и все же не понимаем друг друга. В меню есть только рыба. Вам все равно, что выбирать, а мне нет. Потому что для вас это просто рыба, а для меня рыба ассоциируется с саркомой – злокачественной опухолью, которая атакует человека, а все потому, что на разрезе ткань саркомы напоминает рыбье мясо. По-гречески «саркос» значит «рыбье мясо». Вы не видели, как у человека удаляют больной глаз, а я видел. Вот что нас разделяет, дружище. Вы говорили о человеке, которому чуждо любое насилие. Я ответил: нет такого человека. В каждом из нас можно докопаться до садистских пластов.
– Пойдемте отсюда, – предложил я.
На старом веймарском кладбище, под огромным куполом покоились в подземном склепе почтенные саркофаги Гете и Шиллера. Группа школьников, все с зажженными свечами в руках, декламировали под бдительным оком учительницы стихотворение Гейне:
– Это я изучал в первом классе лицея, – шепнул я Иоргу.
– А я начинал с Вертера, – шепотом ответил он.
Кладбище, серые памятники, кресты. Везде пожелтевшие листья, пустая скамейка возле надгробного камня. «Hier ruht im Gott…»[16].
– Вы любили «Страдания молодого Вертера»? – спросил Ганс Иорг.
Я молчал. А он прикрыл глаза и задал мне вопрос – в его голосе звучало восхищение, вызванное воспоминаниями:
– Помните ли вы эту прекрасную фразу из Вертера: «Не знаю, то ли духи поднимаются над этой местностью, то ли в моем сердце есть теплое небесное представление, которое все окружающее меня делает райским». Не надо мне отвечать, дружище. Вы человек благородный и начитанный. Вы не могли не восхищаться, впрочем, так же как и я, Вертером и его безумной любовью. Время от времени я и сегодня обращаюсь к книжной полке, вечером сажусь за немодный сегодня роман Гете и откладываю его со слезами на глазах. Страдания Вертера – это хорошая школа любви, не правда ли, друг мой? И в самом деле, романтическая литература представляет нам много таких прекрасных, безумных, несбывшихся любовных историй. Неужели Вокульского считали бы романтиком, если бы его любовь к Ленцкой не закончилась самоубийством?
– Это вопрос моды, mein Herr.
– Конечно, конечно. Однако как врач я должен отметить, что эпоха романтизма была временем господства шизотимиков[17] с некоторой долей скиртотимии[18], а в позитивизме, например, доминировали циклотимики[19] с экстраверсией[20] и эмоциональной синтонностью[21].
Но общество обычно состоит из одних и других. Просто писатели выдвигали на передний план раз одних, а в следующий раз других. На этом и основана литературная мода. Сейчас, к примеру, предпочитают шизофреников. Однако критики имеют склонность к идеализации всякого рода мод из прошлого, так сегодня идеализируется прошлое в стиле «ретро». Какие ассоциации вызывает у вас понятие «романтизм»? На память нам обычно приходит возвышенный герой, сила которого соответствовала его намерениям. А ведь некоторые романтические герои были унылыми личностями, как правило, на грани помешательства, несущими в себе какую-то тайну или печать преступления. Романтический герой, дружище, это не только Вертер, но также, а может быть, прежде всего, Манфред и Франкенштейн, праотец сегодняшних фильмов ужасов, Дракулы и Мабюзе. Но это не значит, что я как врач не задумывался, почему, например, почти все любовные истории в романтической литературе оказались несбывшимися, лишены либидо и, как правило, заканчивались сумасшествием или самоубийством. А ведь со времен Эскироля считается, что самоубийство является результатом психических нарушений, временных или длительных. Многие врачи склонны считать, что каждое самоубийство, кроме ритуального, такого как харакири, или совершенного из страха перед пытками, имеет своей причиной психические нарушения. Бертрам Браун, директор Института психического здоровья США, утверждает, что причиной по крайней мере восьмидесяти процентов самоубийств всегда является болезнь, которая носит название депрессии или меланхолии. Для депрессии, как и для шизофрении, часто характерно отсутствие сексуального влечения. Вы помните восклицание Вертера: «Она святая для меня! Всякая похоть молчит в ее присутствии». Вертер любил Лотту, но не хотел ее физически. Вокульский любил Изабеллу Ленцкую, но его нисколько не терзала тайна ее юбки, и тут уж дело не в традиции, поскольку Болеслав Прус мог без обиняков, хотя и без сегодняшней тривиальности описывать эротическую жизнь своих героев. И если он не вспоминает о таких деталях, стало быть, это обстоятельство имеет какое-то значение, над которым стоит задуматься.
– Вы хотите сказать, что любви без секса просто не бывает? – возмутился я.
– Ну, что вы, разве я посмел бы, – начал оправдываться Ганс Иорг. – Я хотел только сказать, что, возможно, слишком часто в литературе и в жизни словом «любовь» мы называем химеры, связанные с тем или другим человеком; химеры, являющиеся результатом болезненных состояний. Ведь я сказал вам во время нашего предыдущего разговора, что медицинские знания о человеке мешают углубленному пониманию литературы, на что вы не обратили внимания, возможно, восприняв мои слова как шутку. Сегодня я уже понимаю моего отца, когда он со снисходительной улыбкой откладывал в сторону какую-нибудь книгу. Представляю себе литературного критика, который кроме знакомства с литературой имел бы медицинское образование. Он хохотал бы, читая каждый второй современный роман.
– Один из самых интересных критиков в Польше, – прервал я его, – был врач Бой-Желенский[22].
– Вот именно. Не задумывались ли вы когда-нибудь над причиной многих его успехов и литературных открытий? Просто он другими глазами посмотрел на некоторые литературные произведения. Бой-Желенский прочитал их иначе именно потому, что был еще и врачом. «Снял хрестоматийный глянец», – говорили о нем. Впрочем, кажется, у него по этой причине было много врагов. Но с тех пор медицина добилась огромных успехов. Возможно, он в своем «снятии хрестоматийного глянца» сегодня пошел бы значительно дальше.
– Я знаю нескольких польских писателей, которые также получили медицинское образование, и оно им вовсе не мешает создавать традиционные произведения.
– Вы отвергаете возможность существования двойственности в человеческой натуре? В то время, когда он пишет книгу, ему не обязательно помнить свои медицинские знания, достаточно лишь ориентироваться в кругу литературных традиций. Можно пойти в церковь, помолиться, а потом красть. Молиться за то, чтобы нас не поймали на краже, разве не так? Что касается меня, то медицинские знания мне очень мешают. Вы не верите? Приведу один пример. В скольких книжках я читал, как прекрасные девицы в помещичьих усадьбах «покрывались румянцем», когда появлялись красивые молодые люди. Или при одном упоминании о выходе замуж на их лицах выступал «девичий румянец». Авторы нас убеждают, что этот румянец вызван чувством стыда, невинности, благородства сердца. Не исключено, что человек может «покраснеть от стыда». Но когда молодой, красивый мужчина подходит к молодой и прелестной женщине, берет ее за руку и намекает на возможное супружество, то где кончается румянец стыда и начинается явление, которое Мастерс и Джонсон назвали «sex-flush», то есть «сексуальный румянец»? Эти прекрасные и добродетельные барышни из хороших семейств вовсе не были более невинными, чем наши современные девушки, и нет причин считать, что в своих девичьих спальнях они не видели эротических снов и не занимались мастурбацией. Присутствие любимого мужчины должно было их сексуально стимулировать. И читая, как герой берет героиню за руку, а на ее лице «появляется румянец», мне хочется ему сказать: «Давай, давай, атакуй сильнее, она так возбуждена, что почти близка к оргазму. Ты этого не видишь, потому что она одета, но я тебе говорю, что у нее уже покраснела нижняя часть живота, затем румянец поднимается выше и выше, пока с шеи не хлынет на щеки». Но он не отваживается идти дальше, потому что этот румянец считает признаком застенчивой невинности.
Я пожал плечами.
– Вы мне не верите? – удивился Иорг. – Ну, что же, придется привести другой пример. Он касается так называемой «infelix amor», или несчастной любви, которая может довести до безумия. Художественная литература полна такими примерами. Автор романа обязательно должен заглянуть в эту сокровищницу, если хочет добиться хоть какого-то успеха. А между тем медицина подсказывает ему, что «infelix amor» является лишь продуктом богатого писательского воображения и социальной мифологии, родившейся на почве поверхностного наблюдения над некоторыми человеческими индивидуумами, – я здесь цитирую одного из самых крупных современных врачей. Состояние влюбленности у нормального человека проходит без каких-либо психических нарушений в смысле психопатологии. В то же время психопатов – как говорит этот врач – оно способно вывести из равновесия и, пользуясь медицинским языком, вызвать потрясающую реакцию. Счастливая или несчастная любовь может иметь сходство с психозом, но это, мой друг, состояние физиологическое. Только на почве психопатии, при воздействии еще и других окружающих человека условий жизни или болезнетворных факторов, несчастная любовь может стать почвой для некоторых реактивных состояний, но психозы на этом фоне неизвестны. К примеру, тяжкая меланхолия, которая не поддается психотерапии, наверняка вызвана не несчастной любовью – как бы больной упрямо на этом не настаивал и в чем бы было уверено его окружение – а, в принципе, имеет циклофреническую[23] почву.
В этом медики убеждались десятки раз после использования тимолептиков[24].
Выписываются лекарства – и вдруг человек оживает, становится радостным, чувствует себя освободившимся от своей несчастной любви.
– Ужасно, – сказал я.
– Почему? Неужели лучше, чтобы он покончил с собой, замучив перед этим женщину, которую одарил своей неразделенной любовью? Впрочем, если вы и в самом деле кого-то любите, а не впадаете лишь в любовную манию, то тимолептики не изменят ваши чувства. Настоящая любовь невосприимчива к фармакологии.
– Вертер? – спросил я с беспокойством. – Арбенин? Вокульский?
– Да, да, – покивал он головой. – Этих людей можно было спасти. В любой, даже провинциальной клинике. Вы писатель, значит, человек с богатым воображением. Представьте себе, что это не скамейка на кладбище, а письменный стол в клинике, на мне белый халат, а вы приводите ко мне пациентов. Да, да, пожалуйста, не стесняйтесь. Введите Вертера, пусть он говорит о себе и своих страданиях. Красивый, способный, образованный молодой человек. Жаль, что мы мало знаем о его прошлом, нам неизвестны его родители, болезни, которые ему пришлось перенести в детстве. Ничего мы не знаем и о его сексуальной жизни. Он приехал в эти края, увидел прекрасную Лотту и безумно влюбился. Лотта достойна такой любви, это мы должны признать, но тем более поразительны его навязчивые мысли о самоубийстве, которые терзают Вертера даже тогда, когда история с Лоттой могла кончиться для него счастливо, поскольку еще не приехал ее жених. Потом жених появляется, и снова навязчиво повторяются разговоры о том, что надо покончить с собой. После визита у Лотты Вертер восклицает: «Она святая для меня! Всякая похоть молчит в ее присутствии». Наконец, Вертер уезжает далеко, далеко, чтобы забыть о возлюбленной. Обычно мужчины пытаются забыться в объятиях другой, порой стараясь ее полюбить, как говорится, «через силу», заставляя себя усилием воли. Но он не из таких. Мы ничего не знаем о том, чувствовал ли он влечение к какой-нибудь женщине. Потом Вертер возвращается и убивает себя. Врач сказал бы: ситуативная депрессия… Талант Великого Олимпийца совершил чудо, из любви экзальтированного нервного юноши в депрессивном состоянии позже был создан образец любви несбывшейся, любви платонической. Возможно, мало кто сегодня снимает с полки «Страдания молодого Вертера», но нет никаких сомнений, что тип вертеровской любви закрепился в нашем сознании. И вот молодой человек, проявляющий здоровое либидо по отношению к своей партнерше, неожиданно слышит от нее, что он не умеет по-настоящему любить, ибо Настоящая Большая Любовь, такая как в книгах, является возвышенной и чистой, лишенной похоти. Вы говорили о ноже, что им можно резать хлеб, ваять, но и убивать. Вертером тоже можно убить, дружище.
– Вы лжете! – крикнул я.
Он погрустнел. Мне стало его жаль. Впрочем, возможно, я прежде всего жалел себя.
– Вы преувеличиваете, – сказал я примирительно. И тут же добавил: – Светит солнце, а здесь так холодно. Я слежу за листьями, которые на нас падают. Четыре слетели с дерева, которое растет возле той могилы. Подождем, когда упадет пятый, хорошо? Говорите дальше, доктор.
Иорг повеселел.
– Вы помните, что нашли на письменном столе в квартире мертвого Вертера? «Эмилию Галотти» Лессинга. Это прекрасная трагедия, мой друг. Вероятно, я никогда не пойму, почему перед смертью именно ее читал Вертер. Может быть, действительно Гете стремился сохранить аутентичность в связи со случаем Иерузалема, о котором ему писал Кестнер? Когда я ходил в школу, еще до получения аттестата зрелости, я был влюблен в одну девушку и время от времени пытался подержаться за ее грудь, а кроме того, совал руку ей под платье. Я говорил девушке, что люблю ее, но она мне не верила как раз потому, что я хотел коснуться ее груди и заглянуть под подол. «Ты меня не любишь, а только хочешь, – заявила она. – Настоящая любовь – это нечто другое. До тебя ко мне приходил один студент. О, да. Вот он по-настоящему любил. Он садился в кресло и смотрел на меня. Этого ему было совершенно достаточно, потому что его любовь была настоящей». Я пытался делать, как тот парень, но у меня ничего не получалось. Я выходил от девушки и очень страдал из-за того, что не умел по-настоящему любить, мне казалось, что я эротоман, которому хочется трогать женские груди, вместо того, чтобы сидеть в кресле и смотреть на любимую девушку. Мы как раз проходили «Страдания молодого Вертера». «Вот настоящая любовь», – говорила учительница. Я убедился в том, что Вертер никогда не испытывал желания касаться груди Лотты и запускать ей руку под платье. Вертеру даже сама мысль об этом казалась преступной. Другими словами, я, похоже, и в самом деле был больным, эротоманом: я не умел любить свою девушку. И я пошел посоветоваться к своему отцу, который попросту высмеял меня. В тот же день я отправился к девушке и спросил ее, что же случилось с этим студентом, который ее так любил. Она ответила: «Он слишком много учился и от этих своих занятий сошел с ума». Я почувствовал, что любовь моя к этой девушке неожиданно и бесповоротно улетучилась. Я почувствовал презрение к ней, к Вертеру, к своей учительнице. Представляю, сколько молодых людей, у которых нет отца-врача, мучаются мыслью, что они не умеют по-настоящему любить любовью чистой и возвышенной, лишенной секса. И что такого рода терзания часто вредно влияют на личность мужчины, но также и женщины, если она слишком долго носит в себе идеал чистой и только платонической любви. Я позже разыскал ту девушку, которую, рассердившись, когда-то бросил. Моя бывшая симпатия вышла замуж, у нее трое детей, однако она жалуется, что муж не любит ее по-настоящему, поскольку слишком часто общается с ней телесно, а по ее мнению, истинная любовь – это нечто совершенно другое. Эта женщина все еще помнит студента, который только смотрел на нее. Она когда-то написала мне, уже как автору романов, не стоит ли ей завести себе друга для души, я, естественно, ответил ей, чтобы она обратилась к психологу. Что касается меня, дружище, через какое-то время я снова обратился к «Страданиям молодого Вертера» и читаю их со слезами на глазах при свете своей варварской электрической лампы. Эта книга со временем не стала менее прекрасной. Мне не хватает только более глубокого комментария к так называемой «вертеровской лихорадке», к такому понятию как «вертеризм». Когда мой сын стал подрастать, я вручил ему экземпляр «Страданий молодого Вертера» со следующими словами: «Вот перед тобой книга, которая позволит отличить тебе любовь, развивающуюся на почве сильного невроза и ситуативной депрессии. Так здоровый человек не любит. Потом, сынок, я дам тебе книгу, в которой в качестве любви описана обычная похоть». Ну, что же, пора идти, дружище. Я знаю, что вас мучает. Вы тоже думаете, что не способны по-настоящему любить.
* * *
– Барбара, – говорил я, – моя любовь – как зеленые лошади, на которых мы мчимся через красные луга, розовые ущелья и рыжеватые реки, копытами топча заросли фиолетового вереска. Не оборачивайся, позади уже ничего нет. Не смотри вперед, там тоже все заполнено пустотой. Я – обезумевший от ревности Арбенин, я – Гамлет, который не может убить, я – Дон Кихот нашей любви, я – кающийся грешник, судья и папа римский. Посмотри на меня: все, что есть во мне, кричит, что любовь вечна.
* * *
– Вы не читаете «Плейбой»? – спросил меня Ганс Иорг.
– Нет.
– Жаль. Этот журнальчик когда-то возмущал многих, но с тех пор как начали выходить другие в том же роде, он производит вполне приличное впечатление. Там печатаются довольно хорошие фотографии обнаженных девушек, немного статей о сексе, любопытные интервью с интересными людьми, есть место и для хорошей литературы. Я также взял с собой новый номер «Medical Review».
– Я его тоже не читаю.
– Плохо, – он положил на столик, за которым мы сидели в кафе, полуоткрытую папку и указательный палец всунул между обложками обоих журналов. – Иногда я думаю, что наши знания о любви похожи на магнитную иглу, постоянно дрожащую и колеблющуюся между «Плейбоем» и «Medical Review».
– Еще есть Эрих Фромм, – заметил я.
– Простите, я забыл. После ужасов современного психоанализа человек окунется в его «Искусство любви» как в чистый родник. Что-то вроде «Love story». Его любовь так идеальна, что ее могут испытать только идеальные модели вроде тех, которых представляли Вебер и Юнг. Это хорошо для людей, уже настолько созревших, что, как говорит Фрейд, они могут стать сами для себя и отцом, и матерью. Однако я никогда не встречал такого человека, обычно он бывает не столь уж образцовым, а с конкретными достоинствами и недостатками.
– Вы можете предложить что-то другое?
– Немного порядочности, мой дорогой. Хотя бы настолько, чтобы казаться человеком, которого можно было принять в приличном обществе.
– В чем же вы меня хотите упрекнуть? Нет, на этот раз мы обойдемся без пива. Будьте добры, два кофе.
Ганс Иорг вынул из папки поблескивающую лаком мою «Розамунду», которая вышла в немецком переводе, что позволило мне наслаждаться комфортом в гостинице «Элефант».
– Неужели вы никогда не имели женщины? – спросил он.
– Ну как вам сказать…
– Много?
– Немного. Впрочем, это не совсем точный ответ…
– Неважно. Я вас понимаю. А девственницы? Бывали такие?
Я закашлялся от смущения. Он деликатно улыбнулся, повторил вопрос, добавив:
– Представьте себе, что на мне белый халат и на шее висит стетоскоп. Возможно, вам будет легче отвечать.
– Да, я имел дело с такими девушками.
Он постучал пальцем по лакированной обложке «Розамунды».
– Между вами и ими все происходило так, как вы описали в своей книге?
– Ах, вы именно это имели в виду, когда говорили о порядочности. Нет, было не так, как я описал. Но я, – сказал я ледяным голосом, – не пописываю ни в «Плейбой», ни в «Medical Review», господин Иорг.
– Но где-то ведь должна быть правда, разве не так?
– Возможно.
– Где?
– Ба, – засмеялся я, – вам сначала придется доказать, что правда об этом предмете кому-то нужна.
– Согласен, – Иорг легонько ударил по мраморной поверхности столика, – но для этого необходимо отправиться в мой номер в гостинице «Элефант». Там у меня несколько книг, которые будут нужны в качестве доказательств.
Было ясно, что этот человек стремился меня уничтожить. Ганс Иорг пытался переставить во мне все перегородки, как он это называл. Хотел меня расчленить при помощи тончайших инструментов, которые зовутся литературой. Меня радовала уже сама мысль, что все его эти буры, сверла, кайла, ацетиленовые горелки начнут сгибаться, ломаться, разрушаться, сталкиваясь с огромной и твердой материей культуры, которая залегала во мне, как лава, выброшенная извержением вулкана.
«Ничего у вас не получится, господин Иорг, к тому же мы находимся в Веймаре, колыбели человеческой мысли. Со мной вместе будут Гете, Гердер, Виланд. Да, да, именно Веймар, концерты Листа, Мицкевич, Шиллер, Иоганн Себастьян Бах, „Лоэнгрин“. Впрочем, у меня у самого достаточно высокий уровень культуры».
«Он просто шарлатан, – думал я, – живет в той же, что и я, гостинице, отсюда он столько обо мне знает».
Но мне было интересно, до каких же моих пластов он хочет добраться. Что во мне откроет? Мистера Джекилла или мистера Хайда? Я тут же начал вспоминать, какие грехи я совершил, однако решил, что он вряд ли докопается до чего-нибудь серьезного, разве что до нескольких не очень серьезных свинств. Но все они были маленькие, страшно маленькие. Возможно, совсем незаметные. Я мог считаться образцом добродетели. Меня даже не тянуло к продажным женщинам и мужчинам. Да, я мог гордиться собой.
– Слышали ли вы об американском литературном критике Бенджамене Литауэре? – спросил меня Ганс Иорг. – Знаменитость в своем роде. А ведь в недавнем интервью, данном Орлане Фалаччи, он заявил, что история литературы – это, с небольшими исключениями, перипетии сексуальных неудачников, потенцию которых отняли наркотики и алкоголь, врожденные или приобретенные пороки. Литауэр спрашивает Орлану Фалаччи, знает ли она, как сильно искажена картина мира, видимая глазами наркомана или гомосексуалиста, который с молодых лет вынужден скрывать свои наклонности, живет в постоянном страхе, опасаясь разоблачения, насмешек, общественного осуждения. Его поприще – это мужские писсуары, где он заводит знакомства и устанавливает контакты. Так он растет, полный ненависти к обществу, а потом, когда добивается чего-то в жизни, стремится взять реванш. Часто гомосексуалистами становятся психопаты: они лживы, склонны к предательству и к самому крайнему оппортунизму, они готовы на все, лишь бы им не мешали заниматься своим видом любви. Не хотелось бы перечислять фамилии…
– Не надо. Со своей стороны я могу назвать имена нескольких похотливых бычков. Вы знаете, что проделывал в борделях молодой Толстой? Мне кажется, что среди писателей точно такой же процент неудачников, как и во всем человечестве. Столько же наркоманов, импотентов, гомосексуалистов, алкоголиков.
– Все это прекрасно, дружище, – согласился со мной Иорг, – но Литауэр утверждает, что, если дворник его дома без конца пьет и у него дрожат руки, то для общества это безразлично, пусть о поведении дворника беспокоятся его жена и дети. Но обществу небезразлично, если подобные вещи происходят с хирургом, которому приходится оперировать пациентов. Не может это быть безразлично и применительно к существу, которое хочет выполнять роль демиурга и создателя нового мира.
– Господь Бог тоже был неудачником, господин Иорг. Чем вы объясните мне загадку, что наш мир выглядит так, как он выглядит?
– Не шутите, дружище. Литауэр предполагает, что в деградации молодого поколения в Америке в какой-то степени повинна также и литература, которая кормит нас ложным представлением о человеке.
– Ну и что? До тех пор, пока все это остается предположениями Литауэра, мне совершенно безразлично. Другое дело, если кто-то из таких рассуждений сделает практические выводы. Тогда уже придется браться за пистолет. Легче всего сказать, что во всем виноваты яйцеголовые. Почему нет хлеба и работы? Потому что писатели пишут плохие книги. Почему не идет дождь? Почему случилась засуха, почему подорожала нефть, почему родился теленок с двумя головами? В восьми километрах от Веймара расположен Бухенвальд. Здесь колыбель утонченной человеческой мысли, а там – место, отмеченное преступлениями. Прекрасное соседство. Возможно, так будет всегда. Пусть этот Литауэр скажет прямо, что старые писатели, как правило, умели писать, а молодое поколение так не может, поскольку оно недоученное. Как-то раз ко мне пришел автор популярных рассказов. Конечно, он знал, кто такой Кафка, но понятия не имел, кем был Кречмер. Когда-то я ему сказал, что его герой не может себя вести один раз так, а другой раз иначе, ведь он представил его нам в начале рассказа как циклотимика, а под конец шизотимика, в первый момент он экстраверт, а потом становится интровертом, автор обиделся и заявил, что его все эти научные термины не интересуют, потому что человек одновременно может быть таким, сяким и этаким.
– Однако и вы наконец-то заговорили по-другому, – обрадовался Иорг. – Но все же вы забыли, что бывают типологически смешанные личности. Кстати в Вокульском вы замечаете шизотимические черты, но эмоционально проявляются и признаки циклотимии.
– Согласен, – сказал я, – но, несмотря на это, я злюсь, когда ко мне приходит молодой человек и показывает прозу, в которой героиня – существо загадочное и таинственное только потому, что однажды она встречала любовника веселой и безмятежной, во второй раз – неожиданно стала грубой и плаксивой, а в третий – почему-то беспричинно смеялась. Я ему говорю: «Дорогой, ведь это загадка для маленьких детей. У нее просто были месячные». Но, естественно, он не знает, что женщина совсем иначе реагирует на некоторые вещи перед самой менструацией, иначе во время менструации, а еще иначе после менструации. Сейчас он всем рассказывает, что я биологический детерминист. И разве это моя вина, что у человека реакция замедляется или становится быстрой в зависимости от того, идет ли дождь или светит солнце? Он мне показывает современного героя, который ведет себя странно. Я думаю: паранойя, шизофрения, рассеянный психоз? Нет. Это просто симулянты. Мне хочется, как доктору из романа Гашека, громко заорать: «Поставь им клизму!».
– Браво! Браво! – захлопал в ладоши доктор Иорг.
«Подожди, мерзавец, – сказал я себе, – я тебя научу, как издеваться над людьми».
Номер Иорга в гостинице был очень похож на мой, впрочем, все номера в гостинице, вероятно, были одинаковыми, и о каждом горничная говорила: «Здесь когда-то спал Адольф Гитлер». Тщательно застланная кровать, большой столик со стопкой книг и рукописей, на шкафчике немного лекарств и стетоскоп (ипохондрия? Лекарствомания?).
«Господин Иорг, разденьтесь до пояса. Прошу вас сесть, сюда, на край кровати, пожалуйста, подышите, теперь не дышите, прошу вас, дышите глубже, покашляйте. Посмотрите на мой палец. А сейчас вытяните вперед левую руку, а теперь правую. Меня беспокоит ваш реберный угол диафрагмы, господин Иорг. Ах, это старая история? Да, да, но нельзя простужаться. Пожалуйста, откройте рот, высуньте язык и скажите: „Ааааа…“. Разрешите мне взять ваш стетоскоп, господин Иорг. Вы говорите: „Только не сломай его?“. Вы воришка, друг мой. Вы не Пшебыслав Хиппе, а я не Ганс Касторп[25]. И дело вовсе не в карандаше. Я не буду его точить и собирать очистки на память о нашей встрече. Повторяйте за мной: «Arma virumque cano» – «Оружие мужа воспеваю». Да, да, очень хорошо. Вертер носил голубой фрак и желтую жилетку, а Лотта – белое платье с розовыми бантами. Потом сотни молодых людей одевались а ля Вертер. Грустно, что сейчас некоторые носят галстуки, рубашки и чемоданы а ля Бонд и никто не хочет одеваться а ля Богумил или Барбара. Существуют «Ночи и дни»[26], но на самом деле речь идет только о днях, потому что о ночах ничего нет. В церковном хоре мы пели: «Все наши дневные дела», а вы хотели бы, чтобы пели и «Все наши ночные дела», вот это и есть биологический детерминизм. Существует каждодневная жизнь и еженощная копуляция, и в зависимости от того, как это у кого получается, так потом человек решает свои дневные дела. Может быть, вы тайный поклонник культа фаллоса? Скажи мне, как ты копулируешь, а я тебе скажу, кто ты. Вы думаете, что я симулирую шизофрению? Дорогой господин Иорг, если бы я захотел, то делал бы это более или менее профессионально, и вы поставили бы мне прекрасный диагноз. На пятом курсе медицинского института я симулировал даже туберкулез. Легче всего такие вещи делать перед большим специалистом. Обычный врач посмотрел мой снимок и сказал: «Вы здоровы». Простите, а левое легкое? «Ну, да, необходимо сделать компьютерную томографию». И томография тоже ничего не обнаружила. А большой специалист, который в своей преогромной практике видел десятки тысяч снимков и мог иметь свое собственное кладбище, сказал своим ассистентам, доцентам и адъюнктам: «Мне известны случаи, когда и компьютерная томография ничего не обнаруживает, а человек болен туберкулезом». Вот так я получил академический отпуск, слава тебе, Господи. Мой друг-дерматолог часто мне говорит: «С Вассерманом тоже нет абсолютной уверенности. У меня совесть чиста только тогда, когда я у кого-то обнаружу бледные спирохеты». Итак, каждое правило, которое считается идеальным, должно иметь исключение, иначе становится подозрительным. Но мы, люди, стремимся к абсолюту. Нам нужны правила без исключений, опыт, который всегда и в любых условиях подтверждается. В нас сидит маленький чертенок, время от времени он рассуждает так: «Доктор не прав, это ясно. Я знаю дядю. У него все совершенно иначе. Дядя пьет и курит, а живет сто лет». Лавочник говорит своей жене: «Врачи – это банда идиотов. Ты видела когда-нибудь человека, у которого рак легкого? Я вижу горбатых, чахоточных, диабетиков, людей с язвами двенадцатиперстной кишки, но еще никто не показал мне пальцем на улице: „Смотри, там идет Зенек, у которого рак легкого“. Фрейд? Что вы, это все устарело. Теперь необходимо знать Юнга. Хотя нет, он тоже устарел. Хомски, вот кто, милостивый государь. А я вам говорю, что и он не отвечает современным требованиям, потому что мой дядя пьет, курит и живет уже сто лет, вовсе не чувствуя себя одиноким и потерянным. Бог есть, поскольку Вольтер на ложе смерти поверил в него. Бога нет, потому что Вольтер написал „Кандида“, которого я, конечно, читал, и он мне очень понравился. А как ваша простата, господин Иорг? Разрешите, я вложу палец в задний проход. А теперь спойте со мной: „Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та“. Прошу вас встать. Это „Eine kleine Nachtmusik“[27], ее нужно слушать стоя. Только стоя можно понять музыку. Впрочем, возможно, это тоже устарело…
– Пожалуйста, успокойтесь, доктор, – сказал Ганс Иорг. – Ведь мы должны были долбить и перестраивать, зондировать и переставлять стенки, перемещать пласты и проводить геологическое бурение, чтобы наконец извлечь ваше новое «я». Пожалуйста, не смотрите на часы. Эта женщина уже не уедет ни на автобусе, ни на поезде. Она выпрыгнула из окна совсем в другом городе и совершенно в другое время. Впрочем, возможно она пошла на чердак и повесилась на бельевой веревке. Вероятно, у нее был маниакальный психоз, ваше чувство вины – это не что иное, как литература, залежи благородной руды, которые наслаивались в вас с детства. Прекрасная, благородная, плодоносящая куча компоста, возвышенное дерьмо, на котором, быть может, прорастает цветок вашего таланта. Нам ничего другого не остается, как глубоко перепахать, перелопатить слой чудесного и животворного говна. Надо перестать верить в литературу, дружище. Только из большого неверия рождается великая и пылкая вера, только маловера может поразить блеск святости, как это произошло с Павлом-Савлом. Человек, которому чуждо всякое насилие, должен его совершать. Пусть это будет насилие над литературой – чудесной и прекрасной, непорочной орлеанской девой, которая под своими знаменами ведет нас к вершинам величия и благородства. Пусть до небес донесется пронзительный визг наших добродетельных литературных критиков. Здесь, в колыбели культуры, в старом Веймаре. Это будет извращенное насилие, как в церкви. К делу, дружище. Настало время подвигов.
* * *
– Почему ты не спишь? – спросила меня жена, хотя из-за полной темноты в комнате она не могла видеть ни моего лица, ни моих открытых глаз, и, видимо, только мое дыхание подсказывало ей, что я бодрствую.
– Собака уже полчаса лает на опушке леса, – сказал я.
– И в самом деле, – шепотом ответила она.
– А ты слышала топот лошадиных копыт? Это опять по краю болота скакал фон Бальк и вез новую девушку.
– Неправда, – тихонько засмеялась она, – я не слышала топота лошадиных копыт. Скажи мне, почему ты никогда не можешь остаться один?
– Не знаю. Может быть, потому, что я их когда-то очень любил и они всегда были рядом со мной, во мне, во всем, что меня окружало.
– Ты их и сейчас тоже любишь.
– Ошибаешься. Я хотел бы стать свободным. От них, от себя. Любовь к ним словно держит меня в клетке. Они мне диктуют слова, жесты, поступки и мысли. Страшно, что я постоянно смотрю на них и, как в зеркале, вижу себя. Это я написал «Декамерон» и «De republica emоndanta»[28]. Поэтому я слышу топот лошадиных копыт, а до твоих ушей доносится лишь лай собаки.
– И тебе хочется привозить все новых и новых девушек? Как делает это твой Бальк.
– Да, – бросил я в темноту.
– И от моей любви ты тоже хотел освободиться, – сказала она грустно.
– Собака лает уже около получаса, – снова заметил я и хотел встать с тахты, но ее рука тут же легла на мою грудь сильно и властно. Удивительно, сколько силы может иметь любящая женщина. Ее дыхание щекотало мою шею, она несколько раз глубоко вздохнула, словно вдыхая запах моей кожи.
– Когда-нибудь я тебя убью, – сонно шепнула она.
Я ответил:
– Собака лает минут тридцать. Надо встать посмотреть, что там случилось. Здесь же пустынное место, пойми. В один прекрасный день кто-нибудь придет и в самом деле убьет меня.
Она позволила снять свою ладонь с моей груди. Я облегченно вздохнул, освободившись от тяжести ее руки, сел на тахте и на ощупь нашел свой халат, лежащий на скамейке. Потом размял руки, словно освободил их от наручников.
Жена тоже встала и, набросив на себя мое старое пальто, вышла со мной на крыльцо.
– Простудишься, – сказал я, но октябрьская ночь была очень теплой, туман покрывал болото и опушку леса, выползал на середину луга. Светил молодой месяц, темнота была неподвижной, откуда-то из белой пучины доносился яростный собачий лай.
– Он лает на ежа, который вышел на охоту, – заметил я, потому что определил это по лаю собаки. Я тихонько свистнул, и спустя минуту прибежал мокрый от росы пес. Он принес с собой запах болота и ила.
Небо было беззвездным, туман стелился по земле, как дым от угасающего костра: такой же седой и бесформенный. Говорят, что в октябре видно много падающих звезд. Я в своей жизни видел только одну падающую звезду и то в сентябре. Но я верил людям, что звезды падают именно в октябре.
Я прислонился плечом к украшенной резьбой балке крыльца. Барбара прижалась ко мне, и так мы стояли молча в тишине, слушая громкое дыхание собаки, уставшей после быстрого бега по лугу. Я думал о том, существует ли на свете в это мгновение еще кто-нибудь, кто стоял бы также напряженно и мучительно думал о своей жизни. Я жил в прекрасном мире, плавал в нем, как в озере с бархатистыми волнами, которые приятно щекотали мое тело. Туман вился у моих ног, тишина входила в терзавшие меня мысли, несмотря на темноту я хорошо видел опушку леса, канал, заросший камышом, висящий в небе месяц и чувствовал пушистую зелень луга под нами. Мое старое пальто скрывало женское тело, всегда жаждущее моей любви. Но во мне была ложь и чувство вины, страх перед наказанием и преследующее меня ощущение греховности. Красота окружающего меня мира была и в прикосновении руки женщины, сильно и властно покоящейся на моей груди, когда я собирался ночью встать и пойти, чтобы спасать правду. Мне хотелось кричать, но пахнущая вереском ладонь ложилась мне на губы, и я цепенел от блаженства. Десятки раз я вставал ночью, поднятый лаем собаки или непонятным шумом, и смело шел в темноту, в неизвестность навстречу опасности и риску, и в то же время я никогда не осмелился сказать хотя бы слово правды, не мог поделиться своими мыслями. Я чувствовал себя сильным, был очень любим, но заверял, что я слаб, надеясь пробудить жалость и сочувствие. Я падал на землю в конвульсиях, изображая падучую болезнь, а на самом деле жил, как дровосек, и с большим удовольствием ел черствый хлеб. Я заманивал свою жену на ложе, как фон Бальк девушку на седло своего коня, но говорил, что всякая женщина кажется мне загадкой и делал вид, что их не понимаю. Однако им постоянно было мало всех этих модных спазм, конвульсий, трясок и дрожи, моих слабостей и терзаний. Я старался привить себе все модные болезни, лишь бы выглядеть бледным и болезненным. «Соли. Нюхательной соли!» – кричал я, падая в обморок на модный диван с покрывалом ручной работы, пока не стал и в самом деле измученным и одиноким, с ложью, которая вилась у края рыжих болот. Дальше было только озеро, пахнущее илом и метаном, холодное и скользкое пространство, которое заполняло белое облако. Одиссей должен был скитаться, поскольку мог плыть только фордевиндом, и никто ему не сказал, что существует ветер истинный и ветер кажущийся. «Ловите ветер в паруса», – вероятно, говорили ему литературные критики. Но тогда не знали шварта и киля. Сегодня плавают бакштагом, чуть наискосок к линии ветра. «Ловите ветер в паруса. Нельзя плыть против моды и традиции. Надо постоянно скитаться, как Одиссею, тогда впереди тебя будет ждать Итака». Так было и так будет всегда. Это требования нашей моды. Сегодня в Итаку плывут без скитаний, потому что есть компас и секстант, потому что есть также кажущийся ветер, киль либо шварт, который поднимают или опускают в колодец выдвижного киля. Но все это не создает прекрасного, ибо история Одиссея имеет лишь ценность метафоры, компас и секстант следует выбросить за борт, каждый должен скитаться на пути в свою Итаку. На колени, господин Иорг! На колени! Побольше смирения! Знание – это мираж, ложь и обман, надо изображать слепца и постоянно блуждать в поисках самого себя. Попробуйте заболеть шизофренией, это наша модная болезнь, наши стрессы и фантазии. На колени, господин Иорг. На колени. Иоанна погибла в другое время и в другом городе. Возможно, она выпрыгнула в окно, поскольку ее партнер был принципиальным противником насилия. А может, она повесилась на чердаке дома, поскольку ее мать говорила, что любовь не разменивается на мелочи. Смиритесь, господин Иорг, мы вместе будем симулировать шизофрению.
* * *
– Над кем будем работать? – спросил я, наполненный радостным возбуждением.
– Для начала предлагаю Моравиа[29].
– Шекспир, – шепнул я, дрожа от волнения. – Сервантес, Достоевский. Мне хотелось бы низвергать самые великие святыни.
– Странно, – пробормотал Иорг, – вы вчера еще были готовы гладить почтенные кресла, просиженные благородными задницами, а сегодня готовы надругаться над святынями. Однако сегодня мы немного посмеемся над Моравиа. Тут будет присутствовать любимая вами извращенность, поскольку Моравиа заявляет о своих претензиях на то, что он знает женщин и разбирается в любовных делах. Если операция будет болезненной, кричите. У меня где-то здесь в столе есть ампула долантина.
– Это излишне, режьте без наркоза.
– Отлично. Итак, я беру в руки «Равнодушных» и «Римлянку». Позавчера мы рассуждали о том, насколько вреден миф об идеальной любви, любви несостоявшейся, любви, известной всем как платоническая. Мы выдвинули гипотезу, что такая любовь встречается в произведениях художественной литературы, однако на самом деле она, похоже, является результатом состояний, назовем их изящно нервными, у лиц психически неуравновешенных и в качестве таковой, пожалуй, не может быть предложена молодым людям и взрослым в качестве образца для подражания. Это требуют принципы педагогической профилактики. Больных следует лечить, а не заражать болезнью здоровых людей. В крайнем случае, если мы хотим выработать у них иммунитет, но только в маленьких, очень маленьких дозах, строго по предписанию врача. Мы также обсудили проблему, называемую «Amor infelix», которая родилась в богатом писательском воображении. Медицина не знает ничего подобного. Если же какой-то писатель утверждает, что можно влюбиться до безумия, то пусть, черт возьми, сам лечит больного, а не сваливает эту работу на нас, врачей. Некоторые из них заявляют, что мы любого человека делаем сумасшедшим, но в действительности, если с кем-то плохо в его семье, то он звонит и вежливо спрашивает, нет ли у нас случайно свободной койки, а с местами в больнице, как вы знаете, всегда проблемы. А теперь давайте займемся другим мифом, который мы назовем «мифом первой брачной ночи». Сколько же молодых девушек мечтает о мгновении, когда, наконец, исполнится их предназначение, они окажутся в постели со своим возлюбленным и смогут вгрызаться зубами в свое счастье, как в буханку хлеба. Иногда они годами ждут этой минуты, отвергая тысячи соблазнов, ибо с нетерпением ожидаемая ночь с любимым мужчиной должна их с лихвой вознаградить за все лишения и страдания. Не будем ханжами, друг мой. Я вовсе не имею в виду только брачную ночь, речь идет о той великой долгожданной минуте с любимым человеком. Об акте свершения, к которому с таким пиететом и совершенством готовит молодых людей общественная литература, представляя его как момент самой большой радости, страсти и счастья. Можно сослаться на великие имена, мы же удовлетворимся Моравиа, поскольку он как раз оказался под рукой. В «Римлянке» он описывает, как Адриана во время первого полового акта отдается с яростной страстностью, целует Джино, кусает его, обнимает, словно хотела бы его задушить – и удовлетворяет свою страсть. В «Равнодушных» Лео заснул измученный и пораженный распутством Карлы, которую он лишил невинности. Я вас, дружище, спрашивал, имели ли вы когда-нибудь связь с девственницей. У меня, мерзкого сатира, такие случаи бывали. Впрочем, я как врач – который изучал анатомию и имел дело с многочисленными случаями – знаю, чем является акт дефлорации. Знаю эти стоны, рыдания, отвращение, негодование и даже враждебность к человеку, который совершил дефлорацию. Мне известны случаи, когда девушка возненавидела парня, которого вчера так сильно любила. Оргазм у девицы так же редок, как комета на небе. Некоторые девушки, которые носили в сердце и мечтах литературный образ любви и первой ночи с любимым, встают с любовной постели иногда с глубокой психической травмой, остающейся до конца жизни. Она ждала минуты счастья, а у нее появилось чувство, что ее оскорбили. Возможно, и литература несет в какой-то степени ответственность за появление психических калек, которых нам потом приходится лечить. Сколько же моих коллег по профессии жалуется, что процесс лечения пациента или пациентки им приходится начинать с того, чтобы выбивать им из головы навеянное литературой представление о любви. В литературе принято, что счастье в любви можно пережить только вдвоем, а бедному врачу приходится использовать групповую терапию. Литература говорит, что любовь к обожаемой женщине усиливает наслаждение и полноту счастья, а несчастный доктор вынужден советовать молодому импотенту, который слишком уж любит свою жену, чтобы он пошел к проститутке, поскольку у многих людей более сильные эмоции вызывают связи, основанные на негативных, а не на позитивных чувствах. Я не хотел бы, друг мой, в вас оскорблять писателя, но с каждым годом углубляется пропасть между личным опытом писателя и его литературной практикой. Ваша «Розамунда» как раз может служить таким примером. Разве вы не описали там первую ночь с девушкой как нечто чудесное, дающее удовлетворение, страстное? Там нет ни страха, ни боли, ни кровотечения. И это сделали вы, врач по образованию.
– Меня обязывает определенная литературная традиция.
– А порядочность? Всего-навсего мелкая и незначительная порядочность, о которой мы с вами говорили.
– Это не имеет ничего общего со мной.
– В ваших книжках говорится, что достаточно, когда он любит ее, а она любит его, и тогда все в порядке, можно книгу закончить, подписать и отдать в печать. Но я вам говорю, что это неправда, и вы тоже это знаете. Ведь именно у вас когда-то была девушка, которую вы любили и которая любила вас. Это было давно, очень давно, все происшедшее вы скрыли глубоко, на самом дне своих геологических формаций. Вы слишком быстро кончали, правда? Она любила вас, вы любили ее, но с вашей возлюбленной жил один отвратительный тип. Она вас и в самом деле любила. И вы читали Шекспира, и Толстого, и Томаса Манна, но умнее от этого не стали. И тогда вы пришли ко мне, к доктору Гансу Иоргу, а я, отложив в сторону Вергилия, сказал вам: «Литература прекрасна, она рассказывает множество трогательных любовных историй, но сейчас ложитесь на этот холодный клеенчатый диванчик, и я вам сделаю укол». Впрочем, если мне память не изменяет, я вам тогда прописал серию уколов, после которых вы себя почувствовали значительно лучше, вас перестали мучить мысли о самоубийстве, вы взялись за учебу, нашли себе новую девушку. Ага, у меня что-то не так с памятью. А может, как раз вы были тем противным типом, который спал с девушкой, влюбленной в одного молодого человека, и в связи с этим вас тогда мучили легкие угрызения совести. Впрочем, разве это так важно? Главное, что ничего из пережитого вами не осталось в том, что вы пишите.
– Ну, литературная традиция…
– Что это такое, черт возьми, ваша литературная традиция? Неужели снова речь идет о какой-то «священной корове», которую нельзя согнать с дороги, чтобы она не мешала уличному движению? Не задумывались ли вы когда-нибудь – на каких копытах ходит эта традиция? Один великий французский писатель, которого я лечил от гомосексуализма, откровенничал со мной: «Я очень люблю своего шофера, Антуана, и описал его в романе как прекрасную Антуанетту, чтобы не оттолкнуть от себя читателей, как это сделал Жид. Не думаете ли вы, доктор, что таким же образом до меня поступали многие?». Предположим, что некое зерно истины присутствовало в наблюдениях этого человека, и представим, как выглядело бы описание гомосексуальной любви между молоденьким мальчиком и мужчиной. Отпадает момент дефлорации, страдания, кровотечения, физической боли[30], остается лишь страсть, любовный экстаз, чувственное удовлетворение и в крайнем случае, если это касается мальчика, некоторой стыдливости, размышлений о завтрашнем дне, какие-то моральные проблемы.
«А завтра утром?» – спрашивает себя Карла в «Равнодушных». В «Римлянке» потерявшая невинность Адриана чувствует не физическую боль, а лишь страх, что «теперь Джино не захочет на мне жениться». Возможно, если бы женские имена заменить мужскими, например Адриану на Адриана, а Карлу на Карла, другими словами, поступить иначе, чем это сделал мой пациент, мы получили бы истинную, соответствующую действительности картину. Такую же операцию можно было провести с другими литературными произведениями. Быть может, мы обратили внимание на то, что литературная традиция унаследовала описание акта гомосексуальной любви как акта любви гетеросексуальной. Недостаточно дать герою женское имя, кое-где добавить округлости и надеть ему платье. Все равно останется модель мужских сексуальных реакций, так характерная для многих героинь наших романов. Значит, можно сделать смелое предположение, что в очень далеком прошлом какой-то гениальный писатель – произведения которого, возможно, даже не сохранились до нашего времени, так же как не сохранилось множество греческих и римских творений – прекрасно показал акт гомосексуальной любви, который он по каким-то причинам представил как акт любви гетеросексуальной. И с тех пор многие другие писатели копируют или только пародируют это описание, придерживаясь литературной традиции. Другие вообще все игнорируют – и традицию, и знания о человеке. Вот я недавно читал роман, в котором герой-мужчина, якобы прекрасный любовник, во время акта с женщиной всегда «впадал в мрачное забытье». Это смешно, милостивый государь. Так переживает подобные вещи женщина, а не мужчина. Автор не пожелал использовать ни свой опыт, не обратиться к Гизи или к книгам других знатоков предмета. Он написал так, как написал, поскольку ему это показалось интересным. А верно ли описание – для него подобные мелочи не имели никакого значения. Итак, в современной литературе мы имеем полный трансвестизм – мужчины переживают любовь как женщины, а женщины как мужчины. Но разве так поступал, например, Гомер? Конечно, мы ничего не знаем о Гомере, даже не уверены, существовал ли он в действительности, но все же Гомер вряд ли был слепцом, как нас учит легенда, похоже, он на мир смотрел широко открытыми глазами. Описывая дружбу Ахилла и Патрокла, Гомер недвусмысленно дает нам понять, что между ними была гомосексуальная любовь. Прошу вас обратить внимание, с какой гениальной последовательностью он придерживается этой концепции при описании Ахилла, который после смерти Патрокла реагирует не как мужчина, а как женщина, потерявшая любовника. В отчаянии Ахилла нет ничего от мужской сдержанности, он прямо-таки по-женски рвет на себе волосы. Не подлежит сомнению, что в этом союзе Ахилл играл роль женщины, а Патрокл – мужчины. Что мы знаем о воспитании Ахилла? Он рос среди девушек как девушка, постоянно переодетый в женские одежды, известно, что он прял на прялке. Современная медицина утверждает, что воспитанный таким образом мальчик вырастает либо трансвеститом, либо гомосексуалистом – и к тому же играющим роль женщины в союзе с другим мужчиной. Гомер, милостивый государь, уже за одно это получил бы степень почетного доктора любого университета или любой медицинской академии… Может, хватит, друг мой?
– Да вы меня просто веселите, доктор!
– А не в столь же веселом настроении вы дали интервью «Elle»[31], и, когда вас спросили о том, как выглядит образцовая любовь, вы довольно самоуверенно заявили: «Разве для нас не является образцом любовь Ромео и Джульетты?».
– Я никаких интервью на эту тему не давал.
– Простите, пожалуйста, у меня что-то не так с памятью. Кажется, это у меня брали интервью для журнала «Elle». А потом я вернулся домой и еще раз взял в руки текст драмы Шекспира. Сколько лет было Ромео, дружище? А сколько лет было Джульетте, его прекрасной любовнице? Старик Капулетти однозначно говорит о своей дочери: «She hath not seen the change of fourteen years», а это значит: «Ей нет еще четырнадцати лет». Ясное дело, что речь идет о первой менструации. Капулетти добавляет: «Пускай умрут еще два пышных лета – тогда женою может стать Джульетта». Другими словами, дружище, Джульетте еще два года надо было ждать первую менструацию. Черт возьми, какой же образец я предложил молодежи! Неужели я и в самом деле считал, что девочка за два года до месячных может быть образцовой любовницей? Вы ведь знаете, что диапазон чувств, называемых любовью, зависит от возраста индивидуума, от его общественного статуса, степени впечатлительности и разбуженного воображения. Иначе любит четырнадцатилетняя девушка, иначе двадцатилетняя или даже тридцатилетняя женщина. То же происходит с мужчинами. Некоторые виды чувств вообще невозможно найти у человека, который не достиг определенной ступени физической и психической зрелости. В «Ромео и Джульетте» Шекспир представил нам любовь совершенно зрелых людей, психику которых – для получения большого драматизма – он вложил в детские тела. Предлагая молодежи этот образец любви, я, дружище, совершил преступление против морали. Я рекомендовал детям, чтобы они любили друг друга так, как взрослые, хотя они так любить не могут и не должны. Почему вы пренебрегаете чтением «Medical Review»? Там опубликована диаграмма сексуального напряжения в жизни мужчины и женщины. Из нее вытекает, что Ромео и Джульетта не только не любили друг друга такой любовью, как у Шекспира, но оказались бы в так называемой «первой конфликтной фазе». Их разделяло бы море претензий и жалоб, вытекающих из их неодинакового развития. Двенадцатилетнюю девочку можно изнасиловать. Но нельзя заставить отдаться мужчине с обожанием и страстью зрелой женщины, как это делает Джульетта. Мы пропагандируем литературную ложь в качестве воспитательного примера. Этот пример мы распространяем всевозможными способами. У нас действие новых «Ромео и Джульетт» происходит во время оккупации, в октябре, в ноябре, на Черном континенте и в Южной Америке. Мы распространяем ложь, а если факты ей противоречат, то тем хуже для фактов. Фальшь шекспировского текста мы маскируем, заставляя играть Ромео и Джульетту зрелых актеров и актрис, в противном случае должна была бы вмешаться цензура нравов. Милостивый государь, давайте скажем себе прямо: независимо от эпохи, от климата и социальных условий, сексуальный акт с девочкой за два года до прихода ее месячных является преступлением. В соответствии с законодательством любой цивилизованной страны Ромео отправился бы в тюрьму, какой бы великой любовью не одарила его Джульетта. Драма Шекспира является поэтическим творением и, пока мы ее воспринимаем именно так, в принципе, все в полном порядке. Поэзия имеет право антропоморфизировать животных и описывать любовь зайчика к курочке или вкладывать в тела даже шестилетних детей психику взрослых. Но мысль о том, чтобы молоденькие девочки за два года до первой менструации играли в Ромео и Джульетту, приводит меня в ужас. Покажите мне, пожалуйста, хотя бы одну театральную программу, напечатанную перед постановкой этой пьесы, которая советовала бы сотням молодых парней и девушек не воспринимать все показанное как образец, говорила бы о том, что они слушают поэзию, а не смотрят жизнь. Чью-то настоящую жизнь. Или возьмем другой миф, часто встречающийся в искусстве. В живописи и литературе постоянно повторяется история о купающейся Сусанне и подглядывающих за ней старцах. Но в жизни, дружище, вспомните хотя бы свое прошлое, именно молодые парни через замочную скважину, возбужденные и взволнованные, подсматривают за моющейся девушкой, которая, о ужас, через минуту возляжет на ложе, не скажу, что обязательно старца, а зрелого мужчины. Или еще один миф о куртизанке, прекрасной любовнице, импонирующей своим темпераментом. Передо мной томик рассказов под общим названием «Розамунда». Займемся рассказом, давшим название книге. Это будет не очень больно. Возможно, только вначале, – уверял меня Иорг. – Скальпель очень острый, вы только на секунду почувствуете сильную боль, а потом придет чувство блаженного облегчения, поскольку из вашего подсознания вытечет все то, что гноилось столько лет, вызывало неудовлетворенность. Этих опухолей у вас много: я знаю, что каким-то странным образом вы к ним привыкли, как-то даже сжились с ними и порой даже с мазохистским наслаждением касались больных мест, гордились ими, показывали их своим близким, чтобы они знали, какая вы сложная и трагичная фигура, хотя по вашему виду это было незаметно. Со своей измученной душой вы носились по всем литературным ярмаркам, позвякивали ею, как другие шутовскими бубенчиками, и, на радость читателям, замечательно делали ужимки и прыжки. Но вы отдавали себе отчет в том, что вами, возможно, когда-нибудь займется некто со скальпелем. Однако ваши опасения были напрасными, поскольку вы танцевали под ту музыку, которую вам играли, а нынешние критики не пользуются сверкающими никелем медицинскими инструментами. Их интересуют лишь ваши ужимки и прыжки, но дело в том, что вы недостаточно драматично обнажили им свои боли, свои страдания, свои неудовлетворенность и отвращение к жизни. Вы жили неплохо, но вас особо никогда не ценили. Медицинские знания, которые вы получили в молодости, мешали вам. У вас всегда сознание было раздвоенным, и это чувствовалось. А теперь только один надрез – и все пройдет. Ведь и в самом деле, больно только в начале и всего лишь одно мгновение.
* * *
– Ты стонешь. Просыпаешься с криком, – шептала она мне это среди ночи, целуя мою шею, плечи и грудь. – Скажи, тебе снился дурной сон, а может, у тебя что-то болит?
Мне пришло в голову, что она, похоже, никогда не спит и слышит мое неровное дыхание, каждый громкий вздох, который мог показаться ей стоном. Любовь делала мою жену бдительной и лишала ее человеческих черт, уподобляя чуткому зверю. Барбара напоминала мне моего пса, когда в ветреную и морозную ночь я позволял ему лежать на коврике у моей кровати. Казалось, что он спит, я даже слышал его похрапывание, но стоило мне шевельнуться на кровати или задержать дыхание, как пес просыпался, сразу становясь чутким и беспокойным.
– Во всем виновата эта ноябрьская погода, – сказал я. – Каждую ночь меняется давление, дуют сильные ветры и приносят попеременно то дождь, то холод и даже снег. В такую погоду открываются раны, болят старые переломы и швы, перебитые когда-то кости. Разве я тебе не говорил, что у меня все переломано? Когда я был еще младенцем, меня сбросили со скалы из-за моей очень сильной близорукости.
– Не болтай. Сейчас таких вещей не делают, – засмеялась она.
– Действительно, теперь никого не сбрасывают со скалы, но с ребенком происходит много неприятностей. Помню, когда мне было девять, девочка, старше меня года на два, подговорила, чтобы мы с ней пошли в созревающие хлеба. Там она велела мне снять трусы, и сама сделала то же самое. Потом приказала мне лечь на нее и двигаться, как это делают собаки. Я тыкался в нее своим маленьким членом так, что он у меня заболел, и я убежал домой. А потом пришло первое причастие, и ксендз, внимательно глядя на меня, все время повторял, что самый тяжкий грех – это грех нечистоты. Три раза я сбегал из костела в день первой исповеди, пока ксендз за ухо не притащил меня в исповедальню. Потом он обо всем подробно выспрашивал: сколько ей было лет, было ли ее лоно волосатым, была ли она голой. Я громко плакал, плакал в объятиях матери, а она гладила меня по голове и говорила, что я, похоже, буду святым, раз я так сильно переживаю свой грех. Но это была моя первая и последняя исповедь. Я познакомился с парнем, который не верил в Бога. В библиотеке его отца я нашел книги, говорящие о том, что Бога нет. Это была большая радость и откровение. Я перестал верить, хотя меня всеми силами уговаривали пойти в костел родители, упрашивали тетки. В течение нескольких лет я враждебно и с неприязнью относился к девочкам, но в то же время так и не дал себя убедить отправиться в исповедальню, чтобы перед чужим человеком рассказать, имела ли девочка, которая заманила меня в зреющие хлеба, покрытое волосами или голое лоно. Я знаю, что именно из-за ее лона я стал атеистом, хотя мои родители были уверены, что во всем виноваты книги. Ведь и другие тоже читали такие же книги и не перестали верить в Бога, поэтому я сегодня думаю, что на самом деле перестал верить уже в тот момент, когда жалобно плача, я целовал выложенную епитрахиль. Это было проклятое лоно. Твое тоже не лучше, ненасытное и отвратительное.
– Да, да, – тихонько смеялась она, все сильнее обвивая меня руками и ногами.
– Да и потом со мной делали самые разные вещи. Вытягивали мне пальцы, чтобы я мог охватить октаву на клавиатуре рояля, поскольку им хотелось, чтобы я хорошо играл, зашнуровывали ступни, чтобы они были маленькими, затыкали мне рот гипсом, чтобы я высказывал лишь умные вещи, которые должен говорить хорошо воспитанный человек. Меня шлифовали, кастрировали, заставляли выделывать разные модные выкрутасы на уроках польского языка, моделировали, вырезали миндалины и аппендикс, лишали многих ненужных, бесполезных и даже в чем-то постыдных вещей. Доводили до совершенства написанные мною фразы так, чтобы они не отличались от высеченных на каменных саркофагах литературы сентенций, мне прививали все модные болезни: корь, желтуху, белокровие, шизофрению, паранойю: на глаза мне надели очки с толстыми стеклами, лишь бы я вдруг не подумал, что черное – это белое, а белое – черное. Меня готовили к экзамену по правилам уличного движения, чтобы я мог свободно ориентироваться в обществе. Я постоянно проявлял тенденцию к немодным вопросам, к фабуле и традиции, я ее высмеивал, поэтому меня неоднократно переквалифицировали и я в конце концов начал писать неплохо слепленные приключенческие повести и романы в стиле уходящей эпохи, для тех, кто еще только начинал дорастать до Джойса. Знаешь ли ты, жена моя, что я служил в армии? Но все это было пустяком по сравнению с литературной муштрой, с непрерывным писательским «лечь-встать», постоянным «сражайся или отступай», «защищайся или атакуй». В безлюдных улочках мне ломали кости, но и я научился драться. Костяшки моих кулаков тоже стерлись от ударов, которые я наносил. Знаешь ли ты, какое это странное чувство, когда выходит твоя книга? Словно сидишь на стуле со связанными руками и кляпом во рту, а каждый может подойти к тебе и съездить по лицу. Но не это вызывает у меня стоны и чувство тошноты. Меня преследует страх, мучает сомнение, когда я думаю о наступающем дне, о будущем, которое представляется мне в мрачных красках. Я считаю себя сторонником литературного вымысла, и это может когда-нибудь выйти мне боком. Не знаю, как тебе объяснить, но в современном мире в полном согласии существуют две истины. Одна, которую изучают на гуманитарных факультетах и которую разделяем мы, писатели. Она звучит так: человек – существо общественное. И вторая, которой руководствуются точные науки, занимающиеся человеком. А она констатирует: человек является общественно-биологическим существом. Тут почти нет никакой разницы, так, пустяк. Разве может повредить оценке человека частичка его биологии? Однако эта мелкая подробность меняет почти все. Приведу тебе пример, который по-особому будет звучать в такую ночь, как сегодня, когда мужчина лежит рядом с нагой женщиной, а ноябрьский ветер гуляет за окном и хочется слушать истории об упырях и вампирах, леденящие кровь в жилах. Ты помнишь того человека, который как-то навестил меня и при этом постоянно повторял, что он чувствует бессмысленность своего существования? Помнишь визит адвоката Кламанса[32], его волосы, словно посыпанные пеплом, его слова о том, что он одновременно король и папа, что хочет побыть один, мечтает замуровать двери и окна своего маленького мира?
Когда он навещает меня как писателя, я с особым вниманием слушаю его слова, регистрирую их в памяти, а потом стараюсь передать людям трагедию его существования. Но когда на следующий или даже в тот же самый день его приводят ко мне уже как к врачу, тогда его слова не имеют для меня большого значения. Я выслушиваю его как обычного больного, выстукиваю, отдаю его кровь на анализ. Знаешь ли ты, что иногда видно в крови людей, которые говорят слова, похожие на слова адвоката Кламанса? На черном фоне препарата поблескивают под стеклышком микроскопа белые, сильно скрученные пружинки, каких нет ни в твоей, ни в моей крови, ни у тысяч других людей. Врач знает, что существует тесная связь между этими маленькими белыми пружинками в крови и тем, что данный человек говорит, делает, как себя ведет, если маленькие белые пружинки слишком долго безнаказанно находились в его организме. Но писатель не хочет об этом знать, абстрагируется от биологии человека, видит его только в обществе, в работе, чтении, следит за развитием его мысли. Вот так, моя дорогая, эти две различные истины о человеке существуют рядом, как бы независимо и гармонично. Но меня мучает страх, что однажды кто-то наконец очнется и крикнет: «Хватит!». И, к сожалению, я знаю, какая истина в конце концов победит. Но как тогда будут выглядеть мои и чужие книги? Я вижу черные тучи на горизонте. В моей библиотеке все больше и больше книг, которые говорят об общественно-биологическом существе человека, а мы все продолжаем парить над землей, по которой твердо ступает homo sapiens recens[33].
Помнишь, что я сказал твоей коллеге, когда она пожаловалась, что ее маленькая дочка стала нервной, упрямой – и все из-за того, что она водится с детьми Ягодзинских, которые поселились в соседнем доме? Я ей сказал, чтобы она осмотрела кал своей дочки, поскольку мне кажется, что у нее острицы. Помнишь обиженную мину твоей коллеги? Не знаю почему, но так уж бывает на свете, что люди предпочитают сочинять драматические сценарии и рассказы, вместо того, чтобы взглянуть на кал своих героев. Поэтому все то, что произойдет, не обойдется без страшной и беспощадной борьбы, в которой появятся настоящие трупы, а страдавшие персонажи будут протягивать к небу руки как герои «Ада» Данте. Я знаю, какая сторона в конце концов победит, но мне так жаль мир иллюзий и разноцветных картинок, поэтому я стенаю по ночам и не могу заснуть.
* * *
Объявление в прессе:
«Мартин Эвен – ателье Grands Boulevards. Мужские и дамские обнаженные натуры – без отклонений в сторону порнографии».
* * *
Я зажмурился, когда никелем блеснул скальпель Иорга.
– Рассказ под названием «Розамунда» из вашего тома, – начал доктор Ганс Иорг, – написан в форме монолога красивой проститутки из портового города, которая, отправляясь на своей машине на встречу с очередным клиентом, вспоминает свою жизнь и делает различные психологические отступления. Монолог этот был построен на столь модном сегодня в литературе принципе показа достаточно произвольных ассоциаций, или, как говорится, «является потоком мыслей, вытекающих из подсознания». Форма эта ведет начало из психоаналитической записи, используемой врачами-психоаналитиками в процессе лечения. Речь идет о том, чтобы из пациента извлечь все скрытые комплексы, которые оказывают влияние на его психическое состояние. «Розамунда» прекрасно укладывается в рамки литературной традиции, напоминает «Жития знаменитых куртизанок», «Нана», «Римлянку». Обычно это были прекрасные и наделенные пылким темпераментом особы, которые в результате плохих материальных условий, чьих-то развратных действий или просто несчастной любви начали заниматься любовью за деньги. Такая картина опускающейся на дно девушки нам нравится и соответствует нашему представлению о справедливости. Такова и Розамунда, которая – судя по ее многочисленным любовным приключениям – страдает гиперсексуализмом. Именно этот ничем не утоленный темперамент гонит ее от одного клиента к другому. Но вы так же хорошо, как и я, знаете, что истинной движущей силой сексуализма человека является гипофиз, который выделяет гонадотропины. Однако его гиперфункция может быть заторможена антагонистами, к которым относится эпифиз, считающийся органом, регулирующим сексуальные функции. Вы знаете, что гиперсексуализм проходит, когда используют вытяжку из эпифиза, сейчас самой лучшей считается xipoid epihysale фирмы Квозда. Уже после пяти подкожных впрыскиваний наступает значительное улучшение самочувствия.
– Вы ненавидите литературу! – воскликнул я.
– Больно? – заботливо спросил Ганс Иорг. – У меня есть немного новальгина.
– Идите к черту! – завопил я. – Литература создает свою собственную реальность. И чем она совершеннее, тем более правдива. Мы, к примеру, сегодня знаем, что не было святой иконы на Ясной Горе в период шведской блокады, потому что предусмотрительные монахи вывезли ее в Силезию и спрятали, а ведь сотням тысяч читателей Сенкевича[34] это не мешает умиляться, когда монахи и рыцари, под ураганным огнем, шествуют с иконой по монастырским стенам. Открывая книгу Сенкевича, мы входим в его собственную реальность. Возможно, в этом и заключается вся прелесть литературы. Нам не обязательно знать, существовал ли в действительности герой, достаточно, чтобы автор убедил нас в его существовании.
– Ну, хорошо, хорошо. Я как раз занимаюсь реальностью вашего рассказа. Извините меня, пожалуйста, за неуместные отступления. Mea culpa[35], дружище. Ведь я же говорил, что знания о человеке мешают наслаждаться литературным творчеством.
Я иногда думаю, что для занятия литературным творчеством вообще не нужно никаких знаний. «Розамунда» в этом смысле является самым лучшим примером. Из текста следует, что у героини решающее значение для выбора профессии проститутки имели социальные условия, в которых она оказалась, а также ее собственный опыт. Когда Розамунде было двенадцать лет, ее изнасиловал отец-алкоголик, за что его отправили в тюрьму, обременив девушку комплексом вины, поскольку она на самом деле любила своего отца. Потом в придорожных лесах с Розамундой удовлетворял свое сладострастие ее дядя-автомобилист, а уж окончательно воспитание девочки завершил недобросовестный учитель, который совокуплялся с ней в школьной фотолаборатории. Слишком рано разбуженная и развращенная девица начала потом искать все новых и новых партнеров и, наконец, обманутая в своих чувствах к Каролю, который ее бросил, пошла, как говорится, на панель. Значит, вы допускаете существование травматических факторов, которые могут иметь влияние на психическое развитие человека. Другими словами, вы полностью не отказываетесь от знаний, например, что первые сексуальные контакты молодой девушки имеют решающее значение для ее последующих сексуальных реакций. Если этот опыт был приятный, девушка имеет шансы стать полноценной женщиной, а если неприятный, появляются комплексы и отсутствие желания, которые чаще всего приводят к frigiditas relativa, то есть к относительной половой холодности. Мне не кажется, чтобы насилие, совершенное отцом по отношению к двенадцатилетней девочке, произвело на нее приятное впечатление. Женщина, наделенная пылким темпераментом, редко становится профессиональной проституткой, ее целью являются не деньги, а эротическое наслаждение. Проститутка не выбирает, не руководствуется собственным удовольствием, а отдается тому, кто больше заплатит. Врачебные исследования сотен проституток во всем мире показали, что большинство из них страдает аноргазмией, то есть отсутствием оргазма, а если к тому же они попадают в тюрьму, что у них довольно часто случается, то выходят из нее уже как убежденные лесбиянки. Мужчинам они отдаются за деньги, удовольствие получают обычно только с другими женщинами или не испытывают его вовсе. Конечно, известны случаи, когда двенадцати-пятнадцатилетние девочки убегают из материально обеспеченных семей, чтобы в садовых домиках, возле казарм, совокупляться со случайными партнерами, порою получая от них даже деньги. Как же обычно заканчиваются подобные приключения? Исхудавшие, грязные, но все еще не удовлетворенные, они наконец попадают в кожно-венерологические больницы, а из них – в психиатрические клиники с диагнозом: «андреногенитальный синдром», связанный с нарушением обмена гонадотропина. Причина их поведения кроется чаще всего в мозгу – опухоль третьего желудочка мозга, некоторые разновидности неврофибромы, а также внутренняя головная водянка. Не исключено, что девица с такой опухолью может спровоцировать отца изнасиловать ее, заставить дядю-автомобилиста удовлетворить свою похоть, а легко возбудимого учителя вынудить ее трахнуть в фотолаборатории. Ваша Розамунда не попадает ни в кожно-венерическую больницу, ни в психиатрическую клинику, а глядя на вещи трезво и рассудительно, приобретает прекрасную квартиру, собственную машину, на которой и ездит к богатым клиентам. Она не страдает никаким гиперсексуализмом, ей как раз свойственна относительная половая холодность, что, дорогой друг, в конце концов должно иметь свои литературные последствия. Ибо иначе себя чувствует и ведет женщина, которая отличается пылким темпераментом, и совершенно иначе женщина, страдающая относительной половой холодностью. У вас же все это перемешано, с позволения сказать, и прошу не обижаться, как в мусорной корзине. Подобная же ситуация в «Римлянке»: Адриана идет на панель, поскольку не оправдались ее надежды на любовь Джино. Проституцией ее уговорили заняться мать и подруга. Но какого же рода чувства она испытывает к оплачивающему ее услуги партнеру? Цитирую: «Я же, хоть и подчинялась его воле, однако сразу же ощутила скуку и начала трезво, равнодушно и даже с отвращением, как будто издали, наблюдать не только за ним, но и за собой»[36].
Итак, типичная картина переживаний холодной женщины, отдающейся без удовольствия. К сожалению, уже через несколько страниц Адриана откровенничает с нами: «Такая уж у меня была натура, что, когда я отдавалась, мною руководил скорее пылкий темперамент, чем желание заработать». И как тут быть, дружище? «Пылкий темперамент» или «отвращение»? А может, Моравиа в какой-то момент просто испугался, что портрет женщины, отдающейся только за деньги, может вызвать неприязнь читателей, а ему хотелось завоевать для Адрианы их симпатию? Так какова же правда об Адриане? Когда же она получала эротическое удовольствие? «Когда я брала деньги, мной вновь овладело то острое чувство наслаждения и сообщничества, которое я испытала, когда взяла деньги у Астариты после нашей поездки в Витербо. В этом сказывается, подумала я, моя склонность к такой жизни, и я, должно быть, создана для подобной профессии, несмотря на то, что сердце мое жаждало совсем иного». Бедная Адриана испытывала наслаждение только тогда, когда брала деньги от клиента. Но Моравиа опять в следующих фрагментах говорит о «ненасытном темпераменте» Адрианы, о блаженстве, которое она испытала с преступным Сонцоньо. К сожалению, иногда, вероятно, нужно лгать и изворачиваться, когда ты одновременно хочешь раскрыть какую-нибудь правду и в то же время не потерять симпатии читателей. Вы поступаете так же, дружище. Ваша Розамунда просто рвется к другой жизни, но, кажется, получает наслаждение лишь тогда, когда клиент кладет на стол деньги. Впрочем, продолжим ваш рассказ дальше. Вот Розамунда влюбляется в некоего юношу. Естественно, она скрывает свою профессию и отдается ему даром. И тут Розамунда с ужасом убеждается, что не получила никакого удовольствия. Тогда она садится в машину и едет к клиенту, потому что тот, платя, доставляет ей и некоторое наслаждение. Такие случаи бывают и у мужчин. Вы ведь знаете историю одного поэта, который воспитывался в аристократическом доме и, будучи еще гимназистом, каждое воскресенье получал от матери деньги для того, чтобы пойти в бордель и дать выход своей энергии, такую процедуру мать считала необходимой для его психического и физического равновесия. Так вот, этот человек потом влюбился и женился. Его жена так и осталась невинной, ибо он мог иметь женщину только за деньги. Некоторые сексологи, к примеру Дитц и Гессе, склонны отличать сексуальные извращения, которые они квалифицируют как половые отклонения, – от извращенности. Одной из черт этой извращенности является отсутствие чувства ответственности за сексуального партнера и партнерской общности. Эротические контакты у таких людей бывают мимолетными, кратковременными и анонимными. К извращенности эти авторы относят также и проституцию. Другими словами, по их мнению, не столько желание заработать, а именно эта извращенность может заставить заниматься проституцией того или иного человека. Однако не следует считать, что извращенность означала бы пылкий темперамент или нечто в этом роде. Извращенность может появиться по многим причинам, но все они имеют психическую природу. Одной из них является неспособность испытывать любовь. Такая склонность к извращенности может иметь глубоко скрытые формы. Обратили ли вы внимание, как многие женщины, с румянцем на лице, любят слушать истории о проститутках, каким большим успехом у читателей пользуются такого рода романы; и не здесь ли скрывается причина большого успеха вашей «Розамунды»?
* * *
«Мартин Эвен – ателье Grands Boulevards. Мужские и дамские обнаженные натуры – без отклонений в сторону порнографии».
* * *
О Гансе Иорге я хотел написать книгу и фрагмент ее выслал в издательство. Через шесть недель я получил ответ, в котором говорилось, что издательство не приняло моей заявки. К письму было приложено мнение рецензента:
«Автор любимых читателями популярных приключенческих книг предложил нам на этот раз заявку на роман, который может вызвать только недоумение. С хунвейбинским отношением к литературным традициям, используя псевдомедицинскую терминологию, он пытается расправиться со всей великой литературой, абсолютно ничего в ней не понимая. Психиатрические диагнозы столь же неуместны для объяснения литературы, как изучение конструкции подводной лодки при разборе литературных достоинств „Ветра с моря“. Поистине прав был Бюффон, что стиль – это человек. Стиль данной заявки свидетельствует о душевном складе и личности автора, который все проблемы между женщиной и мужчиной свел к физиологическому редукционизму. Иногда складывается впечатление, что это просто шутка. Но серьезность и напыщенный тон, с которым Ганс Иорг (кстати, его имя было автором позаимствовано с этикетки на коробке из-под старого голландского чая) произносит свои проповеди, заставляют считать, что автор намеревался написать, по крайней мере, „Волшебную гору“ (намеки на Касторпа), однако, к сожалению, ему не хватает интеллектуального мастерства. Стиль его неряшлив, неупорядочен, отсутствует какой-либо драматизм, рассуждения бессодержательны. Если даже и попадается какое-то зернышко истины, то оно тонет в потоке болтовни и псевдонаучной бессмыслицы. Позволю себе привести несколько цитат: „…Нам ничего другого не остается как глубоко перепахать, перелопатить слой чудесного и животворного говна“, или: „…наши знания о любви похожи на магнитную иглу, постоянно дрожащую и колеблющуюся между „Плейбоем“ и „Medical Review““. И в таком стиле между „Плейбоем“ и „Medical Review“ автор предлагает нам весь роман. Это не литературное произведение, но я сомневаюсь, напечатает ли его даже „Врачебное обозрение“. Похоже, автору неизвестно, что медицина и другие науки, как, например, социология, сегодня оказались в тупике. Автор, кажется, не знает, называя в одном ряду „Равнодушных“ и „Римлянку“, что первую из них Моравиа написал, когда ему было двадцать два года, вторую – в сорок лет. Теорийка о традиционном описании первой брачной ночи, позаимствованном якобы из акта гомосексуальной любви, находится на том же литературном и интеллектуальном уровне, как и все остальное. Мне кажется, что даже личный разговор с автором по поводу его новой заявки бессмыслен, поскольку из этой темы ничего нельзя выжать».
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу