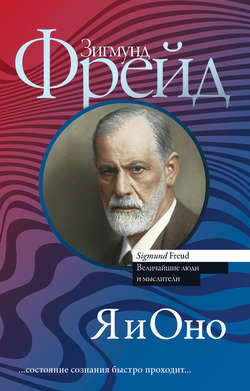Читать книгу Я и Оно (сборник) - Зигмунд Фрейд, Josef Breuer - Страница 3
По ту сторону принципа удовольствия
II
ОглавлениеУже давно было описано состояние, возникающее после сильных механических сотрясений, столкновений поездов и других несчастных случаев, связанных с угрозой для жизни, за которым закрепилось название «травматический невроз». Ужасная, совсем недавно окончившаяся война привела к появлению огромного множества таких заболеваний и, по крайней мере, положила конец искушению сводить их к органическому повреждению нервной системы под воздействием механической силы. Картина состояния при травматическом неврозе приближается к истерии по богатству сходных моторных симптомов, но, как правило, превосходит ее очень резко выраженными признаками субъективного страдания, примерно такими же, как при ипохондрии или меланхолии, и проявлениями всеобъемлющей общей слабости и расстройства психических функций. До сих пор не было достигнуто полного понимания ни военных неврозов, ни травматических неврозов мирного времени. В случае военных неврозов казалось, что вопрос, с одной стороны, проясняется, но вместе с тем и осложняется тем обстоятельством, что одна и та же картина болезни иногда возникала без содействия грубой механической силы; в обычном травматическом неврозе выделяются две особенности, на которых нам удалось построить свои рассуждения: во-первых, основное значение в этиологии, по-видимому, приходилось на момент неожиданности, испуга, и во-вторых, одновременно полученное повреждение или ранение чаще всего противодействовало возникновению невроза. Испуг, тревога, боязнь неверно употребляются как синонимы; их легко разграничить по их отношению к опасности. Тревога означает известное состояние ожидания опасности и приготовление к ней, даже если она неизвестна; боязнь предполагает определенный объект, которого боятся; испугом же, подчеркивая момент неожиданности, называют состояние, в котором человек оказывается при возникновении опасности, когда он к ней не подготовлен. Я не думаю, что тревога может вызвать травматический невроз; в тревоге есть нечто защищающее от испуга и, следовательно, от невроза, вызываемого испугом. К этому тезису мы вернемся позднее.
Изучение сновидения мы можем рассматривать как самый надежный путь к исследованию глубинных душевных процессов. Сновидения при травматическом неврозе обнаруживают такую особенность, что они снова и снова возвращают больного к ситуации произошедшего с ним несчастного случая, от чего он каждый раз просыпается в испуге. Большого удивления это не вызывает. Считается, что это как раз и есть доказательство силы впечатления, произведенного травматическим переживанием, что оно постоянно навязывается больному даже во сне. Больной, так сказать, психически фиксирован на этой травме. Такие фиксации на переживании, которое вызвало болезнь, давно известны при истерии. Брейер и Фрейд в 1893 году утверждали: истерические больные в большинстве своем страдают от реминисценций. Также и в случае военных неврозов исследователи, например Ференци и Зиммель, смогли объяснить некоторые моторные симптомы фиксацией на моменте травмы.
Однако мне не известно, чтобы люди, страдающие травматическим неврозом, в состоянии бодрствования много времени уделяли воспоминанию о несчастном случае. Скорее, они стараются о нем не думать. Если кто-то принимает как само собой разумеющееся, что сновидение ночью снова возвращает их в ситуацию, сделавшую их больными, то он не понимает сущности снов. Ей скорее соответствовал бы показ больному картин из того времени, когда он был здоров, или картин ожидаемого выздоровления. Чтобы сновидения травматических невротиков не ввели нас в заблуждение по поводу тенденции сна к исполнению желания, нам остается разве что заключить, что в этом состоянии функция сновидения, подобно многому другому, также оказалась подорванной и отклоненной от своих целей, или мы должны были бы вспомнить о загадочных мазохистских тенденциях Я.
Теперь предлагаю оставить темную и мрачную тему травматического невроза и обратиться к изучению принципа действия психического аппарата на примере одного из его самых ранних нормальных проявлений. Я имею в виду детскую игру.
Различные теории детской игры лишь недавно были сопоставлены и оценены с аналитических позиций З. Пфайфером в журнале Imago (V/4) [1919]; я могу здесь отослать читателя к этой работе. Авторы этих теорий пытаются разгадать мотивы игры детей, не выдвигая при этом на передний план экономическую точку зрения, получение удовольствия. Не намереваясь охватить все эти проявления в целом, я воспользовался представившейся мне возможностью разъяснить первую самостоятельно созданную игру одного мальчика в возрасте полутора лет. Это было больше чем мимолетное наблюдение, ибо на протяжении нескольких недель я жил под одной крышей с этим ребенком и его родителями, и прошло довольно много времени, прежде чем мне раскрылся смысл этого загадочного и постоянно повторявшегося действия.
Ребенок отнюдь не опережал других в своем интеллектуальном развитии; в полтора года он говорил лишь несколько понятных слов и, кроме того, произносил множество многозначительных звуков, которые были понятны окружающим. Однако он был в хорошем контакте с родителями и единственной служанкой, и его хвалили за «примерный» характер. Он не беспокоил родителей по ночам, добросовестно соблюдал запреты трогать некоторые вещи и заходить в определенные комнаты и, самое главное, никогда не плакал, когда мать покидала его на несколько часов, хотя и был нежно привязан к матери, которая не только сама кормила ребенка, но и ухаживала за ним и заботилась о нем безо всякой посторонней помощи. У этого милого ребенка была лишь одна несколько неприятная привычка, а именно: забрасывать все маленькие предметы, которые попадали ему в руки, далеко от себя в угол комнаты, под кровать и т. д., так что поиск и собирание его игрушек зачастую бывало нелегкой работой. При этом он с выражением интереса и удовлетворения издавал громкое протяжное «о-о-о-о», которое, по единодушному мнению матери и наблюдателя, было не просто междометием, а означало «прочь». В конце концов я заметил, что это – игра и что ребенок использовал все свои игрушки лишь для того, чтобы поиграть с ними в игру, которую можно было бы назвать «Уходи». Однажды я сделал наблюдение, которое подтвердило мои догадки. У ребенка была деревянная катушка с намотанной на нее бечевкой. Ему никогда не приходило в голову, например, таскать ее за собой по полу, то есть поиграть в тележку, но он с большой ловкостью, держа катушку за веревочку, бросал ее за край своей кроватки, в результате чего она там исчезала; при этом он произносил свое многозначительное «о-о-о-о», а затем снова вытаскивал катушку за бечевку из кровати, приветствуя на этот раз ее появление радостным «вот». В этом и заключалась вся игра – в исчезновении и возвращении, из которых обычно удавалось наблюдать только первое действие. Оно само по себе без устали повторялось в качестве игры, хотя большее удовольствие, несомненно, было связано со вторым актом[2].
Теперь толкование игры напрашивалось само собой. Она была связана с большим культурным достижением ребенка – с осуществленным им самим отказом от влечения (отказом от удовлетворения влечения), то есть с тем, что он не сопротивлялся уходу матери. Но он словно вознаграждал себя за это, самостоятельно разыгрывая с доступными ему предметами подобное исчезновение и возвращение. Для аффективной оценки этой игры, разумеется, безразлично, изобрел ли ребенок ее сам или усвоил ее по чьему-либо примеру. Наш интерес будет сосредоточен на другом моменте. Уход матери не мог быть для ребенка приятным или хотя бы безразличным. Как же согласуется с принципом удовольствия тот факт, что он повторяет эту мучительную для себя игру? На это могут ответить, что уход должен быть сыгран как предварительное условие для радостного возвращения, что в последнем, собственно, и состоял смысл игры. Но этому противоречило бы то наблюдение, что первое действие, уход, разыгрывалось само по себе, причем несравненно чаще, чем вся сцена, доведенная до приятного конца.
Анализ такого единичного случая не дает надежного решения; если посмотреть беспристрастно, складывается впечатление, что ребенок сделал это переживание предметом своей игры по совсем другим мотивам. Играя, сначала он был пассивен, событие задело его за живое, и теперь он берет на себя активную роль, повторяя это событие в виде игры, несмотря на то, что оно было неприятным. Это стремление можно было бы отнести к влечению к овладению, которое не зависит от того, было ли воспоминание само по себе приятным или нет. Но можно поискать и другое толкование. Выбрасывание предмета, в результате чего он исчезает, может быть удовлетворением подавленного в жизни импульса мести матери за то, что она ушла от ребенка, и тогда может иметь значение своенравия: «Да, иди прочь, ты мне не нужна, я сам тебя отсылаю». Этот же ребенок, которого я наблюдал в возрасте полутора лет во время его первой игры, годом позже имел обыкновение бросать на пол игрушку, на которую он сердился, и говорить при этом: «Иди на войну!» Ему тогда рассказывали, что его отсутствующий отец находится на войне, и он совсем не жалел об отсутствии отца, а демонстрировал самые явные признаки того, что он не хотел, чтобы кто-то помешал ему единолично обладать матерью[3]. Мы знаем и о других детях, что они могут выражать сходные враждебные побуждения, швыряя предметы вместо людей. Здесь возникает сомнение, может ли стремление психически переработать нечто производящее сильное впечатление, полностью им овладеть, проявиться первично и независимо от принципа удовольствия. Ведь в обсуждаемом здесь случае ребенок мог бы повторять в игре неприятное впечатление лишь потому, что с этим повторением связано получение другого, но непосредственного удовольствия.
Дальнейшее прослеживание детской игры также не устраняет этих наших колебаний в выборе между двумя объяснениями. Мы видим, что дети повторяют в игре все, что произвело на них большое впечатление в жизни, что при этом они могут отреагировать это сильное впечатление и, так сказать, стать хозяевами положения. Но с другой стороны, достаточно ясно, что вся их игра находится под влиянием желания, доминирующего в этом возрасте: быть большими и вести себя как взрослые. Можно также наблюдать, что неприятный характер переживания не всегда делает его непригодным для игры. Если доктор осматривал у ребенка горло или произвел небольшую операцию, то это пугающее переживание, несомненно, станет содержанием следующей игры, но при этом нельзя не заметить, что ребенок получает удовольствие из другого источника. Переходя от пассивности переживания к активности игры, он доставляет товарищу по игре ту неприятность, которая произошла с ним самим, и таким образом он мстит человеку, которого тот замещает.
Тем не менее из этих рассуждений следует, что предположение о наличии особого влечения к подражанию в качестве мотива игры – излишне. Кроме того, напомним, что игра артистов и подражание взрослых, которое, в отличие от поведения ребенка, рассчитано на зрителя, доставляет последнему, например, в трагедии, самые болезненные впечатления и все же может восприниматься им как высшее наслаждение. Таким образом, мы убеждаемся, что и при господстве принципа удовольствия существует достаточно средств и способов, чтобы сделать само по себе неприятное переживание предметом воспоминания и психической переработки. Пусть этими случаями и ситуациями, завершающимися в итоге получением удовольствия, занимается эстетика, руководствующаяся экономическим принципом; для наших целей они ничего не дают, ибо предполагают существование и господство принципа удовольствия и не свидетельствуют о действенности тенденций, находящихся по ту сторону принципа удовольствия, то есть тенденций, более ранних по происхождению и независимых от него.
2
Это толкование потом было полностью подтверждено дальнейшим наблюдением. Однажды, когда мать вернулась после нескольких часов отсутствия, мальчик приветствовал ее сообщением: «Беби о-о-о-о», которое вначале осталось непонятным. Однако вскоре выяснилось, что во время этого долгого одиночества ребенок нашел способ, как можно исчезнуть самому. Он обнаружил свое отражение в большом зеркале на подставке, достававшем почти до пола, а затем приседал на корточки, чтобы отражение уходило «прочь».
3
Когда ребенку было пять лет и девять месяцев, его мать умерла. Теперь, когда она действительно ушла «прочь» (о-о-о), мальчик не проявлял печали. Но за это время родился другой ребенок, пробудивший в нем сильнейшую ревность.