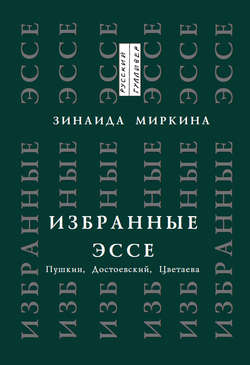Читать книгу Избранные эссе. Пушкин, Достоевский, Цветаева - Зинаида Миркина - Страница 5
Истина и ее двойники
Глава 3
Усилие, которым берется Царство
ОглавлениеДостоевский был тем Иовом, который докричался до Бога. И увидел. И онемел, потрясенный. Он почувствовал Нечто, за что можно отдать жизнь:
«Так ужасно ясно и такая радость… Если более пяти секунд, то душа не выдержит и исчезнет. В эти пять секунд я переживаю жизнь и за них отдал бы всю мою жизнь, потому что стоит»8.
Это сказал Кириллов, но мог бы сказать и сам Достоевский. Он сам пережил предсмертное созерцание освещенного солнцем шпиля и не устанет говорить о пронзенности Богом, точно этим горящим шпилем. Насквозь пронзен и жив, а не умер. Случилось событие огромной важности: при яркой вспышке внутреннего света он отчетливо увидел цель своего пути. Увидел сам путь, и вырвались из сердца слова «смешного человека»: «И пойду! И пойду!»9.
– Куда?
Да разве это объяснишь?
– Как?
Да разве это расскажешь?
Однако – идти и рассказывать, проповедовать Истину, которую он видел. Видел Истину… Так что же он, преобразился? Стал святым? Только ли свет исходит от него?
Нет.
В глубине его сердца как бы: проступил образ святого – князя Мышкина («Идиот»). От него он никогда не откажется. Это теперь центр его жизни, его глубинная святыня. Образ человека, в котором отпечатался Бог, в котором произошло преображение. Человека, в котором умерло «эго». Соблазны? Борьба с соблазнами? Князь не знает этого. И не потому, что у него детское сердце, еще не понимающее сладости запретного плода. Так думают о князе часто, но это неверно.
Князь – сердцевед, почти ясновидящий, князь видит и знает больше всех окружающих его грешных людей; и если безгрешен, то не по неведению, а потому, что грех над ним не властен, его не тянет к греху; красота Содома ни на мгновение не кажется ему красотой. Сердце его не раздвоено. Оно отдано божественной красоте. Любовь к этой божественной красоте, к Богу, которого увидел он внутренним зрением, выжгла грех. Он стал прозрачным чистым сосудом, наполненным светом. Он светится. Святой, светящийся… Его можно растерзать, но не соблазнить. Он навсегда оставит светящийся след.
А сам Достоевский?
Такого полного преображения в нем не произошло. Цельности нет. Одна часть души его у цели, в далекой глубине своей; другая – только начинает свой путь, спотыкается, падает, поминутно оглядывается. И все-таки: «И пойду! И пойду!». И идет. Внутренний человек зовет, внешний сопротивляется призыву духа. Идет великая борьба, может быть – до последнего вздоха жизни. Ясно только одно: она не может решиться в отрицательную сторону (в сторону внешнего человека).
Эти слова, сказанные Зосимой об Иване10, можно отнести и к автору «Карамазовых». Он любит князя Мышкина, любит святого, святость, как и Иван – своего младшего брата. От этой любви ему никуда не деться. Без нее он жить не может. И она и есть спасающая, охраняющая и направляющая сила его души. Это по ее велению он идет к своей цели, своим трудным, подчас страшным путем.
В глубине его души живет святой. Но жить на этой глубине – значит жить в постоянном созерцании. И даже тысячу раз пережитое созерцание еще не есть постоянное созерцание.
Постоянное созерцание, как и непрерывная молитва, – это уже некое новое качество сердца и ума – преображение.
Весь Достоевский – это порыв к преображению. И созерцание возможности преображения. Но самого преображения – полного перерождения человека, перерождения его строя чувств, его желаний, – еще не наступило.
В романе «Идиот» описано первое религиозное созерцание Достоевского: созерцание луча света на шпиле в ожидании казни. С тех пор это, может быть, не раз повторялось, – созерцание Вечности, созерцание смысла жизни. Те самые минуты, «в которые эпилептик Магомет обозревал все царства Аллаха».
Действительно, эти минуты граничат с откровениями родоначальников великих религий. Личные свидетельства о Боге. Открывание третьего глаза или шестого чувства, видящего, ощущающего непреходящее, остановку времени, абсолютную полноту жизни. Но вслед за этими вознесениями земная физическая природа брала верх и наступала тяжелая тьма, отупение, почти что муки ада. Князь Мышкин говорил, что светлые минуты стоили всего. Впрочем, тут же прибавлял, что во время мучений он, может быть, и не считает, что минуты просветления искупают их, и все-таки вне всяких соразмерностей и логики знает сердце, что в минуты эти оно видело Истину. (Не куцую правду факта, предстающую глазам, а бесконечную Истину-смысл, предстающую сердцу.)
Одновременно или сразу вслед за созерцанием Высшего Света приходит к Достоевскому и созерцание греха. Вернее, в этом новом свете становится видна истинная природа человека – и Высший Образ, по которому он создан, и бесконечность отдаления его от этого Образа – глубина падения. Вместо туманной мечтательности приходит видение действительности со всей ее красотой и ужасом. Со светом, вонзающимся во мрак, и мраком, грозящим затмить свет. В этой борьбе света и мрака – весь Достоевский. Придет он или не придет к постоянному свету, победит или не победит, – но огромная воля к свету есть, и она струится со страниц его романов. Все они, начиная с «Преступления и наказания», – это великая, может быть, неслыханная в мировой литературе по силе искренности и глубине исповедь. Это обнародование своих бесконечных сомнений, бесконечных грехов своего ума и сердца. (Да, и ума, и сердца. В одних романах внимание больше сосредоточено на грехах ума, в других – на грехах сердца.)
И вот в мир, на обозрение всем хлынул такой поток откровенности, которого человечество еще не знало. Никто никогда в мировой литературе еще не заглядывал в такие глубины подсознания, в такие темные уголки души и вместе с тем никто и никогда не подступал так близко к самому Источнику света.
Немудрено, что читатели были ошеломлены. Герои Достоевского были списаны как будто вовсе и не с них, и не с их соседей. На самом деле люди просто не умели видеть ни себя, ни своих соседей. У них было другое зрение. И вот поступки героев, в которых созерцаются и воплощаются невидимые, не выявленные движения души, воспринимались как поступки самого автора. Дошло до того, что Достоевского обвинили в грехе, который он считал самым страшным на свете. Ставрогин («Бесы») и его творец сливались в сознании читателей в одно лицо.
При этом забывалось одно неимоверно важное обстоятельство: самый страшный герой Достоевского (ибо страшнее Ставрогина нет) не отважился на покаяние. Его проект покаяния был игрой с самим собой. Он смог все, на что его подбивал дьявол, а послушаться Божьего голоса не смог. Здесь он оказался немощен. Не хватило того самого усилия, которым берется Царствие Небесное. Усилия покаяния – усилия отталкивания от нашей грешной природы.
Достоевский вовсе не делит мир на всегда плохих и всегда хороших, на ангелов и демонов. Все динамично. Праведник – не тот, кого Бог таким сделал, а тот, кто сам себя поднял из грязи. Он мог быть самым закоренелым грешником. Чудо в том, что и для такого грешника возможно полное преображение, если он по-настоящему от всей души покается.
Такое покаяние и есть чудо. На него нужна великая душевная сила и великая воля к свету. На это не был способен Ставрогин. На это был способен Достоевский. И поэтому расстояние между ними большее, чем от неба до преисподней.
Когда Тихон Задонский, этот истинный святой, говорит Ставрогину: «Я, может быть, грешник больший, чем вы», – это не только заученная формула христианского смирения. Это еще утверждение единой природы всех людей, одного теста, из которого делаются и святые и грешники.
Одного теста? Да разве все на самом деле сделаны из одного теста? Разве не с разными дарами, не с разными возможностями люди родятся на свет? Одного к греху тянет, и преодолеть это тяготение ему трудно, а другому нет ничего труднее, чем согрешить. По крайней мере – так согрешить.
И все же первоначальная природа у всех едина. Какая таинственная работа совершалась в предсуществованиях наших, когда душа удалялась от своей истинной природы, мы не знаем. И однако, вот главное, что мы знаем, что должны знать: наша истинная природа, Образ, по которому мы все созданы, – священный Божий образ. И двигаясь к очищению, к святости, мы движемся внутрь, по направлению к нашей собственной сути. Чем дальше человек ушел от своей природы, тем труднее ему вернуться. Но возможность вернуться внутрь есть всегда и у всякого. Грешнику совершить такой поворот труднее, чем праведнику. И именно потому усилие его ценится невероятно высоко. И радость об одном раскаявшемся грешнике более, чем о десяти праведниках.
Природа у святого, и у грешника – одна. Отличие святого не в иноприродности, а в том самом усилии, которое могут сделать все. Дерзай! Ставрогин на мерзость дерзнул, а на святость – нет.
8
Достоевский Ф.М. Бесы. Полн. собр. соч. Т. 10. М., 1974. – Далее цитаты приводятся по этому изданию.
9
Достоевский Ф.М. Сон смешного человека. Полн. собр. соч. Т. 25. М.,
10
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Полн. собр. соч. Т. 14. М., 1976. – Далее цитаты приводятся по этому изданию.