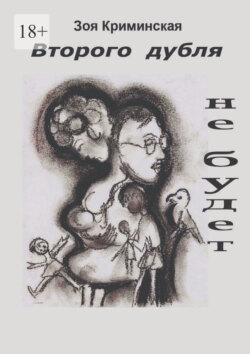Читать книгу Второго дубля не будет. Всё ещё молодость - Зоя Криминская - Страница 5
Книга третья
Всё ещё молодость
Часть первая 1969—1976 годы
1971 год, окончание института, Камчатка
ОглавлениеПеред Новым годом мы с Алешкой поленились стоять в очередях за продуктами и с утра первого числа, когда вся страна, утомленная праздничной бессонной ночью, спит, поехали в центр за какой-нибудь едой. В магазинах было тихо, чисто, пусто, и полно продуктов. Мы отоварились на неделю и довольные вернулись домой, тогда у нас получилось, а как-то спустя года три мы решили повторить удачную вылазку, пришли первого января в магазин, и было всё похоже: тихо, чисто и пусто, пусто не только из-за отсутствия толчеи, но и из-за полного отсутствия продуктов, всё продано, и теперь жди завоза.
Дорогая хорошая рыба перевелась в свободной продаже, икра тоже, и Инга Прошунина рассказывала по этому поводу анекдот:
«Приходит старичок в магазин:
– Осетринка есть?
– Нету, не завезли.
– А лосось есть?
– Нет, не завезли.
– А севрюга есть?
– Ну, говорят Вам, нет, не было завоза.
Старичок надевает очки, смотрит на витрину и видит там одинокую ржавую селедку.
– А эта старая б… сама сюда приползла?»
Так что осетрины мы не купили, но мясо с большим количеством костей купили.
Мясо в магазинах рубили так, что кость, например, была толщиной сантиметров двадцать, а кусок мякоти к ней срезался клином, купишь кг мяса, а там костей на 700 г, а мякоти на 300.
На слабые протесты покупателей мясники строго роняли: – Мясо без костей не бывает. – И смотрели свысока с превосходством сытого, умеющего жить человека.
Любочка Пулатова, отпустила меня на полгода, до января. Полгода истекли, и надо было делать диплом. Алешка взял отпуск, договорившись, что иногда он будет выходить на работу, а потом отгуливать эти дни, так как мне не было необходимости каждый день ездить в институт.
Институт «Химфизики» находится на Ленинском проспекте, далеко от Сокольников. Я утром варила манную кашу, на обед овощи Кате, которые Алешке приходилось протирать, а ему суп и иногда второе, но это с вечера, и уезжала, стараясь приехать к трем часам, чтобы отдохнуть и приготовить ужин.
Любочка тогда часто болела, сердце прихватывало, и я редко ее видела, но было ясно, что делать, как и говорила мне в свое время Люда Фиалковская:
– У Пулатовой все аспиранты хороши, знают, куда идти, потому что она сама умница.
Алешке трудно давался уход за шестимесячным младенцем, хотя дочка у нас была жизнерадостным ребенком и редко плакала, хорошо ела и не простывала. Можно было дать ей газету, и она ее рвала часами, только надо было следить, чтобы не слопала, один раз не уследили, и ребенок какал газетой.
Но непривычный Алексей сильно с ней уставал, и я приходила домой и заставала такую картину – в углу кроватки сидит дочка с надутым недовольным лицом, а на диване, подальше от нее сидит Алешка с таким же точно лицом и говорит мне: – Она мне опротивела.
– Да ты ей не меньше, – обиделась я за дочь.
Мы сажали Катю за детский складной столик-стульчик, кто-то нам его подарил, может даже Ольшанецкие; вспоминается, что кто-то отдает, у кого ребенок маленький, и я спрашиваю, почему отдают, а сами не пользуются.
– А он вылезает, не сидит, и приходится кормить на руках, – отвечает мне Надя, жена Миши, симпатичная говорушка, несколько раз приходившая к нам вместе с мужем за деньгами. У них мальчик на полгода старше Кати, и они живут у тещи, так как Надя не может справиться с дитем.
Миша тыкает ее носом, что вот я справляюсь же.
– Всё от ребенка зависит, если спокойный, так чего и не справиться, – равнодушно парирует Надя Мишу, не обижаясь.
В общем, у нас есть приблудный стульчик-столик, мы используем его как столик и кормим Катю в комнате, она уже сидит. Катя маленькая, через верх стола-стула вылезти не может и выбирается на волю, проскальзывая со стульчика вниз, под столик, и уже оттуда на простор комнаты.
Алешка посадил Катю в стульчик, а сам стоит в коридоре, провожает меня, оставив дочь наедине с манной кашей.
Вдруг из комнаты раздается веселый поросячий визг, а затем в проеме двери показывается ползущий ребенок, вся рожица и слюнявчик в манной каше. Дочка быстренько доползает до ног отца и застывает там, с любопытством задрав голову на меня и заняв позиции между Алешкиных тапочек, за одно слюнявчик вытерла о брюки папочки. Алешка наклоняется, чтобы подхватить ее, но где там, Катя быстро, быстро, как зверек, уползает, скользя коленками по размазанной по полу манной каше и оглашая воздух радостными воплями, и Лешка бегом за ней в комнату, чтобы поймать и умыть, а я ухожу, – пусть сами разбираются.
Иринка забежала проведать нас. Я на кухне химичу, а Ирина в комнате с Катенькой беседует. Катя лежит на софе, что-то рассказывает Ирке, издает разнообразные, непонятные, но веселые звуки и дрыгает ножками, что означает у нее веселое расположение духа; я вхожу в комнату из кухни и слышу Ирину, которая говорит Катюшке.
– Хорошие у тебя Катька глазки, большие, красивые, и счастливая ты, у тебя есть и папа и мама.
Я тихонько сглатываю подступивший к горлу комок и неслышно ухожу обратно, не буду мешать, пусть себе говорят. На кухне я сажусь на табуретку, поджимаю коленки под подбородок и задумываюсь, вспоминая.
Вид из окна
Вот мы идем с Иринкой по Москве, она знает, где мы находимся, ну а я рядом с ней. Вдруг Ирина резко сворачивает и говорит:
– Обойдем, я не хожу по этой улице, здесь живет мой отец.
Я молчу, в моем молчании сочувствие. Ирина не продолжает, просто подкидывает на своей руке мою ладонь, есть у нее такая привычка, и мы уходим.
И еще, как-то рассказывая о матери и бабке:
– Они не дружны, плохие у них отношения. Бабка не прописала отца, когда мать была беременна мною, не дала согласие.
Я и тогда ничего не сказала, в уме проворачивая всякие варианты: пришел бы жить зять, может, пьющий, стал бы хулиганить, гнать из комнаты, а комната всего 9 метров, как там жить вчетвером? А с другой стороны, близкий человек для дочери, которая беременна, может, и по-другому сложилась бы жизнь Иркиной мамы, если бы тогда бабушка не помешала, и не пришлось бы Ирине обходить улицу, где живет ее отец?
Безысходность нашей жизни и нашего быта еще и еще раз настигает и ранит меня.
На наш день рождения Алешка предварительно напился в кругу коллег на работе (после Нового года его еженедельные загулы почти прекратились, и мы стали жить значительно дружнее). Тогда население, как правило, с кем вместе работало, с теми и пьянствовало, отмечали все праздники и дни рождения. В результате я много лет подряд имела на день рождения подарок в виде мужа под хорошей мухой, вот к чему привело, в конце концов, это мартовское совпадение, которое казалось когда-то в полете чувств перстом судьбы указующим, а обернулось дополнительными обидами.
Естественно, вечером была привычная буря с моими воплями. Алешка, наутро, с похмелья, обиженный валялся на диване труп трупом. Я бросила ему дочку, пусть хоть ребенком займется, раз больше ни на что полезное он не способен. Алексей играл с дитенком, который, получив такую большую живую игрушку, радостно ползал по папочке, пускал на него слюнки и теребил за волосы. Кукле Таньке к тому времени Катя уже отодрала ее парик, а Криминский при уборке выбросил. Взял с полу осторожно двумя пальцами, с брезгливым отвращением, и выбросил, а теперь вот подставлял свой собственный скальп, а я на кухне готовила сациви, праздновать собирались в два этапа: в субботу родня, в воскресение друзья.
Дядя Резо пришел с родственницей из Грузии, Нателой. Натела была маленькая, худенькая, шустрая, с необыкновенным натиском и быстротой в домашних делах.
– Я очень любила детей, – сказала она мне, удивив своей открытостью, – но никак не могла выйти замуж, вышла только в тридцать лет, но успела, с тридцати до сорока троих родила.
Неожиданно попав на день рождения, она сбегала в ближайший магазин, купила подарки, потом кинулась готовить сациви, почти полностью отстранив меня от дел. Сели за стол поздно, часа в четыре, уже голодные. С приходом гостей Криминский с большим трудом принял вертикальное положение, но с дивана не встал, только сел и дочку переложил на колени.
– Очень большая редкость, чтобы мужчина так с маленькими детьми возился, цени это, – сказала мне Натела.
На другой день пришли мои друзья и доедали, что осталось. Выпивки было много, а закуски едва-едва, зато Наталья Анохина принесла соленых чернушек, засола ее мамы, я уже не кормила, и попробовала, и очень мне они понравились, сколько я потом солила их, но так не получалось.
Сейчас, вспоминая, как мы жили, имея три рубля на день, из которых я выдавала Алешке на обед каждый день по рублю, я удивляюсь обилию гостей и застолий. Приходили друзья, приносили с собой бутылку, я чего-то находила в морозилке, жарила, пекла, и вот, пожалуйста, сидим, едим, пьем.
С продуктами было туговато, но мясо еще было, треска тоже, я каждую неделю делала два рыбных дня, потому что рыба была дешевле, кг трески стоил 56 копеек, готовила супы, из супового набора за 90 копеек ухитрялась сделать и первое, и второе, т.е. сварить суп, заправить его, косточки обжарить, и к ним сделать картофельное пюре. Мясо я жарила редко. В основном делала гуляш или бефстроганов, при одном и том же количестве мяса это было сытнее, в общем, крутилась, как могла. Можно было в случае отсутствия продуктов и неожиданного прихода гостей сбегать в магазин и купить колбасы и сыра, нажарить картошки. Вот тебе и закуска, а выпивку приносили с собой.
Еще я покупала говяжью печенку по 1 рубль 40 за кг, это тоже было дешево, покупала и почки, готовила из них и первое – рассольник, и второе – почки жареные. Долго, дня два я их вымачивала, и потом ели. Было вкусно, и тоже дешево. Мозги же не пошли, пришлось выбросить, вымя тоже есть не стали. Еще были консервы рыбные дешевы, но я была то беременная, то кормящая, и старалась консервы не есть.
Мы решили приучать Катеньку пи́сать на горшок. В книжках было написано, что это нужно делать с шести месяцев, и вот мы с шести Катиных месяцев и начали, и мучились полтора года. В 6 месяцев Катя еще не сидела, и мы просто пи́скали ее на пол. Постелим половую тряпку и пискаем. Обычно перед сном это делал Алешка. Сядет на край дивана, посадит ребятенка на коленки, держит ее за ножки и сонно так, закрыв глаза:
– Пис. Пис, пис.
Катька хихикает. Дрыгает ножками, не хочет ни спать, ни писать.
Папочка наклонит голову, посмотрит на пол, нет ли там лужи, потом заглянет между ножек ребенка, сядет и вздыхает про себя:
– Девочка. Странно. Я ведь знаю, что это от меня, но как от меня может быть девочка? Почему так может быть?
Видно ребенка, как продолжение, муж воспринимал только того же пола, которому принадлежал сам. А иначе никак.
И снова монотонно, полузакрыв глаза:
– Пис. Пис.
– Ладно, Алешка, брось зря мучиться, ложись, – говорю я мужу. – Я уже постель постелила.
И мы ложимся спать.
Меня мучит кошмар. Я учусь, и мне надо сдавать Гос по физике, а у меня не сделана лабораторная про катушку и сердечник. Отчаяние наполняет меня. Лабораторные комнаты уже опечатаны, мне не сделать работу, и я завалю Гос. Панический ужас, который охватывает меня, сродни пещерному страху перед опасностью, таящейся в темных углах. Сердце мое замирает, потом падает куда-то вниз, и я просыпаюсь в холодном поту и несколько секунд таращусь в потолок, пытаясь осознать, где я и что со мной. Переворачиваюсь на бок и вижу в бледно голубом свете уличного фонаря, скупо освещающего середину нашей комнаты, детскую кроватку. Ребенка в ней не видно из-за раскиданных одеял, но я уже знаю, уже проснулась – это моя дочка Катенька. Вспомнила про дочь, и мысль моя бежит дальше, отделяя сон от яви – это дочка. Вон спит муж. Я замужем и уже родила. А замуж вышла и родила я после сдачи Гос экзамена.
Я встаю босыми ногами на холодный пол, вытряхивая из сознания мутные обрывки кошмара, подхожу к кроватке. Дочка напрудила, вылезла из мокрой пеленки и спит, задрав к потолку голую холодную попку. Я привычно выдергиваю мокрую пеленку из-под ее носа, стелю на клеенку новую сухую, переворачиваю малышку и запеленываю.
Сейчас ночью, после волнений тяжелого и глупого сна, я с новым, особенным удивлением рассматриваю ребенка, это маленькое, но замечательное, совершенное существо, к возникновению которого я имею столь прямое отношение, такие миниатюрные ручки с пальчиками, крохотными пальчиками на руках и на ногах, ушки, волосики, всё так неповторимо прекрасно сделано природой, и странно себе представить, из чего это образовалось, из этой мутноватой скользкой жидкости со странным запахом, которую я вовремя не вымыла из себя. И вот из этого может получаться такое? Старания мужа, мои чувства, всё это в счет не идет, от эмоций ничего не создается, всё материально, всё из-за этой жидкости, это ее наличие приводит к такому совершенству, и понять это можно только умом, а душа удивляется безмерно.
Ноги замерзли у меня от холодного пола, и я забираюсь в теплую постель, укрываюсь с головой одеялом, как я всегда любила с детства, и проваливаюсь в глубокий сон, который может позволить себе мать лишь тогда, когда ее дитя спит спокойно.
Я вставала к Кате каждую ночь, а иногда и по два раза, и мне всё время хотелось спать, и я просила мужа:
– Леня, я хочу поспать одну ночку, ну только одну единственную ночку. Я тебя очень прошу, встань ты хоть раз к дочке.
Катя
Леша обещал, но впустую. Начиная с месяца, Катя не плакала по ночам, а только кряхтела, вылезая ночью из мокрой пеленки. Это кряхтение я слышала и поднималась к ребенку, а Алешка не просыпался. Он спал крепким здоровым сном молодого уставшего мужчины, как будто весь день махал топором, а не держал в руках ручку или карандаш. Однажды он мне твердо пообещал встать. Ночью слышу, Катенька ворочается, а он себе дрыхнет, сопит в обе дырки, и ноль внимания на ее копошение. Я позвала тихо:
– Леня.
В ответ только ритмичное посапывание:
– Я позвала еще:
– Леня, встань, пожалуйста, ты же обещал.
Муж вздохнул. Перевернулся во сне на другой бок и дальше себе спит сном младенца.
Это было в пятницу вечером, ему на другой день не на работу, он клялся, говорил: «Зоинька, поднимусь, поменяю, честное слово, дам тебе поспать» – и теперь так надо мной издевался.
Черная зависть к безмятежному сну мужу охватила меня, я уперлась спиной в стенку и ногами подло столкнула бесчувственное тело на пол. Софа была низкой, увечья не предвиделось.
На полу он проснулся и очень удивился: – Я упал?
Не ответив, я со слезами перешагнула через него и направилась к кроватке. Больше я не пыталась его разбудить, себе дороже.
Кроме кошмаров об учебе, меня мучили другие страхи, во сне мне иногда мерещилось, что кто-то страшный стоит над Катиной кроваткой, нависает темной глыбой, уже протянул волосатые руки и оскалил клыки. Видение не отчетливо, но ужасно, и я в испуге открываю скорей глаза, чтобы в свете уличного фонаря оглядеть комнату – всё спокойно, вон стоит кроватка, и никого нет, ничто и никто не угрожает моей крошке. Это повторялось вплоть до лета, а потом незаметно спало напряжение жизни, и страхи прошли.
Я всё еще хожу в своей сильно надоевшей мне шубке из серого искусственного каракуля, стесняюсь, но хожу, больше не в чем.
– Мечтаю купить себе пальто, – говорю я Ирке, одеваясь, чтобы прогуляться с ней и Катей.
Шубу подает мне Алешка и в ответ на мои слова бросает Ирине:
– Одно меня утешает, что у нее денег нет, и купить пальто она не сможет.
– Ну, – засмеялась Ирина. – Денег у нее нет, но пальто она себе купит, одно другому не мешает.
Проза семейной жизни
Это, конечно, шутка, – мешает и еще как. Папа четыре месяца не присылал мне обещанной еще на свадьбе материальной помощи, а потом прислал в январе сразу 120 рублей, и я решила на них купить себе пальто.
Тогда в моду, вернее уже года три как повально носили пальто с воротниками из натуральных мехов – из чернобурки, норки, песца, на худой конец, из каракуля. Желательно еще шапочку из такого же меха к воротнику, но и из мохера тоже недурно. В магазинах набежать на такое пальто было трудно, хотя стоило оно дорого, но женщины мечтали быть нарядными и покупали, экономя на питании и выкручиваясь. Каждая мечтала иметь такое пальто и вышагивать по улице, уткнув нос в пушистый мех. А если пальто не было, то женщина страдала, а если кто и не страдал, тому всё равно не верили, что не страдает.
На последнем профсоюзном собрании (напоминанию, в нашей группе это просто вечеринка, вернее хорошая пьянка по поводу или без повода) Лебедев подшучивал над женой, которая стояла рядом в пальто из норки.
– Не могла жить без нее, просыпалась по ночам и кричала: «Норка, норка».
Я знала, что 120 рублей мало на пальто, надо бы еще рублей 40, но всё же мы зашли в магазин недалеко от нас, посмотреть, что и почем.
Расслаблено шла я мимо рядов унылых драповых пальто с цигейковыми и кроличьими воротниками, и вдруг на вешалке среди моего размера увидела одно-единственное синее пальто с чернобурым воротником за 140 рублей, в общем, задаром.
– Вот пальто, как я хочу, – сказала я, и Алешка посоветовал мне примерить.
Я надела с тайной надеждой, что оно мне не подойдет, синий цвет не мой. Но, оказалось, как на меня сшитое, и к лицу, чернобурка была серебристая и освежала.
Я молодая мама
Какой-то азиат, который довольно бесцельно маячил между пустующих по случаю позднего часа рядов, сразу перестал маячить и подошел поближе к нам, приглядываясь. Явно ему понравилось это пальто на мне. Я была в отчаянии. Лучше бы я не мерила его, ведь денег у нас не хватало, не хватало всего 20 рублей, и взять-то неоткуда, во всяком случае, сейчас.
Я подошла к продавщице, сняв пальто и перекинув его на руку.
– Вы не можете отложить до утра?
– Нет, только до закрытия магазина, а перед закрытием, если кто купит, то всё, это очень ходкий товар, и откладывать мы не можем.
– Ничего, – сказал Алешка, – может, оно повисит до завтра.
– Повисит, как же.
Я снова встретилась с отбегающим взглядом типа среднеазиатского обличия, вон он ждет, чтобы тут же его схватить. Я повесила пальто и стала перебирать другие, делая вид, что не очень-то удовлетворена, тем, первым. Но азиат был хитер и не попался на удочку. Он взял и купил пальто, и довольный, со свертком в руке, пошел из магазина. Вышли и мы, и я заплакала слезами досады и разочарования.
– Он не догадался бы купить это пальто, он просто искал, чего ни попадя. Он увидел его на мне, и только потому оно ему понравилось, и купил своей какой-то, а там у них, оно и не нужно вовсе. Только для форсу, назло мне, – плакала я.
Алешка тоже огорчился. Он был существом равнодушным к деньгам и к тому, что они дают. Лишенный воображения, готовый всегда довольствоваться малым, он не представлял себе той свободы, какую дает наличие денег. Но вот такое, конкретное унижение нехватки небольшой суммы, он чувствовал и сопереживал. Ему хотелось, чтобы жена была в красивом пальто, не потому, что это хоть как-то было нужно ему, а потому, что это так нужно было мне.
Деньги я спрятала, не потратила, стиснув зубы, а потом, совершенно не помню как купила себе пальто с бежевой норкой из коричневато-сиреневого драпа, цвета, который я называла сливовым и который таковым не являлся, купила значительно дороже, за 186 рублей, но тут и папа прислал еще, и мама подбросила.
Когда пальто висело на гвозде на плечиках у мамы на Москворецкой, вошла соседка, старая цыганка, посмотрела на пальто и одобрила:
– Молодец, – сказала она, – красивое пальто, богатое.
Оно действительно было красивое дамское пальто, а то, что я пропустила, – девчоночье, молодежное.
Тогда, весной 71 года, устав от нехватки денег, Алешка устроился приработать на почте, разносил по утрам письма. Проработал он полтора месяца, заработал рублей 25 и бросил, износ обуви не окупал заработка, только уставал, и больше ничего.
В один из выходных, по весне, мы с Алешкой ушли в магазин за станцией Москва-3, оставив дочку с мамой. Потопали мы не напрямик, как бегал Алешка через заборы мимо собак, а в обход, по парку. По парку гуляли лоси, и они не так сильно интересовались проходящими людьми, как сторожевые собаки, так что я предпочла лосей.
В том месте, где мы собрались переходить пути, было сразу два крутых поворота. Между поворотами видимость была метров на 200, не больше, а путей было три, так что не поймешь сразу, по которому идет электричка. Идущая где-то за поворотом электричка свистнула, я услышала свисток и остановилась, решив переждать, пусть себе пройдет, – оно спокойнее.
Алексей шел впереди меня метра на два и продолжал идти, и я не стала его окликать, решив, что он успеет перейти, но тут он заметил, что меня нет за ним, остановился прямо между рельсов, повернулся ко мне и стал недовольно ждать, чтобы и я подошла, вдвоем веселее под колесами. Электричка уже выскочила из-за угла, стремительно приближалась и гудела, гудела Алексею. Но он смотрел назад, на меня, а я кричала, нет, визжала от страха. Лениво так Криминский повернул голову, посмотрел, убедился, что занял тот путь, который надо уступить, и в последний момент отошел.
Прогрохотал последний вагон, я подошла к мужу, прошла мимо, перешла пути, он что-то говорил, а я, развернувшись, с силой стала бить его круглой пластмассовой сумкой, которую несла в руке. Меня трясло, говорить я не могла.
Переходивший путь метрах в десяти от нас незнакомый мужик, наблюдал за моими действиями и подбадривал одобрительными криками, как болельщик футболиста на поле:
– Мало, слабо бьешь, такому дураку посильней надо, может, подольше поживет.
Дома я напилась валерьянки и целый день молчала, не столько злилась, сколько в себя приходила от стресса.
В конце мая, на воскресение, мы с Алешкой ходили в поход на байдарках вместе с Мельбардами. Наташка в то время помирилась с Володькой, он на некоторое время завязал с пьянством, Алексей перестал приходить домой полпервого ночи, в общем, казалось, что жизнь наладилась, и водка не победила.
Хотя я вспоминаю, что раз мы зашли к Мельбарду, когда он был совершенно пьяный, и две немолодые женщины, как потом оказалось, его мать и тетка, уговаривали его взяться за ум и не губить себя, и подумать о детях. У Мельбарда было две дочери, одна маленькая от Наташки, и другая от первой жены, уже подросшая, 8 или 9 лет.
Когда мы вошли, обе женщины стояли в пальто в коридоре. Володька грубо бросил одной из них:
– Сволочь ты, уходи.
Женщина заплакала и повернула к нам похожее на Володькино, только в обрамлении седых волос лицо:
– Вот, скажите ему, разве можно обзывать мать сволочью.
– Он не на Вас, а вообще на жизнь, Вы не поняли, – нашлась я, стараясь затушить пожар скандала и отвечая сочувствием на обиду, заставившую эту женщину обратиться к нам, совсем незнакомым, но как ей казалось, более близким ее сыну, чем она сама, обруганная.
Вторая женщина, ее сестра, быстро обняла ее за плечи и тихонько, медленно подталкивая к двери, вывела, махнув нам рукой, заходите мол.
Мы вошли и закрыли двери, а Мельбард с пьяным упорством повторил.
– Сволочь она.
– Зачем ты так? – устало спросила я, садясь на диван, я тогда была уже с большим животом, это было где-то в мае 70-го года.
– Она отца предала, отреклась от него.
Тут Алексей перевел течение разговора в более безопасное русло, на служебные дела, ради которых мы и появились здесь так некстати, а когда мы вышли, Алексей рассказал мне подробнее обстоятельства жизни Мельбарда. Володя был сын репрессированного в 37 году, а когда отца взяли, мать вызвали в НКВД, и она подписала бумагу, где отрекалась от мужа.
Сейчас, после публикаций большого количества материала о тех временах, мы знаем, что жене врага народа грозило тоже быть сосланной в лагерь, причем опасность была реальна и велика, и естественно было стремиться любой ценой избежать такой участи для себя и детского дома для ребенка, ведь мужу ничем помочь было нельзя, но тогда, в 70-е годы, такой поступок всё еще расценивался, как предательство. Мать не только отреклась от отца, но, не будучи уверенной, что это ее спасет, отправила быстренько сына в Нальчик к тетке, своей сестре, подальше от Московской неразберихи. В Нальчике Мельбард и провел большую часть своего детства, а теперь вот не мог простить ее трусости, а сам не был в ее шкуре, не испытал страх тех времен, страх живого легко уязвимого человека перед беспощадной государственной машиной.
Папу тоже в свое время вызывали в НКВД и требовали отречься от отца, моего деда Арама, и, по его словам, он послал их куда подальше, но папа был отчаянный Тбилисский парень, а женщина с ребенком на руках?
Совсем недавно муж неожиданно запел на кухне песню тех времен:
«Черный ворон, Черный ворон, Черный ворон,
Переехал мою маленькую жизнь».
Лучше не скажешь.
Этими событиями далеких довоенных лет и объяснялась та сцена, которую мы, так не ко времени заявившись, застали.
А теперь мы собрались на байдарках пройтись, где-то Алексей достал байдарку, мы поехали на Москву близ Звенигорода и ночевали в палатке вчетвером, а третья пара приехала утром с первой электричкой.
Ночевка была ужасной. Было три спальных мешка, два тонких и один теплый, двойной самодельный мешок, куда и положили нас с Наташкой, чтобы мы не простыли ночью. Но ночь выдавалась теплая, и как всегда под Москвой в это время года, если тепло, то комаров просто тьма тьмущая. Мужики выпили слегка и дружно храпели лежа с нами рядом в двухместной палатке, вернее храпел один Володька, а Алешка просто крепко спал, а мы с Натальей вдвоем в одном мешке никак не могли уснуть, и неудобно, и, главное, комары кусались по черному, пищали противно, и не было никакой возможности от них избавиться. Наталья вскоре ушла и сидела у костра, а я хоть и не спала, но заставила себя лежать, иначе я бы не вынесла предстоящего дня, ведь надо было грести в довольно быстром темпе, а я после бессонной ночи бываю как сомнамбула, и не выгребу.
Утром, с первой электричкой приехала еще одна пара, они вчетвером уже не раз проводили время отдыха на воде.
Нас, новичков, посадили вместе в одну байдарку, что было ошибкой, я имела очень малый опыт гребли, немного каталась в спортлагере, а Криминский сел в байдарку первый раз в жизни. Хотели нас рассадить, но когда дошло до дела, оказалось, что никто из женщин не хочет плыть с неопытным Алешкой, оставалась одна я, верная жена, и пришлось нам сесть вдвоем, и мы всё время отставали, старались грести, спешили очень, но только брызгались без толку и цапались, ударяясь веслами. Некогда глянуть на живописные берега, мимо которых проплывали, в общем, это мое первое и последнее путешествие по воде мне совершенно не понравилось, после бессонной ночи свистопляска наперегонки, с небольшим перерывом на обед, который мы не готовили, так как приплыли уже к готовой пище, плохо проваренной на костре, которую я не решилась употребить с моим желудком, в общем, усталая, голодная, изъеденная комарами, я клевала носом в электричке, а дома не могла уснуть до четырех часов ночи, переутомилась и перегрелась на солнце, плохо мне было, трясло всю, а на другой день вечером, Алексей, вернувшись с работы, сказал, что, по словам Мельбарда, Наташке тоже было плохо, не спавши ночь, весь день грести в темпе оказалось трудным и для нее. Больше я на байдарках не ходила.
В мае приехала свекровь, перед этим уезжавшая навсегда после скандала с бабушкой, кажется, была проездом недельки на две. Ездила в гости к племянникам то ли на Аральское море, то ли в Днепропетровск, то ли к подруге в Ейск, она почти каждое лето куда-то ездила отдыхать.
Пока гостила свекровь, неожиданно приехал и папа, как всегда, без всякого предупреждения, появился на пороге проездом из Камышина в Тбилиси и Ереван. Нашел здесь, в Москве, двоюродного племянника и потащил нас к этому племяннику в гости куда-то далеко, на проспект Вернадского в их уютную однокомнатную квартирку. Смуглый армянский племянник был женат на голубоглазой русской женщине, Наталье, продавщице из «Детского мира».
По случаю нашего прихода она приготовила салат из крабов («на скорую руку», как извинялась хозяйка), горячее второе, фрукты. Папа, надо сказать, недавно откопал адрес этого самого племянника, и виделись они первый раз в жизни, знал его племянник только понаслышке, как легендарную личность – дядю Гугуша.
Если сопоставить рассказы и отзывы родственников отца о папе и высказывания моей матери, то никто никогда не догадался бы, что речь идет об одном и том же человеке. У мамы папа резкий, невыдержанный человек, не очень высокого интеллекта, с хулиганскими замашками и казарменным юмором, – Карлос, одним словом, а у родственников это веселый разудалый человек, дядя Гугуш, рассказы которого, полные юмора, можно слушать с утра до вечера. Для встречи любимого, но никогда невиданного дядюшки были выставлены бутылка коньяка, бутылка сухого вина, а папа принес с собой, несмотря на мои попытки помешать этому, еще коньяк и бутылку водки, и четыре бутылки пива.
Сели мы за стол вчетвером, и давайте посчитаем, на трех мужчин и двух фактически непьющих женщин, (мы не одолели вдвоем и бутылку слабого вина), оказалось два коньяка, водка и еще пиво. Было уже часов семь вечера, когда сели за стол, и пошло поехало. Первый отключился хозяин, он оказался непьющим и через полчаса уже еле ворочал языком, пока еще, правда, сидел за столом, но уже не пил, а оставалась еще нетронутая бутылка коньяка. Эту добивали тесть с зятем пополам. После второй рюмки Алешка слабо запротестовал, мол, может, и хватит.
– А, ты слабак, а еще молодой, – закричал любящий подзуживать отец, и Криминский, дабы не ударить в грязь лицом перед тестем, продолжил.
Мы с хозяйкой, испугались, что дело плохо, но поздновато испугались, спрятали пиво и недопитое вино, однако, опорожнив коньяк, папа вспомнил про пиво. Он решил, что вино мы с Наташей выпили, а пиво нашел и еще пустил пивка по коньяку и водке.
– Как же я доберусь с ними до дому, – в ужасе подумала я вслух, несколько раз безуспешно пытавшаяся прервать их возлияния.
– И ночевать-то у нас негде, с тоской воскликнула Наташка, озирая свою уютную однокомнатную квартирку с одним двуспальным местом.
Я давно стояла, надеясь своим торопящимся видом столкнуть их с места. Время шло к одиннадцати, а потом к двенадцати. Свекровь была с Катей одна, я спешила к дочке.
Когда, наконец, гости поднялись из-за стола, хозяин уже мирно спал на полу на кухне, из-под стола торчали его ноги, и доносилось печальное периодическое всхлипывание.
Алексей держал шаг более или менее ровно и, казалось, отдавал себе отчет в происходящем, но папочка качался и заплетался и языком, и ногами:
– Вас не пустят в таком виде в метро, надо брать такси, – решила вышедшая проводить нас Наталья. Мы поймали такси и поехали через всю Москву. Отец отключился и только один раз проснулся, попросился из машины по малой нужде, Алешка тоже вышел, и они где-то в темноте орошали кусты. Потом папа снова уснул. А Алешка указывал шоферу куда ехать, и указывал правильно, так что мы доехали, и даже дошли. Свекровь и Катя мирно спали. Отец завалился на раскладушке храпеть; мы с Леней тоже легли, и я уснула, утомленная тревогами вечера. Вдруг посреди ночи я услышала рвотные всхлипы мужа и мгновенно села в постели как Ванька-Встанька с ощущением опасности, и Алексей перевернувшись, вылил содержимое своего желудка на подушку, на которой секунду назад лежала я.
Его трясло мелкой дрожью. Потом он встал и пошел в туалет, а я взяла подушку и пошлепала за ним замывать наволочку. Алешку продолжало рвать, а потом он уже протрезвевшим голосом спросил меня:
– Как ты узнала?
– Что?
– Что меня вывернет.
Я не удосужилась объяснять, спать хотелось.
– Пить надо меньше, смотри, до чего допился. А тесть-то храпит. Хоть бы хны ему.
Я замывала наволочку под струей воды в ванной, и ванна засорялась вонючими остатками крабного салата.
Смыв блевотину, я бросила наволочку на край ванны, принесла из кухни мужу кипяченой воды, накинула на плечи сухое полотенце. Он сидел в трусах на краю ванны, и его била дрожь, но уже не так сильно.
– Пойдем спать, утром разберемся.
– Иди, я сейчас.
Я ушла. Забрала у мужа его чистую подушку и представила себе, как мне было бы противно, если бы я не успела увернуться и непереваренный крабный салат, пахнущий перегаром, вылился бы на меня. Передернув от брезгливости плечами, я уснула и уже сквозь сон слышала, как минут через деять Алешка пришел и покорно лег без подушки рядом со мной.
Утром папочка был сконфужен, узнав про ночные неприятности, особенно, когда я передала ему слова, которыми он подзуживал Алешку.
– Ну, я сильно набрался, если так говорил, – оправдывался он.
Я долго поминала мужу его неуемную страсть к алкоголю, а отцу не могла, он укатил домой, в Камышин.
В июне, уже после моей защиты диплома, нас с Алешкой свалил вирусный грипп. Я лежала в прострации высокой температуры, которую плохо переносила. Лежала вместе с Алешкой, и диван наш в углу комнаты мама занавесила простынёй, спасая внучку от гриппа. И как ни странно, спасла.
Мы чихали за занавеской, и ни Катя, ни мама не заболели. Катенька подползала, любопытно заглядывала за край простыни и хихикала, но мама перехватывала ее и уносила подальше.
На распределение в институте Алексей пошел со мной, в надежде найти работу сразу на двоих. Такие случаи бывали, когда брали сразу мужа и жену. Кроме того, Алешка сказал:
– Знаю я твои знания географии. Будешь подписывать Красноярск, а думать что это Краснодар.
Ничего нам не подвернулось. Только Трошин (преподаватель на базе, в Курчатовском) долго уверял меня, что надо подписать распределение с квартирой. А было такое только во Владивостоке. Там тогда создавался Дальневосточный научный центр, и обещали жилье.
– Нет, сказал Алешка очень твердо. Это слишком далеко. Оттуда сюда не доберешься. Здесь у нас друзья, есть у кого занять до получки. Здесь родители. Что мы там потеряли?
Он оказался прав. Кто-то из наших туда всё же поехал, какая-то незнакомая мне пара физтехов. Квартиру не дали. Вернуться было тяжело, не было денег, они очень мыкались года три. А потом получили жилье, но всё же уехали, она не захотела там жить.
И я распределилась в Пущино. В год нашего окончания по Академии наук шло сокращение и довольно приличное, порядка 20%, а по договору с институтом нас должны были трудоустроить. Институт не имел в наличии ставок младших научных сотрудников, и Каюшин (заведующий нашей лабораторией) предложил мне аспирантуру к той же Любочке Пулатовой, моему шефу по диплому. Я хотела в аспирантуру. Но дочке был годик, денег не было совсем, я страшно устала, встав на весы после болезни, я обнаружила, что вешу 45 кг, вместе с кофтой и плащем. Нужно же было готовиться к вступительным экзаменам, ехать в Пущино, в Долгопрудный, срочно собирать документы, а сил не было никаких. Каюшин, правда, сказал мне:
– Какие там экзамены, только придите, и всё, мы вас должны принять, другого выхода нет, по договору физтеха с Биофизикой мы обязаны Вас трудоустроить.
У Любочки защищались все и быстро, Нина Кузьминична (воспитательница студентов от Биофизики) обещала через год комнату в коммунальном общежитии, потом квартиру-общежитие, и только потом настоящую квартиру.
Алексею же нужно было искать работу там, в Пущино, и находил он только с понижением на 20 рублей, он получал уже 140, а там давали 120.
Поддержки от родителей в этой своей затее дальнейшей учебы я не имела. Они были далекими от науки людьми и не понимали значения кандидатской в дальнейшей жизни, не понимали, что это удача, попасть в аспирантуру к хорошему шефу, для них важно было дать дочери высшее образование, в этом сходились и отец и мать, а вот кандидат наук, это что-то нереальное и не очень-то и нужное, муж же жалел меня и боялся, что я не выдержу еще учебы, но решала, конечно, я сама, и я сама опустила руки, – укатали сивку крутые горки.
В этот момент нашего раздрая и полной моей нерешительности позвонил Эдик Баландин, он довольно регулярно звонил нам, болтал с Алешкой, и я смеялась:
– Отслеживает свидетель нашу жизнь.
Так вот, Эдик позвонил, Алексей посетовал ему на наши проблемы, и Эдик дал номер телефона и посоветовал позвонить своему бывшему начальнику, от которого он тогда уже ушел. Это было в НИОПиКе (Научно-исследовательский институт полупродуктов и красителей), в Долгопрудном. Когда я училась на физтехе, НИОПиК слыл дырой, куда очень нежелательно было попасть, но тут на нас с Алешкой влияла близость Долгопрудного к Москве. Одно дело Пущино, другое – вот, рядом, в родном, можно сказать, городке, я пошла и встретилась с Толкачёвым, заведующим отделом, физиком, бывшим начальником Эдика Баландина, и на долгие годы моим. Мы погуляли по лесочку возле кладбища, и он расписал мне перспективы расширения своей лаборатории и, главное, возможности получения здесь квартиры:
– Через два года у вас будет квартира, у нас идет широкое строительство.
Толкачев был высокий «представительный», как сказала бы моя бабушка, мужчина в костюме и галстуке, с седыми висками, очень соответствовал моим представлениям о физиках и начальниках, интересно говорил о работе и, главное, обещал квартиру через два года, и я решила идти работать в НИОПиК.
Вопрос с жильем был такой острый в тот момент, что кто-то из знакомых Алексея, физтех, пошел работать дворником пять лет, после чего обещали дать и давали квартирку в Москве, а до этого можно было жить на ведомственной жилплощади. Дворников не хватало, а научных сотрудников было пруд пруди.
В июне мы еще жили у Ольшанецких на квартире. А в июле Алешка взял очередной отпуск и отпуск за свой счет и полетел на Камчатку в стройотряд, его взяли по рекомендации всё того же Мельбарда. Они полетели шабашить, или калымить, это называлось по разному, а я переселилась вместе с детскими пожитками на лето к маме на Москворецкую в ее комнату в коммунальной квартире, расположенной на втором этаже унылого трехэтажного оштукатуренного здания, с отоплением, туалетом и водопроводом, но без горячей воды. Квартира была трехкомнатная с большой прихожей, справа жила цыганка с женатым сыном Сашкой, красивым черным, но косоглазым парнем, большим гуленой, и невесткой, унылой рыжеватой русской женщиной, прямо была наша двадцатиметровая комната, и слева в маленькой жила рабочая с шиферного завода Валя с дочкой Зиной 8 лет.
Я оттуда ездила в Долгопрудный и в Москву, переоформляла документы, оставляя годовалую дочку бабушке и маме, мама возвращалась к двум часам домой.
Катенька еще не ходила, не то, чтобы совсем не ходила, нет, она уже могла, оторвавшись от стула, пройти до другого два три шага, но тут же садилась на пол и ползла. Ползала она очень шустро, быстро-быстро перебирая руками и ногами, и ей это казалось быстрее и надежнее, чем ходить на двух ногах. Ползала она даже на улице, по песку; отпустит край скамейки, за который держится, и ползет куда-то. Тогда же и произошел забавный случай, когда я оставила Катю бабушкам, сама уехала и строго так сказала:
– Когда уложите Катю спать, не смотрите на нее, а то она тут же вскакивает.
Они и не смотрели, а Катенька вся изгваздалась в какашках, еле отмыли и ее, и матрас, и пеленку, и пододеяльник.
Но это, когда я уезжала, а так мы часто гуляли с дочкой то в скверике под окном, где была песочница, то в парке неподалеку, тоже в песочнице. Катя подолгу играла в песке, самозабвенно копая и пересыпая его, и вытирая грязные руки о белую, кокетливо отделанную красной каймой, панамку. Можно себе представить в каком виде мы возвращались.
Уходили в белой панамке, светло-сером платьице, сшитом из рукавов пиджачка моего серого костюма, тоже отделанном красной тесемкой, и в темно-серых колготках, и серых ботиночках с длинной шнуровкой, как научила меня Валя Баландина, покупать ботинки с высокой шнуровкой, чтобы детская ножка не выпадала, а возвращались мы… сплошь темно-серо-бурые от песка. А воды горячей не было, а колготок было только две пары, и те с трудом были добыты.
Просто бич какой-то был с колготками Катиного размера, всё время, пока она росла, не было колготок именно ее размера до тех пор, пока она не доросла до такого большого размера, который был редкостью все годы. В тот год меня еще выручали ползунки большого размера, я их обреза́ла по талии и вдергивала резинку, вот и получалось что-то вроде колготок – не так красиво, но всё же сменка. А сшить ребенку платье из рукавов придумала Ирина, она сшила Катеньке платье из рукавов своего шелкового желтовато-зеленого платья, которое я тоже часто надевала на Катю. Однако рукавов на мою замарашку не хватало. Байковые платья стоили 5 рублей. Приталенные, с грубыми строчками, плохих расцветок, они уродовали ребенка; я поехала в «Пассаж» и купила по 60 см разноцветной симпатичной байки в количестве 5 кусков и сшила дочке платья по одной выкройке, которую сама же и изготовила по ее байковой кофточке, внося некоторое разнообразие в каждое платье: то с карманом, то без, то с воротником, то простой ворот, с застежкой спереди или сзади, плюс разная расцветка, – и вот получилось пять цельнокроеных симпатичных детских платьиц на те же 5 рублей.
У мамы не было холодильника, и невозможно было тогда пойти в магазин и купить хороший холодильник, даже имея деньги; холодильник надо было или несколько месяцев ловить по магазинам в очередях, записываться, или доставать через знакомых. И мама купила холодильник «Дон» без морозильной камеры и автоматического выключения, он жрал электричества на три рубля в месяц, но стоил на сто рублей дешевле и был в свободной продаже.
Привезла мама новенький агрегат, а он не включился. Алешка тогда был на Камчатке, и тащить холодильник в ремонт было некому, а на дом гарантийный ремонт не приезжал, и мама быстренько написала на завод-изготовитель письмо следующего содержания: «Вот я читала в газетах, как это бывает, купишь дорогую вещь, привезешь, включишь ее в сеть, а она не работает, а вот теперь и такое со мной случилось, хочу написать об этом в „Известия“, мою любимую газету беспартийной советской гражданки (последнее мама не написала, а сказала мне), но подожду, может вы всё-таки поможете, так как гарантийный ремонт у нас за две остановки электрички, а на дом они не идут, я же не могу донести туда холодильник, а мужчин в семье нет».
В результате прискакал из Ростова молодой голубоглазый парень, сказал, что его начальник, как прочитал в письме, что может быть замешана пресса, сразу и отправил его к нам.
Парень, не сводя с меня ни на минуту совершенно зачарованных голубых глаз, всё же починил нам холодильник, хотя я думала, что он и не видит, что там вертит, так он откровенно, зачарованно смотрел на меня, просто приклеился взглядом.
Когда он уехал, бабушка сказала мне:
– Говорит, что она у вас такая худая? Не кормите?
Я засмеялась; ну уж точно не только о моей худобе он думал, когда пялился.
Катенька была не капризна, но быстра и проказлива, а бабушки рассеянны и недостаточно осторожны, и Катя опрокинула на себя большую пятилитровую банку с тремя десятками яиц.
Бабушка купила эти три десятка, уложила их в банку, чтобы сохраннее были, и поставила банку на стол, а на столе была скатерть, Катька подошла и потянула за скатерть. Это у нее дело было проверенное, с шести месяцев так добывала всё, что на поверхности стола, и разбила яйца, к счастью, не нанеся не только себе никакого вреда, но и банке, на которую было наплевать, и которая осталась стоять на полу целехонькая совершенно загадочным образом, а вот содержимое банки превратилось в яичницу.
В середине июля Кате сделали прививку против кори. Вакцина была неудачная, и Катенька тяжело перенесла эту прививку. Температура была 39 почти сутки, и мама сказала потом, что ребенка так подкосило, как будто она корью переболела.
А спустя месяц, в августе, еще до приезда Алешки, Катенька стала температурить, утром нормальная, а вечером 38. Аппетит ничего, а жар каждый вечер. Я вызвала нашу участковую, немолодую грузную женщину, вечно усталую, но опытного врача. Вызвала раз, другой. Во второй раз она сидит, смотрит на Катю, думает вслух:
– Ну не знаю, что с вами, похоже на грипп. Но сейчас эпидемии нет.
– А вдруг это какая-нибудь тяжелая болезнь, например тиф? – в страхе спросила я.
Врач посмотрела на меня задумчиво, но не возмутилась:
– Нет, не беспокойтесь. Тифозный ребенок не будет так сидеть за столом и улыбаться. Тифозный лежит пластом. Потерпите, поберегите, думаю, всё пройдет. – И она оказалась права. Через 10 дней такой непонятной болезни Катя перестала температурить, и мы снова начали с ней гулять.
Так мы и жили-поживали два месяца, пока не вернулся с заработков Криминский, по которому в перерывах между Катиными болезнями я успела соскучиться. Алешка проработал там, на Камчатке два месяца, заработал кучу денег, тысячу триста рублей, повидал Дальний Восток, покупался в теплых гейзерах.
Приехал какой-то незнакомый, непонятный, чужой, в незнакомой одежде – в новом сером свитере, лохматом, напоминающий свитер с фотографии Хемингуэя, модной тогда фотографии, – не узнать лица, изображенного на ней считалось позором. У Мельбарда была такая фотография, свитер был толстый, не облегал шею великого писателя, видимо это во время охоты на львов в Африке он нарядился, и теперь вот и мой Хемингуэй надел такой свитер, теплый и толстый исландский свитер, рыбаки там, на родине его, наверное, надевали, чтобы выйти в холодную погоду в море, и наши интеллигенты тоже носили такие свитера.
На лице у мужа была поросль двухмесячной небритости, усы наросли симпатичные, густые, а борода смешными такими клочками, между клочков просвечивала тонкая чистая, не тронутая еще растительностью кожа.
Он сбросил рюкзак у порога, и мы обнялись радостно, но как-то отчужденно. Долгой была разлука. А Катенька осторожно допустила папу до себя, отворачивая личико от его щетинистых поцелуев.
Алешка привез еще себе полушубок черный, с нестриженой, свисающей клочьями шерстью внутри и казавшийся несносимым, два литра красной икры, много банок лососевых консервов, тогда уже дефицитных, и кучу впечатлений.
Деньги при нем еще не все, потом ему дослали.
Он летел 11 часов, очень устал.
– День длился и длился, – сказал он, – мы летели за зарей, всё на запад и на запад. В электричке сюда я не взял билета, и меня накрыл контролер. Впервые в жизни я не бежал от него, а лениво подал трешку. Приятно чувствовать себя при деньгах.
Поели, выпили, стали укладываться. Я разделась в тот первый вечер в темноте, отвыкла от мужа, чуралась. А среди ночи муж вдруг вскочил и спросил меня:
– Куда мы летим? – в голосе была тревога и напряжение.
– Всё, Лешечка, никуда не летим. Ты дома, спи.
– А ты кто?
– Жена твоя, Зоя. Спи.
Алешка отвернулся от меня и натянул на голову одеяло, что-то недовольно бурча себе под нос. Утром я ему сказала:
– А ты ночью разговаривал, всё выяснял, кто это я.
– Да, – вспомнил Алексей. – Да, я вдруг испугался и рассердился, кто это ко мне в постель залез?
– Ну ладно, ладно, поверю, – только и сказала я.
Алексей был доволен своей поездкой, и не только тем, что заработал деньги и повидал мир, но и гордился, что выдержал испытание тяжелым трудом. Как я поняла из его рассказов, непривычные к физическому труду молодые инженеры уставали, у некоторых были нервные срывы, а вот он, Алешка Криминский ничего, продержался, не устал и не орал на товарищей, не впадал в истерику из-за пустяков.
– Скучал, вспоминал меня, Катеньку?
– Последние дни, а до этого всё работа и работа, всё светлое время на стройке.
Мы взяли деньги и пошли по магазинам их тратить. Поехали даже на ярмарку в Лужники, в первый и последний раз.
Купили Алешке обувь, мне плащ и осенние туфли, неудачные, босоножки, удачные, Катеньке шубку красивую из стриженного крашенного кролика, рейтузы, кофточку, в общем, стали на эти деньги жить и тратить помаленьку, я ведь и не работала, и стипендию не получала, а жили на два дома, и жили неэкономно.
Привезенные два литра икры мы ели все впятером ложками, радуясь, что холодильник позволяет как-то растянуть это удовольствие. Катеньке тоже делали бутерброды с красной икрой, и она их ела.
Алексей уехал жить в Подлипки, ему было пора на работу. В общаге он жил уже в другой комнате, не с Пономаревым, а на этаж ниже, с Игорем Даниленко, тоже физтехом, однокурсником. Надоел Алешке этот Пономарев. Коллекционировал юмористические вырезки из газет и журналов и зачитывал Алешке. Криминский смеялся, а Пономарев спрашивал, объясни, мол, ну чему тут смеяться. А как это можно объяснить человеку без чувства юмора?
Устал Алешка от него, и ушел. Поселился с нормальным парнем, и я вот как-то приехала его навестить, Игоря не было, но зато в этот же день притащился к Алешке Мельбард. Он жил у жены с тещей, ему было близко, и он пришел отдохнуть от баб. Алексей лежал уставший на кровати, я что-то делала по дому, кажется, гладила мужу рубашки, а Мельбард, в очередной раз развязавший, всё цеплялся ко мне и говорил:
– А я на Камчатке спал с твоим мужем в одной постели.
Я ноль внимания, я понимала, что он хотел меня поддразнить и как бы сблизиться – спал с моим мужем в одной постели. Но когда он сказал об этом в третий раз, я разозлилась.
– Ну, спал и спал, почему это должно меня волновать? Ты что, гомосексуалист?
Бедный Володька был неожиданно шокирован моим прямым вопросом, пригнул голову как от удара и, переведя дух, сказал лежащему Алешке:
– Ну, и баба у тебя.
Я вся подобралась, ожидая реакцию мужа и собираясь тут же выпустить когти, если он меня обидит. Алексей лежал, расслабившись, и глядел в потолок, потом, не поворачивая головы и не проявляя никакого интереса к нашему разговору, ответил:
– А ты не нарывайся.
И всё, нечем было крыть Мельбарду, и он заткнулся.
Весь сентябрь и октябрь мы искали квартиру поближе к Долгопрудному и к Подлипкам, чтобы я могла ездить на работу. Квартиру так и не нашли, и сняли комнату с неотапливаемой верандой за 30 рублей в частном доме в Лианозово. Деревенский быт как ужасал меня, так и ужасает до сих пор, но деваться было некуда, и сняли, что подвернулось, сэкономив 20 рублей в месяц.
Договорившись с хозяйкой, тетей Тоней, круглолицей женщиной лет шестидесяти, Алешка перевез туда из общаги наш скудный скарб, всё тот же огромный белый эмалированный Лысьвенский таз для стирки, в котором были сложены две кастрюли, эмалированные тарелки, две вилки, две ложки, завернутые в газетку, две большие подушки, подарок свекрови на свадьбу, ватное синее одеяло атласное, привезенное мне Люсей из Кохмы, когда я еще была студенткой второго курса, ну, в общем, начало жизни, скудное домашнее хозяйство, из мебели у нас была одна Катина кроватка, но ее мы перевезли позднее.
Комнату мы сняли весьма скудно меблированную, был какой-то стол, развалюшечный полуторный диван и, кажется, старого вида гардероб, а может, даже и гардероба не было. Тетя Тоня, как потом окажется, сдавала эту комнату дачникам, а они приезжали со своей мебелью, как тогда было принято выезжать на дачу, взяв всё необходимое из дома, и жить постоянно на даче, благо близко.
Диван стоял прислоненный к деревянной перегородке, отделяющей нашу комнату от коридора, который одновременно служил и кухней – там стояла газовая плита, газ был в баллонах. Для отопления топили печку углём в комнате хозяйки, и теплая вода шла по трубам в наши батареи, но по утрам зимой было очень холодно, наша комната выстужалась полностью. Все удобства были во дворе, правда выручала веранда – можно было по малой нужде пользоваться ведром на веранде, – холодно, но всё же недалеко бежать.
Алешка снял эту комнату, и мы в выходные поехали ее смотреть (и остались переночевать), а потом вернуться домой; предполагалось, что Катенька будет пока ходить в ясли у мамы, а мы будем приезжать к ним по выходным. Ясли располагались по ту сторону железной дороги на расстоянии где-то километра от нашего барака; далековато было маме носить девочку, выручали санки.
Мы приехали в Лианозово вечером, и Алешка позвал меня в магазин.
– Там ведь ничего нет, надо будет что-то поесть.
И мы купили чаю, сахару, хлеба, сыра, и скромно поужинали.
Понравилась ли нам комната? С июля месяца мы первый раз остались, наконец, вдвоем. Хозяйка, тетя Тоня рано ложилась спать, а мы после объятий долго лежали в полной чернильной темноте и первозданной тишине и всё говорили, говорили, говорили, соскучились.
У мамы, когда приезжал Алешка, мы спали на полуторном диване, жестком-прежестком. Мама и бабушка завязывали на ночь платки на голову, у обеих мерзли головы, а когда приезжал Алексей, они надвигали платки на глаза и довольно демонстративно отворачивались к стенке. Но ведь уши-то у них были не завязаны, поэтому наше общение можно было назвать…
Недавно я смотрела фильм про американских подростков, и в нем есть сцена: более опытные товарищи поучают молодого мальчика, как подобраться к девушке. Заканчиваются поучения фразой:
– Ну, а если повезет, она позволит тебе перепихнуться на бензоколонке.
Так мы, будучи женаты, могли только как «перепихнуться на бензоколонке», а, может, на бензоколонке и удобнее, не знаю точно. И теперь нам эта комната в первый, пусть в самый первый момент понравилась.
В октябре у меня начались сильные боли справа внизу, похоже на аппендицит, но оказалось воспаление придатков, и пришлось лечь в стационар, расположенный на Цемгиганте. Я провела там 10 дней. Нас было в четырехместной палате трое, Людмила, лечившаяся от бесплодия, Марина, девятнадцатилетняя женщина на последних месяцах беременности, и я. От нечего делать все вечера болтали, каждая про свою жизнь. Люда и Марина сидели на одной кровати напротив меня, и Люда иногда гладила Маринкин живот и вздыхала – она уже три года была замужем и не беременела. Предметом разговоров были мужья, у обеих были шоферы, и свекрови, с которыми приходилось бороться. Правда, получалось, что Маринкина свекровь знает свое место и не выступает, а вот Людина мечтает разбить их жизнь и подсовывает сыну всяких баб, сводничает.
Большое место в их разговорах занимали бабки-пенсионерки, проводящие свою жизнь на лавочке возле подъезда. Это были враги, враги все до единой, поголовно, все сплетницы, повсюду сующие свой недоброжелательный нос, и вот Маринка рассказывала, как она дразнила бабок:
– Утром пойду в одном берете, а другой возьму с собой в сумку и, возвращаясь, надеваю другой берет, а они шипят от злости: гляди, гляди, вертихвостка, опять в новом берете. И сколько же их у нее.
Зависть соседок и сейчас вызывала у Марины неподдельное удовольствие победительницы.
Потом Люду выписали, и вместо нее пришла полная женщина, удивлявшая меня своим аппетитом – после обеда она приходила в палату, доставала круг краковской колбасы, брала хлебный батон, от круга отрывала кусок, от батона просто откусывала и съедала и то, и другое. Мне, способной съесть два кружочка колбасы на тоненьком куске хлеба, это обжорство казалось просто нереальным, как в кино.
Сама я не помню свои разговоры там, помню только постоянное чувство тоски по Кате, я впервые так долго не видела дочку и невыносимо скучала. Алешка привозил ее два раза, жаловался, что Катя бегает с моей карточкой и всё говорит:
– Мама, мама, мама, – как заведенная, и жалко ее, привыкшую быть со мной.
Через 10 дней меня подлечили и выписали, и я, слегка отвлекшись, вновь окунулась в свои проблемы.
Пока я лежала в больнице, Алексей не жил в Лианозово, и нас там обокрали. Тетя Тоня была в доме вместе с 11 летней внучкой Олей, когда поздно вечером на них напал пьяный сосед. Стал рваться во входную дверь, сломал ее, они укрылись в дальней комнате, заперлись и, пока он пытался сломать вторую дверь, вылезли из окошка, и убежали.
А сосед пошарил в нашей комнате, которая была не заперта, и утащил газетный сверток с ножом, четырьмя ложками и двумя вилками из нержавеющей стали, наверное, продумал, что там мельхиор, так как ложки, лежащие открыто, он не взял.
Чем с ним дело кончилось, отправился ли он в места отделенные, откуда только что прибыл, или нет, не помню, но тетя Тоня вернула нам вилки и ложки, купив их в магазине, хотя я и протестовала, считая ее невиновной в том, что произошло.
Катеньку стали пристраивать в детские ясли, нашили ей хитрые фартучки по специальной выкройке, которые там требовали, накупили колготок, отстояв в очереди, и я повела, а вернее, понесла ее в группу на руках, прижимая к себе маленькое тельце и содрогаясь от страха, как доченька со мной расстанется. Но доченька увидела детей, кучу игрушек, выпорхнула у меня из рук, как птичка, и, не поворачиваясь, убежала. Я ушла успокоенная, а когда после обеда за ней пришла, Катя радостно кинулась ко мне, и с таким же удовольствием, с каким она осталась с детьми, пошла со мной домой.
Пять дней она отходила в детский сад, а я ездила в Москву окончательно устраиваться на работу. Допуск у меня был оформлен еще на физтехе, В НИОПиКе сделали запрос в институт по этому поводу, но хотя всё было рядом, он еще не пришел, а начальник первого отдела захотел со мной познакомиться, вот я и поехала к нему в Московское отделение НИОПиКа.
Почтенный седой человек посмотрел на меня, спросил, откуда я, поговорил про Батуми, потом вдруг поставил меня в тупик вопросом:
– А кто у вас на физтехе начальник первого отдела?
Я посмотрела на него совершенно изумленными глазами, кроме фамилии ректора и физиономии Волкогона я не знала никого и никогда из администрации физтеха, кроме наших секретарш. Да и зачем мне были все остальные?
Мой собеседник засмеялся:
– Ну, вы сами видите, какая вы хорошая, даже не знаете, кто у вас был начальник первого отдела. Можете выходить на работу, когда захотите, и не ждать, когда придет подтверждение вашего допуска из физтеха, по нашим каналам это займет месяц.
Я поблагодарила его и ушла, но воспользоваться возможностью выйти на работу пораньше мне не удалось – тяжело заболела Катенька.
На ноябрьские праздники Алешка вышел погулять с дочкой в новой шубке из стриженого кролика, которая оказалась довольно холодной, а Катя была маленькой и мало двигалась. В тот день было ветрено, Алешка прогулял с ней два часа, и она заболела – сначала просто насморк, а потом, через три дня начался лающий глухой кашель на всю ночь, и наутро было 38,5, и ребеночек не поднял головы с подушки. Лежала, полузакрыв глазки и, отвернув от нас темную головешку на тоненькой шейке, быстро дышала и отказывалась от еды. Мы вызвали участкового врача, и мама в тревоге уехала на работу, а вернулась обратно раньше обычного с симпатичной маленькой женщиной-пульмонологом, ее приятельницей, имя и отчество которой я сейчас, к сожалению, забыла. Катенька спала, когда они приехали, но врач не стала ее будить, долго и внимательно слушала спящую, только затем разбудила и еще слушала сидящую с тревожным внимательным лицом, и я смотрела на нее и слушала тяжкий ход собственного сердца, за всё утро Катя выпила полстакана воды, не подняв головы от подушки, и не сказала ни слова.
– Обширное левостороннее воспаление легких. Немедленно пенициллин большими дозами 4 раза в день, а затем беречь и выхаживать, – таков был приговор врача.
Мама тут же и сделала укол, и они, пообедав, уехали на работу, а спустя еще два часа, к вечеру заявилась вызванная врач, но не наша участковая, а с другого участка, томная накрашенная девица, от одного вида которой в роли педиатра хотелось выть на луну. Равнодушно послушала она девочку, сказала что, в легких она хрипов не слышит, и антибиотики не назначила бы, но раз уж вы кого-то где-то там нашли, то колите, ладно.