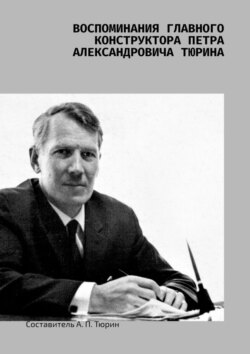Читать книгу Воспоминания главного конструктора Петра Александровича Тюрина - А. П. Тюрин - Страница 9
По жизни шагая
1941 год
Оглавление1941 год – последний год обучения в Московском механико-машиностроительном институте им. Н. Э. Баумана. Мы с братом Владимиром заканчиваем теоретический курс по артиллерийскому факультету «Е». Артиллерийский факультет был образован в 1938 году известными учеными и специалистами Э. А. Сателем и генерал-майором Э. К. Ларманом. Первым деканом факультета был подполковник Я. И. Румянцев. В конце 1941 года предполагался первый выпуск дипломированных инженеров-артиллеристов для Народного комиссариата вооружения. Мы должны были быть первыми, но ими не оказались из-за начала Великой Отечественной войны.
Весной 1941 года мы с братом Владимиром собирали материал для дипломного проекта в Ленинграде на заводе «Большевик», работали конструкторами в серийном конструкторском бюро (КБ) у Б. С. Коробова. Старейший артиллерийский завод давно привлекал наше внимание. После окончания института нам хотелось остаться на этом заводе, и мы получили ходатайство от КБ о направлении на работу после защиты дипломного проекта. Практика подходила к концу. В первый по-настоящему летний воскресный день мы с братом поехали в Петергоф на открытие фонтанов. Официальное сообщение В. М. Молотова о войне в 12 часов 22 июня застало нас в парке. Праздничное гуляние прекратилось, большинство поспешило к выходу. На вокзале скопилось много народа, и мы с большим трудом добрались до города.
Вечером огни в домах были потушены, но белые безоблачные ночи демаскировали город. Шары-баллоны противовоздушной обороны придавали ему какой-то призрачный вид. Все стало строже и серьезней. Чувство ответственности и заботы за судьбу своего города, объединяло ленинградцев, никакой паники не наблюдалось, каждый занимался своим делом.
Через несколько дней мы получили сообщение из института о немедленном возвращении в Москву. От завода «Большевик» мы взяли рекомендательное письмо в надежде вернуться в Ленинград и работать на заводе.
Владимир и Петр Тюрины. 1941 год
В последних числах июня на Московском вокзале скопилось много людей, преимущественно женщин и детей. Многие понимали, что на город в любой момент может быть воздушный налет и стремились не подвергать опасности прежде всего детей. Железнодорожный транспорт работал четко и успешно справлялся с повышенным потоком пассажиров. Так мы оказались в Москве и сразу направились в институт, где получили справку об окончании теоретического курса. Нам предложили выехать в качестве инженеров на один из заводов Народного Комиссариата вооружения. Был выбор завода в Перми, Голутвине и Горьком. Мы выбрали город Горький. Защита дипломных проектов откладывалась на неопределенное время. Большинству выпускников это сделать довелось не так скоро – уже после войны. Летом институт эвакуировался в Ижевск, и первый выпуск инженеров нашего факультета состоялся в Ижевске и дипломированными инженерами стали студенты на курс моложе нас.
Настал момент расставания с Москвой: необходимо было сняться с воинского учета, выписаться из общежития и получить направление в Наркомате. Первые недели войны возложили большую ответственность на районные военкоматы. Они были обязаны пропускать огромное количество людей, направляемых в армию. Возникли трудности при снятии с учета. Исключительное внимание в этом деле проявил декан факультета Я. В. Румянцев, сумевший добиться в короткий срок решения через Наркомат, снять нас с военного учета и вернуть нам паспорта. Вся группа молодых специалистов выехала на оборонные заводы.
При получении направления в Горький нескольким молодым специалистам предложили в качестве сопровождающих воспользоваться железнодорожным эшелоном, который должен был доставить новые токарные станки с завода «Красный пролетарий». Мы с братом дали согласие и выехали со станции «Канатчикова дача», где уже были подготовлены железнодорожные платформы, на которых стояли станки, укрытые брезентом. Июль 1941 года был очень теплым, и путешествие в течение нескольких дней на открытых платформах казалось делом не очень трудным.
Погрузив студенческие чемоданы на одну из платформ, мы отправились в путь. Старшим по эшелону был мой брат Владимир. Выезд на Московскую окружную дорогу и формирование эшелона на узловой станции Ховрино заняло три дня. После тридцатиградусной жары мы с облегчением вздохнули, когда ночью выехали на Горьковскую дорогу и покатили в нужную сторону, а не вокруг Москвы. Станки были обильно покрыты консервирующей смазкой. Под воздействием жары смазка стекала, и мы понемногу сами покрывались ею. Дорожная пыль и копоть от паровоза, ночная гроза с дождем создавали определенный дискомфорт.
Еще несколько дней и мы в городе Горький, на железнодорожных путях перед заводом. Как сложится наша судьба на новом месте? Кто мог предположить, что через полтора года мы снова эшелоном, на этот раз в сильный мороз, будем возвращаться обратно в Москву в канун Нового 1943 года.
На заводе уже были студенты нашего потока, оставленные после прохождения преддипломной практики: М. А. Брежнев, Е. С. Баракан, М. С. Гуревич, Н. Н. Воров, Л. Н. Зайцев, Г. А. Александрян, И. Аранович, Т. С. Риттенберг. Молодые специалисты работали в цехах завода и в Отделе главного конструктора. В отделе кадров нас принял Перфильев и предложил нам сразу идти в Отдел главного конструктора, куда мы и направились.
Здание Отдела главного конструктора находилось в глубине территории завода, ближе к проходной с улицы Калинина. Здание, недавно построенное, соединялось с опытным цехом и Отделом главного технолога. Как мы узнали позднее, главный конструктор Василий Гаврилович Грабин отошел от традиционных форм, и главный технолог подчинялся не главному инженеру завода, а главному конструктору. Таким образом, Василий Гаврилович взял под свою опеку всю технологическую службу. Со временем главный конструктор создал специальное бюро по проектированию станков и оборудования для оснащения поточного производства пушек. Выпуск рабочих чертежей и разработка технологических процессов были в одних творческих руках. Любая конструкция оценивалась с учетом возможности ее изготовления на оборудовании завода. При этом исключались тупиковые вопросы: как будем делать? В исключительных случаях заранее готовились к приобретению нового или модернизации старого оборудования. Параллельно решались вопросы оснащения инструментом и приспособлениями.
Генерал Василий Гаврилович Грабин
Молодых специалистов Василий Гаврилович принимал лично. Мы прошли в кабинет, навстречу нам поднялся плотный по комплекции человек в белой вышитой рубашке с характерным волевым лицом. После краткого нашего рассказа откуда мы прибыли и при каких обстоятельствах оказались в Горьком, мы высказали желание работать конструкторами. Эта встреча определила нашу судьбу на долгие годы. Василий Гаврилович направил нас в конструкторский отдел к В. Д. Мещанинову. Так началась наша вместе с братом Владимиром работа в КБ завода «Новое Сормово» (в настоящее время предприятие входит в концерн «Алмаз-Антей»).
Завод «Новое Сормово» был заводом – новостройкой, построенным специально для изготовления различных видов вооружения, прежде всего артиллерийских систем. Завод выпускал дивизионные пушки Ф-32-УСВ, танковые пушки Ф-34 и ЗИС-5 конструкции генерала Грабина.
Коллектив отдела главного конструктора был небольшой, не более ста двадцати конструкторов, но крепко спаянный, молодой и целеустремленный. В его работе чувствовалась сильная воля руководителя и одновременно взаимное доверие и товарищество, чего часто не хватает в современных крупных организациях. При всей строгости главный конструктор был доступен и общителен. Инженеров в коллективе отдела главного конструктора было немного из последних выпусков Ленинградского военно-механического института и Московского механико-машиностроительного института имени Н. Э. Баумана. Основу составляли практики, получившие подготовку в техникумах и курсах конструкторов непосредственно на заводе. Ведущие конструктора готовили разработки узлов и механизмов настолько тщательно, что позволяло деталировщикам выпускать рабочие чертежи достаточно быстро. Допуски и посадки на размеры определял разработчик, он же вел наблюдение за деталировкой, согласовывал в отделе нормоконтроля и у технологов (литейщиков, сварщиков и по металлообработке, соответственно). Разработчик сдавал чертежи в полном комплекте начальнику отдела. Согласование между отдельными группами узлов и механизмов осуществлял компоновщик пушки.
Режим работы в отделе главного конструктора был достаточно строгий. Проход на завод: вначале по марке сменности через свою кабину, потом через пост, наконец, сдаешь пропуск в кабину табельной и проходишь на рабочее место мимо начальника отдела, который находился тут же в зале. Во время обеденного перерыва в табельной берешь пропуск и идешь в столовую или домой через свою проходную. В конце обеда возвращаешь пропуск в табельную. Выходить в цеха или по вызову – только с письменного разрешения начальника отдела. Выйти с завода до конца смены можно было по увольнительной записке. При некоторой сложности и громоздкости система срабатывала безотказно, дисциплина была на высоте.
Город Горький военного времени был перенаселен людьми, в основном, занятыми в промышленности. По утрам в сторону Сормово перемещался большой поток людей, трамваи были переполнены. Мы с братом жили в гостинице Антей в Канавине рядом с Московским вокзалом. Помимо нас в гостинице проживали молодые специалисты, недавно прибывшие и не успевшие обзавестись жильем: супруги Хворостины, Красовские, Перышкин, Яйло, Артемьева – все конструктора отдела главного конструктора.
Постепенно в город стекались все новые и новые люди, снявшиеся с насиженных мест из-за войны и направляющиеся далее на восток. Гостиница у вокзала привлекала беженцев в надежде отдохнуть и оглядеться. Свободных номеров не было, и люди располагались в холлах и коридорах. Если вначале летом беженцы были из западных областей, то в начале сентября появились москвичи, в том числе знакомые по институту. Становилось все тревожнее за судьбу Москвы, Родины. Утром после передачи сводки Совинформбюро народ расходился по своим делам с большой печалью – немцы рвались к Москве.
Горький был светомаскирован, у нас, например, в номере шерстяное одеяло выполняло роль шторы и утепляло окно в холодную зиму.
Работа в отделе Главного конструктора шла в ритме работы завода – в три смены. Дежурство конструкторов в цехах было организовано тоже в три смены. На новых разработках в отделах засиживались до 22 часов вечера. На заводе было создано народное ополчение с обязательным военным обучением после работы. Каждый день выделялись бойцы для несения дежурства в ночное время. В цехах для дежурных были выделены комнаты, оборудованные как казармы.
Памятны октябрьские и ноябрьские дни 1941 года. Надвигалась ранняя зима, стояли ясные морозные дни, особенно чистое небо было по ночам. Воздушные тревоги из учебных стали боевыми. Отдельные немецкие самолеты ночью совершали налеты, как правило, на большой высоте. Зенитки их не доставали, а вели только заградительный огонь. По сигналу воздушной тревоги мы выходили из гостиницы во двор и стояли во дворе под аркой, так как сверху сыпалась шрапнель.
Однажды раздались отдельные глухие разрывы в отдаленной части города, на Мызе (нагорная часть города) и в районе автозавода. Пламя далеких пожаров свидетельствовало о том, что немцам иногда удавалось сделать свое черное дело. Из сообщений от знакомых горожан мы узнали потом, что, несмотря на разрушения, работа на заводах не прекращалась и последствия налета оперативно ликвидировались.
Во время дежурства в ополчении уже под вечер над заводом низко пролетел немецкий самолет и выпустил очередь трассирующих пуль. Зенитный пулемет на соседнем здании не ответил. Для самообороны на заводе были установлены крупнокалиберные пулеметы на турелях собственной конструкции с простым прицельным устройством. Но разрешения на открытие огня не поступило. Открытие огня могло демаскировать завод и привлечь внимание разведчика еще к одному объекту. За все время войны завод не имел повреждений, и ни одна бомба не была сброшена на его территорию. Налеты прекратились с началом наступления наших войск под Москвой.
Осенью 1941 года завод, выпуская дивизионную пушку ЗИС-22УСВ, все более и более испытывал недостаток в материалах и, прежде всего, в листовой стали для станин. По этой причине была проведена срочная модернизация, в результате которой появились литые станины. Возможности литейного цеха не позволяли отливать станины целиком. Станины состояли из трех частей, соединенных между собой сваркой. Это было большим новшеством, поскольку сварка для отливок была не разрешена даже как мера для исправления литья. Военные представители не были согласны с вынужденными изменениями в технологии военного времени и остановили приемку готовой продукции. Отправка очередной партии пушек задерживалась, все свободные площадки на заводе были заставлены пушками. Конфликт был ликвидирован, но задержка в поставке вооружения не прошла бесследно. Многие пострадали, прежде всего начальник отдела технического контроля. Его освободили от работы. Сейчас можно с уверенностью сказать, что это было единственно правильное решение, позволившее продолжать выпуск пушек в то трудное время, когда немцы рвались к Москве.
Упрощение конструкции пушки ЗИС-22-УСВ не было столь эффективным, чтобы значительно увеличить производство пушек.
Это хорошо понимали директор Амо Сергеевич Елян и главный конструктор Василий Гаврилович Грабин. По инициативе Отдела главного конструктора (тактико-технических требований изначально не было) предлагалась новая конструкция дивизионной 76-мм пушки с моноблочным стволом и дульным тормозом на базе лафета, подготовленной к производству 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2.
Компоновку этого изделия Грабин поручил молодому инженеру Александру Евгеньевичу Хворостину. Хворостин появился в отделе главного конструктора в начале 1941 года. Он, воспитанник Ленинградского сельскохозяйственного института с дополнительным артиллерийским образованием, по спецнабору был направлен в Горький. Талантливый конструктор сразу проявил себя. Грабин сумел оценить молодого специалиста и доверил ему новую разработку.
Новая пушка получилась удачной и для обратной унификации с ЗИС-2 образца 1943 года. Родилось интересное решение, позволяющее иметь на потоке близкие по конструкции, но различные по калибру и назначению пушки. По опубликованным данным за войну было изготовлено сто тысяч пушек ЗИС-3.
Дивизионная пушка ЗИС-3
Противник высоко оценил эффективность и безотказность пушек ЗИС-3 и в конце войны пытался поставить ее на производство на одном из заводов Европы.
Здесь уместно отметить исключительную роль двух сильных руководителей завода, решивших в короткий срок разработку конструкции и постановку на производство новой пушки, что обеспечило ее массовый выпуск, несмотря на определенные трудности согласования с заказчиком – Главным артиллерийским управлением. Главное артиллерийское управление эту пушку не заказывало, ее достоинства не признавала, так что пушку начали применять на фронте, не приняв ее на вооружение.
Пушка ЗИС-2 до войны шла на производстве, но заказы на нее были незначительные. Главное артиллерийское управление считало, что для этой пушки нет целей, настолько высока была бронепробиваемость ее снаряда. Во время войны выпуск этой пушки был восстановлен, и она успешно воевала.
В компоновке Хворостин сумел, в основном, сохранить лафет пушки ЗИС-2, упростив коробчатые станины, заменив их трубчатыми. В качающейся части применил ствол-моноблок с дульным тормозом, унифицированный клиновой затвор с жестким копиром полуавтоматики для экстракции стрелянной гильзы и литую люльку. По сути, данная конструкция имела те же противооткатные устройства при замене веретена на новый профиль. Пушка ЗИС-3 создавалась как дивизионное орудие, поэтому был создан новый прицел с независимой линией прицеливания, позволяющей стрелять по закрытым целям и вести прицельный огонь по танкам противника. Максимальный угол возвышения 37О был выбран исходя из особенности конструкции лафета и из-за возможности удара казенника о землю при откате. Из теории баллистики известно, что прирост дальности при угле возвышения свыше 37О незначителен. Одним из возражений Главного артиллерийского управления как раз и был этот злосчастный угол возвышения. Возрастание угла возвышения неизбежно приводило бы к увеличению высоты огня и ухудшению устойчивости пушки при выстреле. Это безусловно мешало бы борьбе с танками противника при стрельбе прямой наводкой. Во время войны дивизионная пушка очень часто использовалась как противотанковое орудие.
После войны нашлись ученые, которые обосновали выбор угла возвышения 37О, как наиболее оптимальный с точки зрения комплекса всех других качеств орудия. Многие считали дивизионную пушку ЗИС-3 противотанковым орудием, которому для маскировки нужна низкая высота огня, легкость в управлении и скорострельность. Еще один плюс – удивительная безотказность, при высокой ремонтопригодности. Взаимозаменяемость всех узлов была обеспечена и гарантирована расчетами на максимум и минимум. При приемке пушек военный представитель преднамеренно брал узлы с разных пушек и проверял работоспособность стрельбой на заводском полигоне.
Основными разработчиками пушки ЗИС-3 были: ствол – М. А. Бибикин; противооткатные устройства – Ф. Ф. Калевалов; люлька – Б. Г. Ласман; прицел – Б. Г. Погосянц; нижний лафет – Б. Г. Малинин; затвор – В. С. Иванов; механизм наведения – И. Ф. Привалов; верхний станок – А. П. Шишкин; бронезащита – Викулов. Расчеты взаимозаменяемости вели И. И. Зверев и В. А. Тюрин. Общее руководство проектированием осуществлял К. К. Ренне.
При выпуске чертежей опытного образца подключались технологи, которые оценивали возможность изготовления на имеющемся заводском оборудовании, выбор рациональной заготовки с минимальными припусками на механическую обработку или возможность оставить черную поверхность в детали. Технологи по литью, штамповке, металлообработке были частыми гостями в конструкторских отделах. Основные принципиальные вопросы будущего серийного производства решались с главным технологом А. Ф. Гордеевым и главным инженером М. З. Слевским.
Традиционными были обходы рабочих мест главным конструктором Грабиным со своими ближайшими помощниками Д. И. Шеффером, К. К. Ренне, Н. М. Назаровым, В. Д. Мещаниновым, парторгом И. А. Горшковым, что позволяло быть в курсе разработок и влиять на ускорение работ. Бесспорно, это имело и дисциплинарное значение – не оказаться на рабочем месте во время обхода считалось нарушением. При обходе не пропускалось ни одно рабочее место. Группа подходила к каждому кульману, при этом продолжительность общения зависела от дела. Не удивительно, что Василий Гаврилович знал каждого по имени и отчеству. Изредка обходы проводились вместе с директором завода Еляном. Директор знал о новых разработках с первых линий на кульмане.
В один из таких дней меня представили директору Амо Сергеевичу Еляну. Поводом для этого была первая пробная проектная работа по заданию начальника отдела В. Д. Мещанинова. В качестве учебного задания была выбрана компоновка 45-мм противотанковой пушки, которую, как мне казалось, в целях снижения веса всей пушки, можно смонтировать на броневом щите, используя его как элемент силовой конструкции. У меня как молодого специалиста явно не хватало чертежных навыков, чтобы быстро изобразить новую конструкцию. В. Д. Мещанинов порекомендовал сделать в масштабе макет пушки из картона. Вот эта картонная пушка и показывалась Еляну и его спутникам. В дальнейшем эта работа не имела продолжения. В начале 1942 года на завод были доставлены трофейные пушки: немецкая ПАК-40 и финская 25-мм, у которых идея использования броневого щита была успешно реализована. Трофеи были подробно изучены Хворостиным, Земцовым и Матвеевым. Некоторые конструктивные решения были нами реализованы при разработке 100-мм противотанковой пушки БС-3.
Впоследствии приходилось иметь дела с многими иностранными пушками. Например, к нам поступили английские танки «Матильда», «Валентайн» и «Черчилль» для оценки возможности перевооружения их отечественными пушками. Наши пушки были много мощнее, проще в изготовлении и обслуживании. Сами танки большого интереса не представляли, поэтому работа по их перевооружению не была развернута.
Война принимала затяжной характер. Особенно трудным делом было организовать питание многотысячного города, к тому же перенаселенного и занятого, в основном, в промышленности. По рекомендации райкома весной занялись коллективными огородами на пустырях вокруг завода. Огород отдела Главного конструктора был позади завода около электроподстанции. Поле было распахано плугом за танкеткой, все остальное приходилось делать вручную. Работа была дружной, подчиненные и начальники – все были наравне. Сажали картофель. Семена доставали с большим трудом. Урожай получился отменный, просто замечательный, так как огород был на пойменных лугах за Волгой. Там же вырастили капусту. При минимальных затратах труда капуста получилась хорошей.
Обстановка на фронтах оставалась достаточно серьезной. Немцы сосредоточили свои усилия на юго-востоке, рвались к Сталинграду, к Волге. Наши с Владимиром родители в начале войны сумели выбраться из Киева. В Киеве они оказались, потому что отец по совместительству преподавал в Киевском лесном институте, и война застала его в Киеве. Необходимо было вернуться в Воронеж, в котором родители проживали постоянно. В Воронеже у них была квартира на территории сельскохозяйственного института и постоянная работа в Воронежском лесном институте. В июле 1942 года немцы близко подошли к Воронежу, и военные действия перешли в пригород. Связь с родителями прервалась, и мы с братом не знали об их дальнейшей судьбе. Нас это очень тревожило. Вечером за кульманом мы обсуждали сложившуюся ситуацию и не заметили, как сзади подошел Василий Гаврилович, который слышал нашу беседу. Не отрицая всей сложности обстановки на фронте, он сказал, что скоро будет перелом в ходе войны. Этим переломом потом стала Сталинградская битва.
Сообщение от родителей пришло из Балашова. Организованной эвакуации не получилось, хотя к ней готовились. Книги большой личной библиотеки были упакованы и переданы в сельскохозяйственный институт. Но отъезд был отменен. Когда немцы неожиданно прорвали фронт, пришлось самим думать об эвакуации. Родители на попутном грузовике с небольшим количеством личных вещей выехали в сторону города Анны, пока был бензин, и далее на восток на лошади, полученной в лесхозе. И так, все далее и далее, от лесхоза к лесхозу. Выручали ученики – воспитанники Воронежского лесного института. В Балашове, наконец, сели на поезд и в итоге добрались до конечной точки эвакуации для лесного института – города Лубяны Татарской АССР.
О Сталинградской битве написано много, но это спустя многие годы. А тогда? Скупые сводки Софинформбюро не раскрывали нам сведений о подготавливаемых операциях по окружению немецких войск в районе Сталинграда. Героическое мужество защитников города восхищало всех, вызывало исключительный патриотический и трудовой подъем, каждый чувствовал себя коммунистом. В эти месяцы заметно увеличился приток в партию новых членов. В октябре кончился мой комсомольский период жизни, и я подал заявление о приеме меня в партию. В ноябре в райкоме я получил кандидатскую карточку.
К осени 1942 года в коллективе отдела Главного конструктора шли упорные разговоры о создании Центрального артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ) под руководством генерала Грабина, причем не в Горьком, а под Москвой. Вскоре разговоры стали явью. Бригада доверенных лиц, в том числе И. С. Мигунов, А. Е. Хворостин, Я. А. Белов, выехали для осмотра сооружений эвакуированного завода вблизи Москвы. Первые сообщения были обнадеживающими – основные сооружения (инженерный корпус, механические цехи, вспомогательные помещения и несколько жилых домов) были пригодны для размещения оборудования и станков, а дома для жилья. К сожалению, не было тепла, так как котельная не функционировала и была демонтирована. Эта производственная площадка была частью большого завода и создавалась как опытный завод конструктора Л. В. Курчевского.
Решение о переезде пришло поздно осенью. Окончательно определился список отъезжающих. На заводе оставалась небольшая группа конструкторов для обеспечения серийного производства.
Сотрудники и члены их семей уехали поездом. Оборудование конструкторских отделов, документация, станки опытного цеха отправлялись эшелоном. Среди желающих сопровождать эшелон были С. И. Логинов, Б. М. Малинин, Г. С. Риттенберг, В. А. Тюрин, П. А. Тюрин и С. Г. Яйло. К нам в теплушку загрузили выращенные на огородах картофель и капусту. Эшелон отправлялся из Горького в новогоднюю ночь в сильный мороз. Для обогрева в центре теплушки стояла железная печь с длинной железной трубой. Жар от печки и трубы создавал комфортную обстановку. Трудности возникли в пути. Печка стала отчаянно дымить, тепла становилось все меньше и меньше. С Борисом Малининым мы решились на разборку всех труб и обнаружили наросшую гарь от березовых дров, сузивших проход, и моток проволоки в одном из колен. От нагара эту операцию по очистке труб приходилось делать несколько раз.
Особенно страдали от холода Яйло и Риттенберг, которые стали пассивны и бездеятельны. В то же время Логинов и Малинин, наоборот, проявляли изобретательность, были активны, понимали друг друга с полуслова.