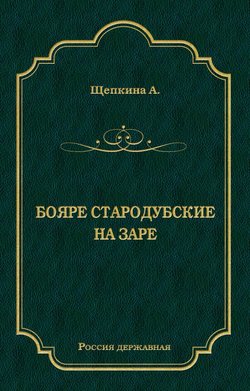Читать книгу Бояре Стародубские. На заре (сборник) - А. В. Щепкина - Страница 5
Бояре Стародубские
Глава IV
ОглавлениеПрожив почти до двадцати лет в костромской вотчине своего отца, Алексей, сын боярина Стародубского, незаметно из мальчика обратился в сильного и статного юношу. Лицом и ростом он был, как это все находили, похож на отца и был таким же молодцом, каким был отец его в молодости. И нравом он был в отца: добр, но с норовом. Иной раз ему перед отцом не хотелось покориться; часто приходилось увещевать его.
– Ты знаешь, – говаривал ему отец, сдерживая его пылкий нрав и толкуя ему про обычаи своего времени, – ты не только мне, но и всему нашему роду должен покорным быть! Дяди ли, старшие ли их сыновья – все над тобою старшие!
Алексею досадно было считаться меньшим в роде.
Когда-нибудь выслужусь на ратной службе, – думал он, – и стану наравне со старшими…
Но пока приходилось покорно жить при отце. Тогда поздно начинали учиться; двенадцати лет Алексей только начал учиться читать, писать и счету у своего приходского дьякона. В пятнадцать лет от дьякона перешел он к другому учителю, пленному поляку, шляхтичу Войновскому. Боярин Стародубский принял к себе пленного поляка править дела по хозяйству, но потом поручил ему также обучать Алексея всему, что он мог преподавать. В то время пленные поляки нередко попадали учителями в знатные дома бояр. Многих же оставляли в Москве, как слесарей и живописцев, находя, что они работали не хуже немцев; и немало их работало во дворце царя Алексея Михайловича.
Шляхтич Войновский выучил Алексея читать по-латыни и по-польски. Чтением и переводом сокращали они длинные зимние вечера. Днем шляхтич вместе со своим учеником пропадал на охоте в окрестных лесах. Упражняясь ежедневно, Алексей уже в пятнадцать лет был ловок в стрельбе и верховой езде.
Часто он бесстрашно ходил с крестьянами в бор на медведя и находил это тогда занимательнее латыни и математики. Но зато насколько он любил в детстве слушать сказки жившего у них старца Дорофея, настолько он слушал теперь с пылким любопытством рассказы шляхтича о польской жизни, обычаях и о странствиях Войновского в чужих землях или рассказы его об училищах и коллегиях Рима, где он учился когда-то; затем шли описания великолепных храмов Италии и Германии, где также много было диковинок. Много видевший шляхтич, не любивший Россию, презирал в душе ее невежество, только не позволял себе открыто высказывать это презрение перед боярами Стародубскими. Если он проговорится, бывало, наедине с воспитанником, то тут же поспешит прибавить, что и в России изменятся порядки, когда заведут в ней училища и коллегии, и будут тогда и в России ученые и образованные люди. Войновский передавал воспитаннику, что все это готовилось в Москве; он слышал о том, когда оставался там после освобождения пленных поляков и сам работал в «Книгопечатне», основанной при Посольском приказе.
– И теперь, – говорил Войновский, – в Москве работают монахи, пришедшие из Киевского братского монастыря: их призвали исправить церковные книги, сличив их с греческими подлинниками.
– Да, – прерывал его Алексей, – я слыхал про это от батюшки. Когда отец был в силах и жил в Москве и ко двору являлся с боярами, то видел там и монаха из Полоцка, Симеона, учителя царевичей и царевен.
– Он и теперь еще в Москве и в милости у царя Алексея Михайловича и его царевичей.
Из беседы со своим случайным учителем, заправлявшим хозяйством отца, Алексей познакомился и с другими взглядами, подробно слыхал о жизни в чужих землях. И нравились, и непонятны были ему нерусские обычаи, и понимал он, что Войновский порицал все на Руси, называл ее обычаи варварскими, толкуя ему это нерусское слово.
Когда война на Украине с Дорошенкой и турками требовала все новой и новой силы, то по всей стране велено было забрать в ратные люди все, что было молодого и сильного, и Алексей должен был поступить на службу. Никита Петрович поехал сам проводить сына в Москву и отдать его под покровительство знакомым и сильным людям, пользовавшимся милостями самого царя. В Москве просил он за сына у боярина Артамона Сергеевича Матвеева, приближенного ко двору. Молодой Стародубский хотя и прожил детство и годы юности в глухой вотчине отца, но был смышленее многих боярских сынков, проживавших в Москве, в виду у царя, или служивших в ратных людях. Он был смышленее, вдумчивее их и с особым уважением относился к более развитым людям; особенно интересовало его все, что он видел и слышал в доме боярина Матвеева, который радушно принял его отца и ласково обратил внимание на Алексея. К нему ласково относились и все бояре, знавшие давно его отца; молодость, красивое лицо и разумная, сдержанная речь располагали в его пользу. Кроме того, он ехал в дальний поход и ни у кого не стоял на дороге к местам и чинам в самой Москве; не намерен был остаться всем бельмом на глазу своим статным видом и старинным родом. Несколько месяцев, однако, пробыл в Москве молодой Стародубский, прежде чем сформированы были новые полки и нашлись деньги для отправки их в поход. В эту бурную для России пору накопилось много тревожных вопросов и дел. Предложившие царю свою покорность, гетманы запорожские снова колебались и призывали на помощь турок и крымцев. Польша неискренно относилась к перемирию, заключенному с Россией, и тайком от нее вела переговоры с турецким султаном. Большое войско посылалось на помощь к Ромодановскому, идти с ним за Днепр на гетмана правой, еще не покорившейся, стороны Днепра – на Дорошенко, собравшего около себя в Чигирине остатки не принявшего русского подданства казачества.
Наконец молодой Стародубский получил из Разрядного приказа назначение на службу в полк Шепелева. Среди зимы 1674 года Стародубский, приняв благословение отца и поклонившись святым храмам Кремля, выступил из Москвы с отрядом, к которому был причислен. Отряд шел, как сказано, в войско Ромодановского, стоявшего на берегу Днепра; недавно воевода прогнал за Днепр Дорошенко, опустошавшего города левобережья, и стоял теперь, ожидая помощи и новых распоряжений из Москвы. Полк Шепелева, к которому причислен был Алексей, двигался медленно по глубоким снегам, оставляя по пути в городах немало больных и ослабших на попечение местных воевод.
Продвигаясь на юг почти по всей России, Стародубский собственным опытом убеждался в непорядках, царивших на всей Руси, о которых прежде знал по слухам. Сама живая жизнь убеждает глубже, пробуждая жалость к страдающим и утесненным. Везде, где только случалось Алексею толковать с местными жителями, были слышны жалобы на воевод. Их обвиняли в поборах, в жестокости при взимании податей с посадских людей и горожан. В городах встречались населения из одних боярских детей, а посадских почти не было, – все они разбегались, находя, что невозможно заниматься ни торговлей, ни ремеслом при постоянно возрастающих поборах. Причиной этих налогов была постоянная война на окраинах.
Посадские люди переходили на землю помещиков, закабаляли свой труд, а податей в городах собирать уже было не с кого; в казне чувствовался недостаток в деньгах.
Непривлекательные и неутешительные картины пришлось видеть Алексею и дальше, на Украйне, и на самой родине шляхтича, порицавшего так громко все русские порядки.
В древней русской столице Киеве, вновь оставшемся тогда уже за русским царем, полк, с которым шел Алексей, расположился на отдых; город был сильно разорен частыми нашествиями; теперь в нем был русский воевода, встретивший русское войско. В Киеве, на улицах, пестрели разнообразные одежды польских панов, евреев и других иноземцев; впервые видел здесь Алексей свободно выходивших по лавкам и на прогулку польских панночек в красивых платьях, обтягивавших стройный стан.
На улицах Киева стояло еще много развалин прежних домов, разрушенных и еще не поправленных вновь; русские воины пошли поклониться Печерской лавре и принять благословение митрополита; монахи имели унылый вид, – они жили постоянно в страхе, опасаясь новых нашествий и разгрома.
Храмы лавры, возвышаясь на древней Печерской горе, видны были из-за окружавшей их стены и сияли золотыми куполами; глубокий овраг, поросший лесом, теперь обнаженным, безлиственным, отделял от дороги старую Киево-Печерскую лавру; окружавшие ее стены местами были полуразрушены и примыкали к крепким, недавно восстановленным воротам; русские воины вошли в храм, и вместе с ними молодой Стародубский преклонился перед мощами основателя лавры, св. Феодосия; провожавший их монах провел их также к гробнице митрополита Петра Могилы, похороненного в Печерской лавре; возвращаясь к своим квартирам, русские любовались на город, лежавший у подножия Старокиевской горы; улицы постепенно понижались по ее скатам; нижняя часть города состояла в то время из бедных мазанок, наполовину разрушенных пожарами во время разгрома; в зимнее время сторона эта не представляла особенно живописного вида. Вернувшись в квартиру, Алексей наскоро пообедал и не ложился отдыхать по общему обычаю, но пошел осматривать город; он направился отыскивать в нижнем городе древний Братский монастырь с духовной академией, о которой он наслышался в Москве, где предполагали уже устроить такую же академию и школу для детей бояр и духовенства; монахи радостно встретили русского воина и боярина, всею душой радуясь, что были возвращены под защиту русского царя и его войска; здесь показали ему храмы, а ректор академии пригласил его осмотреть здание внутри. В обширной трапезной сидел Алексей, окруженный монахами; ректор и архимандрит монастыря расспрашивали его о вестях, касавшихся войны; вместе с другими рассказами о Москве, только что им покинутой, он мог сообщить им, что знал о намерении царя окончательно покорить Украйну, не доверяя более мирным договорам и лукавым обещаниям поляков; слова его вносили мирные надежды в их встревоженные и утомленные головы.
Разнообразные лица старцев, толпой окружавших пришедшего к ним русского боярина, представляли резкую противоположность с ясным лицом молодого Алексея, еще не ведавшего никакой печали, а их черные рясы оттеняли его цветную одежду, украшенную золотом; статные воины, ратные люди, нередко появлялись в Киеве и в стенах Братского монастыря, но не с таким мирным настроением, не с такими ободряющими речами, какие слышали они теперь о добродушии и набожности русского царя; дорога была им весть, что желал набожный царь навсегда освободить от власти католиков Киев и его святыню!
Алексей, с своей стороны, с любопытством выслушал из уст архимандрита историю учреждения Братского монастыря и академии. Краткий рассказ его открывал перед Алексеем те времена, когда сиротела православная церковь под польским владычеством.
– Тогда, – рассказывал Алексею архимандрит, – православные в Киеве учредили братства, по примеру других городов. Братства были уже во Львове, Вильне и других местностях. Главною целью их было давать религиозное воспитание, и Киевское братство основало свою школу и воспитало борцов в защиту православия; далее школа эта была обязана своим развитием митрополиту Петру Могиле, посвятившему себя служению православию и развитию школ; мы чтим память основателя нашего братства и молимся за него, – докончил набожно архимандрит, осеняя себя крестным знамением.
На следующий день, провожая выступавший из Киева, посланный вперед, сотенный отряд молодого Стародубского, монахи Братского монастыря надели на шею Алексея образок с изображением архангела Михаила, вырезанным на кипарисовой овальной доске, на тонкой серебряной цепочке немецкой работы.
Выступив из Киева, отряд Алексея повернул снова на левую сторону Днепра, направляясь к Переяславлю; невдалеке от него шел за ними другой отряд сотенного – боярина Стрешнева; оба отряда принадлежали к рейтарскому полку Шепелева; чем дальше продвигались ратные люди в глубь Украйны, тем реже попадались им города и селения.
Вокруг наших всадников тянулись пустынные степи, покрытые белой пеленой снегов, прочно залегших волнистыми холмами от горизонта до горизонта; редко попадались кое-где, по оврагам, небольшие поселки, хутора, обсаженные густо деревьями, которые раскачивали теперь по ветру свои гибкие вершины с тонкими, обнаженными ветками; близ хуторов подымались черные стаи воронов, громко каркавших; они долго следили за всадниками, садясь у них на перепутье. Очевидно, они усвоили себе привычку питаться около ратных людей и ждали добычи с их появлением; жители поселков местами прятались, местами, менее напуганные, с радостию встречали русских.
Резкий, пронизывающий холодный ветер несся по степи; отряды рейтар шли ему навстречу, нигде не находя глазом привычных ему на севере лесов, за которыми можно было бы укрыться от непогоды; только изменившееся с проходившим днем освещение разнообразило сплошную равнину; солнце то ярко освещало ее сверху, то спускалось ниже и на открытом горизонте бросало через равнину красноватые длинные лучи; они ярко освещали каждую былинку и каждое очертание появлявшегося предмета, был ли то высохший чернобыльник или всадник, – ясно видимо было и то и другое. В свете красных лучей перед заходом солнца на дальних холмах появилась вдруг тонкая черная линия и скоро явственно разделилась на отдельные точки; черные точки все вырастали, приближаясь, и русский отряд убедился, что к ним подъезжала густая толпа всадников; командовавший своей сотней Алексей приказал зарядить пищали и держать наготове копья; продвигавшиеся навстречу всадники засуетились, будто готовясь к атаке или обороне: то была шайка крымцев на легких татарских лошадях, выехавшая, как видно, на разведку; но убедясь, что отряд русских был многочислен и имел за собой еще другой отряд в подкрепление, татары повернули лошадей своих вправо, убегая по степи. Несколько рейтар не выдержали и бросились за ними; впереди них скакал, разгорячась, и молодой Стародубский; он уже нагонял одного отставшего крымца и в надежде взять его в плен, достать языка, нагнулся к седлу, вытягивая из-под него запасные веревки; зоркий неприятель уловил это движение и дал мгновенно выстрел по Алексею; к счастию боярина, прилегая к седлу, татарин целился невысоко; на выстрел его несколько человек рейтар ответили такими же близкими выстрелами, обратив его в бегство; но вся подоспевшая сотня рейтар уже окружила татарина, он был взят, и веревки Алексея пригодились; остальная толпа крымцев исчезла за холмами снегов.
– Поранили тебя, боярин? – спрашивал подошедший сотенный другого отряда, Стрешнев.
– Ничего, царапина, – отвечал Алексей подъехавшему боярину.
– Не след было тебе скакать вперед, – почто мой отряд позади оставил? – обидчиво заметил подоспевший боярин, не участвовавший в нападении. – А мне позади тебя быть невместимо; мой род по службе всегда занимал места выше твоего, а теперь нас сотенными равно поставили; да и ты все вперед скачешь, один раздаешь приказанья! – горячо выговаривал Алексею Стрешнев, задетый похвалами рейтар Стародубскому.
– На то начальство было, чтобы нас на места поставить, об этом прежде просил бы! – с укоризной обратился к Стрешневу Алексей.
– Посмотрим, что скажет на это Ромодановский, главный воевода! Я ему челобитную подам, – продолжал боярин Стрешнев.
– Воля твоя, боярин, а что будет, то увидим; а пока прикажи привязать крепче к коню татарина да веди его с собой, пожалуй, – говорил Алексей, еще не успокоившийся от перестрелки и вперивший в Стрешнева взгляд, чуть не метавший искры из разгоревшихся очей.
Несколько рейтар из отряда предлагали Алексею посмотреть его раненую ногу, но он не хотел терять времени и спешил ехать на ночлег, наскоро обмотав раненую ногу полотенцем.
– Ничего, царапнул только татарин, – говорил Алексей.
– То ничего, что царапнули, – то дурно, что ты один вперед скачешь, других позади оставил, кто познатнее… – снова начинал Стрешнев с недовольным, надутым лицом.
– Не время про то в походе толковать, боярин, – коротко отвечал Алексей, – не пропускать же мне неприятеля, поджидая тебя! – И он приказал своему отряду строиться и идти дальше на ночлег; пропустив вперед отряд Стрешнева, составлявший до этого арьергард, Стародубский повернул к первому большому поселку, лежавшему вправо от дороги, в лощине меж двумя холмами.
«Пускай идет себе со своею сотней в Переяславль, скорей доставит татарина, – думал Алексей, следя глазами за отрядом Стрешнева, – я позамешкаюсь, пожалуй, кружится голова…»
Отряд его подходил меж тем к поселку; на холме в стороне от улиц и изб видны были остатки строений, вероятно усадьбы польского пана, совершенно разоренной; можно было предположить, что усадьбу эту сожгли и разорили сами жители поселка, потому что их собственные избы стояли целехоньки; на длинной, просторной улице, около шинка, шумела собравшаяся толпа.
– Здоровы були, войско православное! – радушно заговорило несколько малороссов, выделяясь из толпы.
– Здорово! – отозвались рейтары, посмеиваясь их выговору.
– Посылайте своего старосту разместить нашу сотню на ночлег, – крикнул малороссам Алексей.
– И сотенный наш ранен, – сказал, выезжая, один из начальных людей.
– Того можно у нас оставить на вылечку, – отозвался голос из толпы.
– Укажите, где есть хата попросторней, да, может, на подводе придется его в Переяславль доставить, – говорил тот же рейтар. – Переяславль знаете?
– Как не знать! Мы вашему пану болярину Ромодановскому хлеб возим, сухари сушим и всякого провианта возим! – рассказывал словоохотливо высокий старик, державшийся так прямо и бодро, так лихо загнувший набекрень свою баранью шапку, что Алексей спросил его:
– Да ты сам не запорожец ли?
– Всего бывало, пан болярин, – заговорил он, обратясь к Алексею, – и запорожскому войску служили, и у ляхов панам, вместо волов, на себе плугом пахали, а теперь тут в овраге притаились, ждем: не будет ли лучше от милости русского царя!
– Господь поможет, так одолеем ваших врагов, и вас царь не оставит своею милостию, – ободрил старика Алексей, – а теперь поживей размести нам людей по хатам, покормите, мы заплатим!
– А кто же у вас ранен? – спросил старик, поглядывая на обвязанную ногу Алексея.
Алексей молча подъехал ближе к говорившему старику; хотя рана была не велика, но от скачки нога отекла и усталость одолевала Алексея; голова его отяжелела, а легкий озноб пробегал по нему при каждом более живом движении; он рад был отдохнуть теперь в хате этого старика; седой Пушкарь, как звали его в поселке, подошел к коню Алексея и поклонился, сняв шапку и переминая ее в руках; посмеиваясь, он ласково глядел в лицо Стародубского.
– Должно быть, старый вояка! – сказал он. – Может быть, еще с Вишневецким або с Богданом воевал, – говорил он, покачивая головой, все глядя на молодое лицо боярина.
– С Богданом не воевал, а с татарином привелось столкнуться в степи, его взяли живым, а ногу успел он мне оцарапать, – ответил Стародубский.
– Ну, давай проведу тебя под уздцы за твое лыцарство! – говорил Пушкарь. – Не побежал от татарина, ты, стало, вояка будешь, потому, кажешь, царапина, а из той царапины немало и крови вытекло! Ну, моя старуха да молодая тебе промоют ту царапину, им не в первый раз тем делом орудовать!
Разговаривая, Пушкарь вел за узду усталую лошадь Алексея; понурив голову, шла она послушно за ним вдоль улицы; им встречались толпы женщин и детей, собравшихся поглядеть на русских.
– Воины не в лаптях, таки ж чеботы на них, як и у нас, – скороговоркой сообщали друг другу женщины, прикрывая вполовину свои лица полой толстой серой свиты, сермяги, и глядя на рейтар.
– А сказали, что и нас всех в лапти они обуют, коли отымут у ляхов, – говорили другие.
– Так же врет народ, пугает! – толковал женщинам приземистый малоросс, стоявший в толпе между ними.
– Известно, паны, так и обуты! – заметил худой и длинный, с черными, как угли, глазками крестьянин с недовольным лицом. – Не то худо, что в лаптях они ходят, а то худо, что воевод своих к нам посылают.
– Болтай больше! А своих панов позабыл? – живо заговорила рядом с ним стоявшая баба. – Кто тебе шрам-то прописал через всю маковку? А и убил бы, так никому бы не ответил! А их воевода ж за кажну христианскую душу в ответе будет, – быстро отчитывала смуглая, сухощавая женщина, все мускулы которой шевелились заодно с вылетавшими у нее словами.
– Вот, жинки, кланяйтесь да скажите спасибо пану болярину, чуть було не убил за вас татарина, да живьем его взял! – шутливо вскрикивал перед толпой Пушкарь.
В толпе послышались одобрения и басом и визгливыми голосами женщин. Алексей и слышал и видел все как сквозь сон, опьяненный долгим вдыханием зимнего степного воздуха и разнообразием впечатлений; к тому же он чувствовал сильную боль в ноге и тяжесть в голове; убаюканный теперь и тихой ездой, и внезапно наступившими сумерками, он вслушивался в звонкие голоса и улыбался и толпе, и своему провожатому, не говоря ни слова; все молча достиг он, наконец, избы Пушкаря.
– Приехали, слава тебе Господи! Слезай с коня да иди отдыхать, болярин, – говорил Пушкарь, отворяя еще не запертые на засов ворота своего двора. Алексей въехал во двор, в котором, казалось, было много клетей и навесов, но не видно было ничего живого, кроме высокого и лохматого пса, вышедшего навстречу хозяину и мирно пропустившего Алексея, будто чуя, что он попал в милость; Пушкарь помог Алексею сойти с коня и постучался в окно своей хаты; невысокая женская фигура отворила дверь избы, и в полумраке сеней блеснули ее глаза и высокий белый лоб.
– Посылай нам Василя, та швыдче! – крикнул Пушкарь.
Из дверей избы вынырнул сухонький малый, лет семнадцати, и ждал приказаний, робко взглядывая то на Пушкаря, то на Алексея.
– Бери панского коня, дай ему корму. Да крепко запирай ворота: татаре недалеко от поселка… – сообщил Пушкарь.
Мальчик покосился как-то в сторону при имени татар и, нагибаясь, нырнул с крыльца, убегая исполнять приказание хозяина; сквозь отворенную дверь на входящих пахнуло теплым паром, и пламя горевших в печи сучьев осветило их лица.
– Здоровы були! – проговорила, встречая их, поднявшаяся со скамьи старуха. – Кого-то нам Бог посылае? – спросила она мягко; в голосе слышалось желание ласково принять гостя.
– Бачишь, що то не з Польши, а з православной стороны гости! Как тебя звать, болярин? – отнесся старик к Алексею с вопросом и поклоном.
– По имени зовусь Алексеем, а родом из бояр Стародубских, – назвал себя Алексей.
– То гарна кличка! – мягко смеясь, залепетала старая Олена, жена Пушкаря. – От старого дуба молодая ветка! Благослови ж вас, Господи Боже, щоб за правду и за веру стояли!
– Ну, швыдче, жинка, развяжите та огляньте болярину ногу: дорогой в степу татарин напал тай прострелил! – рассказал Пушкарь.
Выслушав сначала о нападении татарина, как о привычном случае, обе женщины с легким криком бросились к Алексею, услышав, что он ранен.
Пушкарь подвел его и усадил около печи на лавке, вероятно служившей кроватью для кого-нибудь из хозяев: на ней разостлан был толстый серый войлок и пестрые подушки; через минуту нога была развязана, тяжелый сапог был снят искусными, осторожными руками старой казачки Олены; молодая женщина исчезла на минуту и вернулась с большой миской тепловатой воды: на плече ее висели длинные ручники (полотенца), вышитые на концах узорными полосками, разноцветными нитками и шелками; молодая девушка держала миску с водой, пока старая Олена обмывала и потом перевязывала несколько припухшую ногу. Операция продолжалась довольно долго; Алексей терпеливо переносил осмотр, ничего не возражая на предложение Олены перевязать ногу чистыми полотенцами; он доверял опытности казачек, вечно окруженных битвами и привыкших к раненым. Алексей только с любопытством разглядывал лица и одежды казачек, следя за их ловкими движениями.
– Не глыбоко царапнули, – заявила Олена после долгого молчания, – скоро бы зажила, да разбередил дорогой; приложим своей примочки, да отдохнет пан дня три – и здоров буде! – заключила она веселым голосом.
– Нам завтра выступать нужно, – сказал Алексей.
– Ты, пан, сдал бы свою сотню кому из подначальных, нехай в Переяславль поспешают; а при себе оставь человек пять, я вас всех на повозках в Переяславль доставлю; и Василия возьму… – предлагал, как видно, опытный Пушкарь.
При словах его женщины тревожно переглянулись; Василий, сидевший у двери, потупился и опустил голову.
– Ко мне придут рейтары, – сказал Алексей, – трое поместятся на ночлег?
– Поместятся в кухне, через сени, – ответил Пушкарь, меж тем как женщины снова невесело переглянулись.
– Ничего не тронут у вас, не бойтесь! – успокаивал их Алексей. – Вы, верно, пуганые? – спросил он.
– Пуганы, пуганы, та и бояться перестали! – заговорила старуха веселее после утешительных слов Алексея. – Немало годов скитались мы по Украйне; годов двадцать прошло с тех пор, как первого мужа убили турки и дочь в неволю увели, еще при Богдане Хмельницком!
– Та не поминай старого, що прошло! – прервал Пушкарь жалобы жены. – Уж и дочь теперь стара була б; да и первого мужа нечего поминать, коли за вторым состарилась! Вот Богдана помянуть добрым словом можно! Коли б пожил, все бы нам устроил! – говорил Пушкарь, усаживаясь на кончике лавки подле Алексея.
– Что же он устроил бы? – спросил Алексей.
– Он хотел сразу всю Украйну русскому царю отдать; да царь тогда поверил ляхам, Богдан и остался як рак на мели, та по самой середине Днепра: ни к русским, ни к ляхам!
У ворот постучались рейтары и прервали разговор; Василий вышел отобрать у них коней и проводить их в хату.
– Размести их, старая, где знаешь! – приказал Пушкарь жене.
– Только одного при мне оставьте, как у нас водится, – проговорил Стародубский; вошедший солдат, поклонившись на образа, сел на лавке у самой двери; через несколько минут вошла молодая девушка с вопросом: не подать ли вечерети?
– Чи станешь, боярин, есть наш кулиш с салом? Горячий! – предлагала Олена. – А кроме и нет ничего; и за то благодарим Господу, кулиш все не палка!
– У нас часом всего много, а часом и нет ничего, и голодно! – рассказывал Пушкарь, пока молодая племянница его, Гарпина, как он звал ее, приготовляла все к ужину: – А что есть у нас, и то краденое: пшено выкрали мы из обоза проезжего, полякам везли; мы и отбили воза два, и кони у нас остались; а другой обоз повернули да весь целиком в Переяславль отправили, к вашему войску! – закончил Пушкарь.
На столе, покрытом белым рядном, готов был ужин, и кулиш дымился в большом глиняном горшке; вокруг него стояло несколько деревянных мисок и ложек, горстка соли была тут же насыпана на большом ломте пшеничного сероватого хлеба; боярин Алексей всматривался в лицо приносившей все Гарпины.
«Сухощава да проворна», – думал он.
– Дивишься на Гарпину? – спросил вдруг Пушкарь. – У нас все так, и от чужих не прячем; а идет дивчина по улице, и руки и ноги двигаются, и монисто на ней гремит, и очи на все стороны смотрят; а не верь им ни чуточки, болярин, оберут и выдадут!.. – усмехаясь, говорил Пушкарь.
– Вже! Чего не скаже! – вступилась старуха, жена Пушкаря.
– Родного брата дочка, и на ту наскажет, – отозвалась Гарпина, вскинув вдруг кверху свои длинные ресницы.
– Братова дочка, все не своя! – заметила старая Олена.
– Я б и всех жинок черту продал за бочку горилки! – весело проговорил Пушкарь, и обе женщины не могли не рассмеяться, зная его слабость к горилке.
– Принесу, принесу и горилки, не поминай только нечистого! – затараторила Гарпина.
– Обманешь, не принесешь! – пискливо крикнул Пушкарь; и пока Гарпина по всем углам искала обещанной горилки, он вытянул большую флягу из-под полы своей свиты и поставил ее на стол с сияющим лицом.
– Вперед стащил, та ще просит! – пропищала Гарпина нараспев, к величайшему удовольствию Пушкаря и рейтара, смеявшегося его ловкой шутке.
– Шо, человеку с нами можно пить или проводить его в кухню? – спрашивал Пушкарь, пытливо вглядываясь в глаза Алексея.
– Выпить прикажи здесь, боярин! – с поклоном обратился рейтар к Алексею. – А кормиться туда пойду.
– Прыткий, даром что русский, – проговорил Пушкарь, глядя на солдата, – тебя и Гарпина не обмане, а она самого беса спутает…
– Та ну, не поминай! – крестилась старуха.
Гарпина стояла молча среди хаты, скрестив полные руки; боярин мог хорошо рассмотреть лицо ее и щеголеватый наряд, державшийся в чистоте и красе, несмотря на все тревоги постоянной войны в их краю; и самая война помогала наживе тех, кто оказывался ловчей и хитрей других: на смуглой шее Гарпины обвились в несколько рядов кораллы и янтари; в ушах были у ней длинные подвески к серьгам, блиставшие цветными каменьями; узкая полоска красной шерстяной ткани лежала на голове, придавая ей еще более круглую форму, а черные глянцевитые волосы, разделяясь ровным пробором на высоком лбу, спускались и падали тяжелыми косами через худощавые плечи казачки.
Гарпина стояла молча и неподвижно, но в колебанье рук ее и плеч видна была непрерывная волна жизни.
– Побачь, болярин, вот наши дивчата! – с хитрой усмешкой говорил Пушкарь. – Стоит она смирно, в пол вросла, а вся движется.
– Правда, – ответил Алексей, тянувший в себя горячий и невкусный ему кулиш и медленно проглатывая его.
– Наша дивчина, что тополь или осина – без ветру дрожит; с того ли, что и деды и прадеды у ней дрожали перед турками та перед ляхами, или плясать хочет, – докончил Пушкарь, посмеиваясь на Гарпину.
– Кликнешь й, и готова! – отозвалась на шутку его Гарпина.
– А як сбежишь, так и не найдем, – насмешливо буркнула старая Олена, стоявшая у печи.
– Без коней не сбежишь, коли б повозка та кони, то и за Днепр можно б… – проговорила Гарпина полусерьезно.
– А есть у вас кони? – спросил боярин.
– Есть, одна шкапа на четырех… – засмеялась Олена.
– К одной и другую припречь можно, – проговорила Гарпина своим музыкальным напевом, всегда слышным в ее речи.
– Ступай, спи! – как бы сердясь, крикнул Пушкарь.
Когда Алексей положил на стол свою ложку и ласково кивнул хозяину, со стола прибрали; все скоро разошлись, попрятались по углам избы; только старый Пушкарь помогал еще рейтару устроить постель для Алексея на широкой лавке у печи; он принес соломы и войлок и приветливо пожелал боярину отдыхать спокойно; Алексей снял с себя верхнюю одежду, снял пояс, в котором хранился запас дорожных денег, и отдал на хранение рейтару; охотно вытянулся на соломе, покрытой войлоком, выправляя усталые члены и опустив на изголовье отяжелевшую голову; сон не замедлил овладеть им.
Проснувшись на другой день, молодой Стародубский попробовал приподняться, но голова его кружилась. Он чувствовал, что не сможет выступить в поход вслед за своею сотней и Стрешневым.
– Ничего, догоним! – успокаивал его старый Пушкарь. – Сегодня я обоз поджидаю: с мукой да с пшеном; повезу вашим, а вы с рейтарами проводите по степи.
– Это доброе дело! – сказал Алексей, радуясь, что день отдыха не пропадет даром и не останется без пользы для войска.
Пока он лежал, не подымая головы с подушки, старая Олена наложила ему на голову повязку с уксусом.
– Твоя старуха, видно, знахарка, – говорил Алексей, – словно мне легче от ее повязки.
– Ведьма, как все жинки, когда постареют! – проговорил Пушкарь, кивая Гарпине, рассмеявшейся тонким, мелодичным смехом.
– И ведьма в другой раз пригодится, – ворчливо заметила старуха.
День проходил своим порядком. Когда все разошлись по своим привычным делам, а рейтар вышел взглянуть на лошадей, старая Олена одна оставалась в хате с боярином. Она села у окна и, разматывая моток ярко-красной шерсти, ворчала про себя вполголоса:
– Ведьма! А коли б не тая ведьма, то и Пушкаря не було бы на свете. От турок и от ляхов спрятала его, раненого, как напали они на Киев, за то описля Пушкарь взял меня за себя замуж. Детей своих не було. Мальчика, шо зостался от первого мужа, в огонь ляхи бросили, нехай им так буде на Страшном Суде перед Господом. Як притихло все, Пушкарь взял к себе племянницу после вбитого брата, с Запорожья, а я Василя нашла, – в соломе лежал мальчик спрятанный, а чей – так и не узнали. Тольки я его годовала и годую як родного сына. А Пушкарь его невзлюбил и не любе, годуя свою Гарпину, и хоче увезти Василя за Днепр к казакам; а кто ж нас под старость кормить буде, коли доживем?
Старуха ворчала за кличку «ведьма», потрясшую и раздражившую ее. В досаде она выбалтывала и то, что старый Пушкарь таил глубоко в душе, прикрывая постоянно шутками и смехом. Но к счастью, больной Алексей простодушно слушал ее в полудремоте, как слушал, бывало, дома рассказы старца сказочника. Не знакомый еще со всеми сложными обстоятельствами края, он не соображал, куда стремился Пушкарь со своим Василем.
Василь был глуповатый малый с рыжими волосами, остриженными в кружок по-казацки. Широкое лицо, покрытое веснушками, полуоткрытый рот и недоумевающее выражение не придавали Василю ничего привлекательного. Алексей удивлялся старой Олене, видимо не любившей красивую Гарпину и влюбленной до слепоты в своего питомца Василя. Забалованный Василь не замедлил прокрасться в хату, ища прибежища под ее ласковым крылом. Вслед за ним снова появился Пушкарь.
– Вже около своий старой вороны прячется! – бесцеремонно сказал он, глядя на Василия и выгоняя его из хаты.
– Куда ты его гонишь? – вступилась старуха.
– Не гетманом ему быть! Нехай Гарпине поможе коней напоить, что приехали… – выронил Пушкарь последние слова.
– Нынче не знаемо, кто в гетманы попаде, – ворчала Олена. – Теперь у каждого свой гетман: у русских один, у ляхов другой, на Запорожье тоже.
– А еще за Днепром гетман… – отозвался вдруг, казалось, спавший Алексей, вспоминая вдруг рассказы киевских монахов. – А вы за каким гетманом считаетесь? – спросил он неожиданно, так что у Пушкаря задергались мускулы лица.
– Теперь пока служим вам, русским, так считаемся за русским гетманом Самойловичем, – с серьезным видом ответил Пушкарь.
– А як завтра наедет Дорошенко, так и Бог знае, за кем будем, – сердито проговорила старуха.
– А типун тебе, старая! – крикнул сердито Пушкарь. – Ходы та дай чего-нибудь поисты, и болярин с утра ничого в рот не брав!
– Ничего не надо, – проговорил боярин.
Но старуха поспешила скрыться с глаз Пушкаря, напугавшего ее своим окриком. Пушкарь вышел за нею осторожной, кошачьей поступью, и скоро по уходе его в комнату вошла Гарпина с большой миской теплого молока и ломтем пшеничного хлеба на глиняной тарелке. Гарпина ласково нагнулась над боярином и предлагала ему хлебнуть молока. Этот голос, звучавший, как бежавший на солнце ручей, вызвал улыбку Алексея; он с минуту смотрел ей в лицо, не отвечая. Она приблизила миску к его губам, он поневоле втянул в себя несколько глотков теплого молока, и приятно согретая грудь глубоко вздохнула.
– Як тяжко, – проговорила Гарпина, – тебе меж чужими! Може, и маты дома зосталась? – спрашивала она, и сиявшие глаза заволокло туманом.
– Отца оставил, – проговорил слабым голосом Алексей.
– Ба-а-тька! – нараспев протянула Гарпина. – Кто ж там тебе годував? От теперь я тоби за неньку стала, – прибавила она, ласково улыбаясь и вся встряхиваясь, как осинка на ветру; и снова приложила к губам Алексея миску с теплым молоком.
– Довольно, благодарствую, – проговорил Алексей, глубже опуская усталую голову на подушку.
Она отошла, оставила миску и хлеб на столе и села под окном; солнце ярко осветило ее повязку и черные волосы, густой румянец тепло разливался по ее щекам, она глядела на кого-то через окно и задумалась.
«Чудно… – думал Алексей, – словно мальчик смела, а ласкова как родная мать».
Долго лежал он, задумавшись, пока глаза его не сомкнулись, отяжелевшие веки опустились и он был объят крепким, глубоким сном. Его снова пробудили какие-то непонятные звуки; вслушавшись сквозь дремоту, не открывая глаз, он различил пение: то была незнакомая, но сладко убаюкивающая песня; Гарпина пела, сидя у того же окна. Алексей силился взглянуть, хотел окликнуть ее, но дремота владела всеми его членами, и под звуки песни он снова впал в сон. Уже солнце слабо светило по-вечернему, когда рейтар вошел в хату к боярину. Алексей проснулся и легко поднял голову. В избе он уже не видел никого, кроме рейтара. Алексей, освеженный долгим сном, попробовал приподняться и совершенно встал на ноги; он чувствовал сухость в горле и жажду и, приблизясь к столу, допил молоко, оставшееся в миске.
В окно, ведущее на улицу, Алексей увидел обоз, остановившийся около хаты Пушкаря; в хату доносились крики, и сам Пушкарь похаживал тут со своей люлькой в зубах. Алексей глядел на все молча, что-то соображая.
– Не наш ли обоз? Да и лучше бы скорее! Кликни Пушкаря, – приказал он. – А что, наши кони отдохнули?
– Кони оседланы, боярин, двое наших так и стояли подле них все утро. Ждали, не проснешься ли, не спросишь ли коней.
– Хорошо придумали. Жаль, что напрасно мерзли! А кормили вас сегодня? – спросил боярин.
– Как же, обедали, нечего жаловаться, кормят здесь по-христиански: каша хоть и белая – все ж не сухарь! Вот только табак их противный, это уж турецкий грех к ним пристал! – говорил рейтар.
– Позови Пушкаря да скажи, чтобы сюда со своею люлькой не приходил, – с таким же отвращением высказался Алексей против табака.
Пушкарь явился на зов Алексея, спрятав люльку в карман своих обширных шаровар. Он остановился на пороге, улыбаясь и приподняв высоко над головой свою обложенную бараньим мехом шапку, пристукнул каблуком длинного, выше колен доходящего сапога.
– Вже и готов, и здоров? – спрашивал он удивленно.
– Здоров и в поход тороплюсь, пора! Ты всю семью везешь в Переяславль? – спросил Алексей.
– Всю, – отвечал Пушкарь, – там буде спокойнее.
– На русских можете положиться, полковник распорядится, будьте надежны! – уверял боярин.
– Вот спасибо! А обоз видел? Все мука, та каша, та сухари пшеничные и сало! Все у ляхов отбили наши молодцы казаки, и прямо в ваше войско везем, – рассказывал Пушкарь, надвинув брови к глазам и глядя в окно, будто видел весь обоз.
Алексей суетился около окна, осматривая, велик ли обоз. Он медлил выйти наружу, все расспрашивая Пушкаря, и радовался, что поможет свезти все это к войску.
– Когда ж вам можно ехать? – спросил он Пушкаря.
– Хоть сейчас. Коли ты, болярин, готов, то и у нас все готово!
– Так собери людей и давай пояс, – приказал Алексей рейтару.
– И наших немало при обозе, – сообщал Пушкарь таинственно, нагибаясь к боярину, – человек двадцать, есть кому обоз защитить.
Через полчаса, не больше, все было готово. Василь в бараньей шубе и высокой казацкой шапке держал коня Алексея, который стоял меж тем подле саней Пушкаря, куда усаживались Олена и Гарпина. На облучок саней готовился сесть молодой казак лет тридцати, высокого роста и красивый. Он с любопытством разглядывал русского боярина и его рейтар. Глаза казака искрились таким же весельем, как и глаза Гарпины. Так показалось Алексею.
– Моих повезет родич, казак Волкуша. Кланяйся, Волкуша, русскому болярину! – говорил Пушкарь.
Казак медленно снял шапку и также медленно поклонился Алексею. Осип Волкуша был простой реестровый казак из окрестностей Киева, по словам Пушкаря; по одежде он не походил на запорожцев; но и в простой, грубой сермяге он имел вид очень воинственный. От женщин он держался поодаль, хотя Пушкарь и называл его родичем. Изредка повертывал он голову в сторону Гарпины, голова которой была так укутана в пунцовый шерстяной платок, что виднелись только одни глаза, которые искрились и глядели очень весело. Алексей стал впереди обоза с двумя рейтарами, двух еще оставил в конце обоза в виде арьергарда, и обоз двинулся. Медленно шел он по степи, так ярко освещенной солнцем, что не раз Алексей жмурился и закрывал глаза от всюду сияющих искорками снегов. Худые казацкие лошади неохотно тащили возы с тяжелой клажей, оставляя следы копыт в рыхлом снегу; почти к ночи пристали они с обозом к небольшому поселку, по дороге, указанной им Пушкарем. Весь обоз поместили под длинным навесом сарая на постоялом дворе еврея, который из осторожности выдавал за хозяина этого двора одного из казаков поселка. Евреям приходилось выносить жестокие притеснения от поляков и от самих казаков в эти прошлые годы; и те и другие одинаково грабили и жгли их. С приходом русских евреи смелее начали показываться на свет Божий, но скрывали свои деньги.
Алексей вошел в просторную избу постоялого двора и спросил чего-нибудь на ужин. Хозяйство велось на польский манер, и Алексею предложили выпить сначала кофе, к которому он начал уже привыкать, проезжая по городам, бывшим недавно под властью Польши. Семья Пушкаря тоже вошла в избу; обе женщины, кланяясь, подошли к боярину и спросили о его здоровье и не нужно ли перевязать его «царапину». Они называли так его рану, подражая ему. Обе женщины выказывали большое участие; они давали ему советы и на будущее время, на случай, если его снова когда-нибудь ранит. Старуха толковала, как ему следовало запастись перевязками и нащипать тряпья (корпии), чтобы было чем тотчас же заложить ранку. Участие старой Олены могло быть и с расчетом на покровительство русского боярина; но молодая казачка Гарпина смотрела на Алексея с неподдельной добротой и даже с некоторой жалостью. Она обещала ему наготовить для него перевязок и тряпья, как только они приедут к себе на место, и отказалась принять от Алексея какое-нибудь вознаграждение.
На другой день вечером обоз подъезжал к Переяславлю; он счастливо миновал опасные места, нигде не навлек на себя подозрений местных властей. По дороге встречались иногда гонцы из русского войска, встречались посланные по делу дьяки городских воевод, но никто ни разу не спрашивал, чей это был обоз и куда он направлялся, потому что видели его под охраной русских рейтар. Не доезжая до Переяславля, почти в виду его, Пушкарь подошел к Алексею и просил его дозволить обозу отделиться от рейтар.
– До города и недалеко, да дорога тут тяжела, и скользко будет въезжать в город. Я останусь под твоей защитой, представлюсь скорее перед воеводой; а Волкуша пойдет с обозом в объезд; их, вишь, сколько народу, здесь близко от города, им не опасно. Они и заедут там, подальше в город; там дорога повернее будет.
Ни Алексей, ни рейтары не удивились такой просьбе и считали уже свои обязанности по охране законченными, так как город, где расположено было русское войско, лежал в одной версте перед ними.
Пушкарь, проводивший обоз и семью на другую окольную дорогу, сам не отставал от Алексея и ехал с ним рядом, верхом на лошади, взятой им из обоза.
– Вот як у нас города растут, – говорил он Алексею. – Переяславль недавно только сожгли весь, а он опять, как молодая трава, из земли вырос! А сколько тут было крови пролито! У нас степь и на солнце не высыхает: то поляки, то турки ее кровью казацкою поливают! – говорил Пушкарь с горькой усмешкой и задумчиво поводя головой.
– Да и казаки ваши немало помогали басурманам христианскую кровь проливать, – заметил ему Алексей, следя глазами за обозом, медленно исчезавшим за поворотом около города, и различая еще сани, в которых сидела семья Пушкаря. Боярин был не в духе, он уже жалел, что отпустил обоз в сторону; лучше было бы самому довести его через город к воеводе и к войску.
– Что делать, – продолжал Пушкарь, – заварили ляхи похлебку, пришлось ее казакам хлебать! И добро наше и веру – все отнять пожелалось им, не доставайся же никому родная земля! Чем так жить за ляхами, так помирать лучше, думали казаки; ну и расходились так, что никак не уймутся! Хоть и есть другая дорога, а на ту ступить страшно, не верят!
– Сами же вы под высокую руку русского царя отдалися, так надо одного его держаться и верить! После того что поклялись и присягали, греха вы не боитесь опять изменять своей присяге! – горячо и искренно толковал Алексей и представлял все Пушкарю, как ему самому представлялось их дело.
– Так уж почти целый век дело ведется: народ обманывали, и народ привык обманывать! Пока был у нас Богдан, ему все верили. А как начали у нас по три гетмана назначать, так не знают, кому и верить. Может, и нашелся бы человек, что всей душой пожелал бы казакам лучшей доли, да и тому побоятся верить! Старое помнят; тянет их на Запорожье, где прежде жилось на воле! – проговорил в ответ ему Пушкарь.
– И ты помнишь старое? Бывал и ты на Запорожье?
– Там и вырос! Оттуда ходил с Богданом Хмельницким на ляхов; с ним был, когда разбили мы польских панов и города забрали многие, взяли и Корсунь! Давно то было, как ходили запорожцы с Богданом на ляхов, под Збаражем, около Зборова: тут-то Богдан да вместе с крымцами избил было ляхов вконец! К самому королю подходили, да крымцы нас тогда продали; с ляхов денег много взяли, и Богдана продали! Хан крымский помешал. Ну, все же тогда много льгот казакам выговорили и много городов у ляхов отобрали!
– Куда же вы потом шли? – спрашивал Алексей.
– После того в Киеве нашего гетмана с колокольным звоном встречали, духовенство шло навстречу, сам митрополит принимал его за то, что отстоял свою веру против латинской! Тогда было русским послушать Хмеля, Богдана, тай не мириться с ляхами! За Богданом тогда вся бы Украйна пошла к вам, а теперь и казачество на части раскололось. Як тий лед, шо таять начал! А прежде сплошной был! – закончил Пушкарь.
– И теперь не ушло время всем вам заодно покориться русскому царю, – толковал ему боярин.
– Поживем, так увидим, что будет; кто потопае, той и за бритвы хватае! – проговорил Пушкарь.
Они въехали в город и по улицам Переяславля, вновь застроенного чистыми домиками и белыми мазанками, подъезжали к главной квартире, где стоял начальник войска.
– Вот ты и дома, боярин! – обратился к нему Пушкарь. – Спасибо, что проводил нас, небогих! – проговорил он с обычной своей усмешкой и снимая шапку с глубоким поклоном. – Ты пока пойдешь докладывать о себе начальству, а я поскачу повстречать обоз…
– Куда же ты?.. – заговорил было Алексей, но пока он опомнился, Пушкарь был уже далеко от него. Указывая протянутой вперед рукой, что он едет в сторону, направо, и весело кланяясь, он исчез на повороте тянувшейся перед ним улицы. Алексей посмотрел ему вслед, потом обернулся взглянуть на рейтар. Рейтары как бы ждали от него приказаний. После минутной нерешительности Алексей приказал:
– Слезайте с коней! Да один оставайся здесь, посматривай, не едет ли обоз! – И сам сошел с коня и направился отыскивать воеводу Ромодановского или своего начальника Шепелева.
В главной квартире он узнал, что все выехали за город, где Ромодановский смотрел пришедшие на помощь ему полки. Вернуться должны они были не ранее вечера. Алексей остался около главной квартиры, поджидая появления обоза. Но ни обоз, ни Пушкарь не появлялись более ни в этот день, ни во все последующие дни.
Когда Алексей представился полковнику Шепелеву и помянул, что он провожал сюда обоз с припасами, то Шепелев спросил его удивленно:
– Откуда Господь послал?..
– Обоз вел старый казак, что поставляет припасы на русское войско. Он просил на этот раз проводить его, зная, что татары гуляют по степи.
– Как зовут казака? – спросил, вмешиваясь в разговор, старый ротмистр, давно проживавший в Переяславле.
– Его зовут Пушкарь, – ответил Стародубский.
– Пушкарь?.. Такого казака не знаем, – проговорил ротмистр.
– Смотри, боярин, не надул ли кто тебя? Не пошел ли тот хлеб к запорожцам? – спросил Шепелев, сомнительно поглядывая на всех присутствующих.
– В избе у этого казака я два дня лежал больной, там перевязывали мне раненую ногу и ходили за мной, как за родным сыном, – смущенно рассказывал Алексей, сам начиная терять доверие к Пушкарю.
– Благодари, что не обобрали и не убили тебя, боярин! Тут у них все так бывает: нынче вам служат, а завтра оберут вас для своих запорожцев! – смеясь, говорил ротмистр, самодовольно потряхивая русыми волосами с проседью.
– Ну, не смущайся, боярин Алексей Никитич! Может, и пришлось тебе чужим помочь, зато от татарина, что ты взял в плен, узнали мы добрые вести. Ты в недолгое время, боярин, успел и под пулю попасть, и языка достать, из тебя воин будет настоящий! – утешал Шепелев смутившегося Алексея.
– А боярин Стрешнев не вчинял против меня дела? – решился спросить Алексей.
– Сотенный? Ну, я потолковал с ним, чтоб он таких дел в полку не заводил и местами не считался. И в мирное время некогда этот вздор разбирать, да и в разрядных книгах искать, чей род и сколько мест занимал служебных и кому следует быть по службе выше, а теперь нам и совсем не о том надо думать. Ступай отдыхать, боярин, считай дело оконченным; я челобитной его не принял. И бесчестья тут нету. Если придется тебе в походах и впереди быть, и выше старшего в роде занять место, – так тут не Москва и то не на царском пиру! Лишь бы везде поспевать вовремя. Да и род твой был всегда повыше других, считая по служебным местам, – докончил Шепелев, отпуская Стародубского[7].
Алексей весело поклонился начальнику и пошел искать квартиры, на которых разместили его рейтар.
Прошло много времени, но ничего не было слышно об исчезнувшем обозе. Пушкарь пропал также бесследно со своей семьей. Среди нового дела, новых забот по службе и предстоящих опасностей Алексей не мог забыть этого обмана. Теперь ему казалось, что обе женщины ухаживали за ним недаром, а старались обойти и заговорить его. Гарпина даже укачивала, убаюкивала его своими песнями, чтобы не допустить его осмотреть обоз. И что за молоко давала она ему, так клонившее его в сон? Говорят, они поят так малых детей молоком из маку, чтоб усыпить их… Даже краска пробивалась на щеках Алексея и жгла их внезапным румянцем, когда он вспоминал о своем излишнем доверии.
К тому же бывшие при нем рейтары выбалтывали его приключение, и в полку молодые бояре посмеивались над ним, поминая ласковых казачек.
– Не назвал бы его Шепелев молодцом, когда бы ведал о том! – говорили они.
Однако скоро все было позабыто перед новыми событиями войны. Взятый Алексеем татарин заявил, что толпа их выслана была запорожцами высмотреть, велико ли войско, шедшее на помощь русским. Он сообщил еще, что на правом берегу Днепра начинались раздоры и несколько казацких полков желали перейти к русским по наущению гетмана Ханенко.
– Бот какие вести! Только можно ли доверять этим казакам? – толковали русские воеводы, полковники и сотенные, собравшиеся на совещание перед квартирой Ромодановского.
– Что за гетман Ханенко? Где он? – спросил Алексей, еще не знакомый с местными делами.
– Ханенко недавно был на стороне поляков, а теперь напрашивается к нам, – объяснил ему Шепелев. – Гетманом его выбрали полки казацкие, отшатнувшиеся от Дорошенко, а поляки взяли его под свое покровительство.
– Дорошенко ведь тоже не раз уже просил принять его в русское подданство? – заметил один из сотенных.
– Он слишком много захотел! – сердито отозвался Шепелев. – То обозлился за наше перемирие с Польшей и бросился звать на помощь турецкого султана, а теперь, как видит, что уже немного полков на его стороне остается, так и он тянется к русским. Только отдается с таким договором: чтобы быть ему одному гетманом всей Украйны да чтобы не было и русских воевод в их городах! Что ж это за подданство будет? – спрашивал Шепелев, сердито всех озирая.
– Про то мы ничего не знаем, про то ведает Бог да великий государь! – ответил один из старых бояр.
– Та же вольница будет! – заговорили другие воеводы и бояре, присутствовавшие на совещанье.
– Прежде резали польских панов, не хотели быть холопами, теперь не хотят русского управления, не хочется им податей платить! – продолжал горячиться Шепелев.
– Посмотрим, что скажет их Ханенко, – прервал его воевода Ромодановский, – говорят, он скоро явится для переговоров.
– Да что еще скажут нам из Москвы; воля государева – воля Божья! – отозвались бояре.
Алексей внимательно слушал это совещанье бояр, когда один из подошедших рейтар слегка дотронулся до рукава его ферязи и мигнул на ворота широкого двора.
– Что там? – тихо спросил его Алексей. – Неужели? – мелькнула в уме его мысль о Пушкаре.
Медленно отделился он от толпы совещавшихся и повернул налево к воротам. Он увидел, что тут, прижавшись к толстому столбу, на котором держался навес над воротами, почти спрятавшись за этот столб, ждал его какой-то небольшого роста человек в серой свите и измятой шапке.
Он робко протягивал Алексею какой-то узелок. Вглядевшись в него, Алексей узнал Василя и вместе с поданным узлом схватил и его протянутую руку, желая задержать его. «Выдать?.. Жаль, – быстро пробегало в голове Алексея, – промучают, допытываясь об обозе».
– Я не отпущу тебя! – погрозил он, однако, Василю. – А где Пушкарь?
– Все с обозом в Чигирин убегли. Меня прогнал Пушкарь: иди, каже, к русским. А Олена та Гарпина узел тоби прислали, то тряпье и перевязки.
Снова доброе чувство шевельнулось в Алексее, но недоверие мешало уже этому чувству. Он раздумывал: «Выдать ли Василя? Наказать ли или накормить его, как кормили самого боярина в семье Пушкаря?»
– Возьми меня к себе, пан боярин! – просил Василь. – Я тебе верно служить буду, и коня кормить и чистить, и куда пошлешь – сбегаю!
Несколько минут слушал его Алексей в раздумье. На что ему Василь? Разве чтобы расспросить его об обозе или о семье Пушкаря.
– Отведи его ко мне на квартиру, – приказал он вдруг рейтару, – и запри там, не то уйдет! «Все они, говорят, обманщики, – думал он про себя. – А хорошо бы разведать от него все и передать боярину Ромодановскому. Правда ли, что Пушкарь в Чигирине?» – размышлял Алексей.
7
Старшинство рода считалось на службе по количеству и значению занимаемых мест в прошлом и по положению и по старшинству в семействе какого!либо лица.