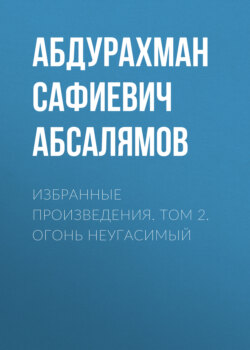Читать книгу Избранные произведения. Том 2 - Абдурахман Абсалямов - Страница 3
Часть первая
Глава вторая
Оглавление1
– Ладно, Оленька, я пошёл. Ты уж будь того… готова. Если что – с работы прямо гуртом…
Смахивая маленьким камышовым веничком пыль с костюма мужа, Ольга Александровна говорила:
– Не волнуйся, Мотенька. Не впервой ведь привечать мне гостей. Только вот солёных грибков нет у меня. Сегодня ночью вспомнила, – Хасан, бывало, очень их любил. Ну, да на колхозный базар сбегаю…
Матвей Яковлевич поцеловал свою старуху в лоб и по-молодому, лёгким шагом спустился с крыльца.
Стояло прекрасное солнечное утро. Асфальтовые тротуары ещё не совсем просохли от прошедшего ночью дождя. Воздух чистый, ни пылинки. Матвей Яковлевич глубоко-глубоко вздохнул. И его натруженная грудь, показалось ему, вобрала в себя с этим вздохом не прохладный чистый воздух, а блаженное чувство бездумной радости. Он весь приободрился. В суставах не чувствовалось никакой скованности. Он словно помолодел. И захотелось ему поскорее увидеть Хасана… Хасана Шакировича… увидеть и обнять вот на этой солнечной улице, на виду у всех.
Поглядывая по сторонам, он шагал легко, точно окрылённый, и вдруг заметил посередине чистого, залитого солнцем тротуара багряный дубовый лист. Матвей Яковлевич остановился, поднял лист, на котором бисеринками блестели капельки росы, и тотчас вспомнилось ему детство, слепой скрипач Хайретдин, дед Сулеймана, любивший распевать удивительные баиты[6] о рубщиках дуба – лашманах.
На босоногого русоголового парнишку, понимавшего немного по-татарски, производили впечатление не столько слова, сколько леденящий сердце напев, который лился из полураскрытых уст слепца, напоминая бесконечное завывание осеннего ветра. И мальчику начинало казаться, что дедушка Хайретдин не поёт, а плачет, но только без слёз. А в груди старика гудят, шумят, как дубы в ветреный день, гнев и ропот сотен тысяч обойдённых жизнью, обездоленных людей, чьи кости гниют в тех дремучих лесах, о которых поётся в баитах.
На ярмарке Ташаяк и без дедушки Хайретдина было много калек-татар, распевавших песни о старине. Но они пели баиты про бог весть когда живших турецких султанов да ещё про какие-то балканские войны. А дедушка Хайредтин пел о местах, которые ребятишки знали как свои пять пальцев и на которых они жили сами. Поэтому, сбившись в тесный кружок, они часами простаивали возле дедушки Хайретдина, что сидел, поджав под себя ноги, в замасленной приплюснутой тюбетейке и чёрном, надетом поверх длинной белой рубахи камзоле. Они бережно опускали в его кружку гроши, что бросали ему сердобольные прохожие.
…Когда-то вокруг Казани шумели столетние дубы. Но вот по указу царя Петра в Казани было учреждено Адмиралтейство. Решено было строить свои корабли. Народ погнали валить столетние дубравы. За каждое клеймённое царскими «вальдмейстерами» дерево лесорубы отвечали головой. Если такой клеймёный кряж пропадал или повреждался, виновным отрезали носы, уши, нещадно били палками, а то и казнили. Так был казнён дед Хайретдина, батыр Рамай. Чтобы спасти жизнь другу, которого придавило дубом, он осмелился перерубить пополам клеймёное дерево. Говорили, что после смерти Рамая друзья в память о нём посадили на берегу Волги на самой высокой горе молодой дуб. Говорили, что дуб этот по сию пору стоит цел и невредим там, на берегу. Будто вершина его ушла под самые небеса, и будет он стоять вечно, потому как нет такой пилы, которой можно бы спилить его…
Сколько мечтали Матвейка с Сулейманом разыскать этот дуб! Дедушка Хайретдин говорил детям: «Кабы не был я убогим слепцом, показал бы я вам этот дуб… Не дал мне Аллах такого счастья. Об одном жалею: умру я скоро, а ведь, кроме меня, никто не знает места, где стоит тот дуб-великан!..»
Матвей Яковлевич ещё некоторое время рассматривал поднятый с дороги лист, потом, смахнув концом рукава росинки, положил в карман. «Покажу Сулейману», – мелькнуло у него.
Этот багряно-жёлтый лист сверкнувшей молнией осветил далёкое детство, и внезапно всплывшие из бездонного омута памяти воспоминания разбередили старику душу. Вдруг как-то удивительно свежо вспомнилось, что в то время всем в Заречной слободе – чесальными, прядильными, ткацкими фабриками, кожевенными, металлообрабатывающими заводами, шорными, обувными мастерскими, даже баней, даже жилыми домами – всем распоряжались хозяева или их спесивые управители. Рабочий люд и воздухом-то дышал вроде как с опаской, потому что, казалось, сам воздух в Заречной слободе принадлежит баям. Улицы, переулки, лавчонки, парки носили имена баев или уродливые, наводящие грусть названия, рождённые безрадостным существованием под их безграничной властью. Единственный в слободке сад и тот назывался «Садом горя».
Когда Матвею исполнилось тринадцать лет, он пошёл работать на завод Ярикова, что стоял тогда на краю зловонного болота. Ему повезло. Его приставили учеником к отцу, который работал там токарем.
Из рассказов старых рабочих и отца Матвей Яковлевич узнал позднее, что завод этот, нынешний «Казмаш», начали строить ещё во времена Севастопольской кампании. Принадлежал он тогда то ли деду, то ли прадеду Ярикова, а может, кому другому. Разное говорили.
Матвей Яковлевич пришёл сюда приблизительно спустя пятьдесят лет со дня основания завода, а он всё ещё походил на небольшую мастерскую. Всё его оборудование состояло из единственной паровой машины в шестнадцать лошадиных сил, трёх вагранок да двух-трёх десятков станков.
В то время завод строил небольшие суда, производил ремонт на них, выполнял заказы казанских промышленников на литьё и металлообработку. К концу девятнадцатого и началу двадцатого века его уже стали называть «Меднолитейный», затем «Кузнечно-котельный». Завод много раз переходил из рук в руки. Хозяева менялись, но ни один из них не интересовался расширением завода, тем более никому из них не приходило в голову позаботиться об улучшении положения рабочих.
Нахлынувшие воспоминания не могли, однако, целиком захватить Матвея Яковлевича, – мысли его были заняты близкой встречей с Хасаном.
В небольших садиках в глубине дворов и сегодня можно было увидеть яблони в цвету. Под розовыми лучами утреннего солнца они выглядели сегодня уж не такими жалкими, поникшими, как вчера. Казалось, каждый листочек, каждая веточка трепещут от наслаждения, приветствуя солнце и разливаемое им тепло.
Девушки из заводского общежития, взявшись за руки, с песней шли посередине мостовой. В кудрях нарядчицы Шафики, шагавшей в центре, – за рыжие волосы молодёжь прозвала её пламенной Шафикой – торчал белый цветок. «Ох, опалит ещё, чего доброго, своим пламенем бедный цветочек, – улыбнулся себе в усы Погорельцев и, покачав головой, подумал: – Уж не из-за этой ли девушки вошёл бес любви в Баламира?»
Дойдя до угла, Матвей Яковлевич остановился. Здесь уже было многолюдно, шли поодиночке и группами все в одну сторону – к заводу. Троллейбусы и автобусы были набиты битком.
– Матвею Яковлевичу салям! – долетел до его ушей радостно-возбуждённый голос.
Старик вздрогнул: «Неужели?» Нет, не он… С той стороны улицы Матвею Яковлевичу, приветствуя его, махали рукой начальник механического цеха Назиров и старший мастер Надежда Николаевна Яснова… Старик поздоровался с ними, приподняв кепку. Вскоре его окликнули вторично, старик опять вздрогнул. На сей раз был вахтёр Айнулла. Поглядывая снизу вверх, он протянул Погорельцеву обе руки и, сказав, что торопится, засеменил вперёд.
Вдруг раздалась полупьяная песня. Матвей Яковлевич обернулся на голос и увидел в толпе наладчика Ахбара Аухадиева. Тот шёл в одной майке, засунув руки в карманы залепленных грязью брюк. Всё лицо у него было в синяках, давно не чёсанные волосы торчали во все стороны, глаза налиты кровью.
– Матвею Яковлевичу моё почтение, – проговорил, подойдя ближе, Аухадиев и, кривляясь и гримасничая, склонил голову.
– Кто это тебя так разукрасил, Ахбар? – спросил Погорельцев, недовольный тем, что этот пьяница портит своим безобразным видом такое прекрасное утро.
– Бутылка! – зло посмеиваясь, ответил Аухадиев. – А что… Всё равно не ценят. Слышал, как вчера начальник цеха… Кому они нужны, золотые руки Аухадиева… всё на свете меняется, а правда, она всегда остаётся правдой.
Эту фразу Аухадиев любил повторять и в цехе, и на собраниях, и на улице. Но трудно было уразуметь, что он хочет сказать этим. Не раз допытывался Матвей Яковлевич у Аухадиева: «О какой это правде ты всё толкуешь, Ахбар Валиевич?» Но Аухадиев отделывался неопределённым: «Правда у рабочего человека одна».
Аухадиев был одним из лучших наладчиков механического цеха. Вчера только он наладил и пустил на полный ход шлифовальный станок новой, незнакомой конструкции, над которым молодые наладчики безуспешно бились чуть не целую неделю. В другое время Погорельцев не отпустил бы от себя Аухадиева в таком виде, но сегодня он почувствовал облегчение, когда тот смешался с толпой.
Сейчас рядом с ним шагал долговязый Баламир. Хотя он вышел из дому гораздо позднее, легко догнал Матвея Яковлевича.
– Давно пора выгнать с завода этого пьяницу, – потянув носом воздух и морщась, сказал Баламир. – Позорит весь коллектив.
Погорельцев пошевелил кончиками усов, посмотрел на Баламира.
– Выгнать недолго… А дальше что?
– Насчёт этого пусть сам думает. Зачем пьёт? – отрезал парень.
И опять Матвей Яковлевич шагал молча, заложив руки за спину, зорко посматривая по сторонам – не покажется ли среди народа Хасан Шакирович.
– Здравствуйте, Матвей Яковлевич, – раздался чуть не под самым ухом Погорельцева звонкий девичий голос. Он увидел в группе школьников Нурию, младшую дочь Сулеймана. Как и все Уразметовы, Нурия с её иссиня-чёрными волосами и смуглым лицом походила на цыганочку. Матвей Яковлевич любил эту шуструю смуглянку. Приветливо поздоровавшись с ней, он спросил:
– Отец что, ещё дома задержался?
– Нет, сзади идёт, – показала Нурия рукой на переулок.
Матвей Яковлевич решил дождаться приятеля. Ещё издали заметил он в толпе кривоногого, широкоплечего, приземистого Сулеймана, его чёрные густые усы. Во взгляде, в движениях его сквозили сила и весёлая бодрость, хитрость, и гордость, и, несмотря на возраст, какая-то бесшабашность. Сулейман тоже заметил Матвея Яковлевича и, ускорив шаг, заспешил к нему.
– Жив-здоров? – густым баском крикнул он ещё издали. – Сегодня раньше обычного, га?
– Утро-то какое чудесное! – проговорил в ответ Матвей Яковлевич, пожимая его твёрдую, как железо, руку.
Сулейман покосился на Погорельцева: «Был у них Хасан или нет?»
Матвей Яковлевич, в свою очередь, с той же целью некоторое время приглядывался к нему. Не сделав никакого определённого вывода, он вынул из кармана дубовый лист и протянул его Сулейману.
– На тротуаре нашёл… Помнишь баиты твоего деда?
У этих двух стариков, совершенно не схожих характером, была одинаково свойственная обоим привычка. Они никогда не торопились делиться новостями или происшедшими в их жизни важными событиями. Они, прежде исподтишка понаблюдав друг за другом, разведывали настроение и только после того, посмеиваясь и по-мальчишески похлопывая один другого по плечу, говорили: «Ну, ну, рассказывай, не морочь голову, уж вижу, вижу, что невтерпёж».
А если ничего заслуживающего внимания не происходило, то шагали молча, зря слов не бросали.
– Вовек не забуду дедушкиных песен, – прошептал Сулейман, как-то сразу притихнув.
«Ясно, и у них не побывал Хасан Шакирович», – подумал Погорельцев. Какое-то неясное чувство, близкое к тоскливому разочарованию, шевельнулось в сердце, но он отогнал его.
– Успел поговорить с Иштуганом? Что-то он того… недоволен командировкой… Остыл.
Сулейман кинул искоса быстрый взгляд на Погорельцева. «Нет, зять у них не был», – в свою очередь заключил он и, расстроившись, сразу перешёл чуть не на крик:
– Да как тут не остыть! Железо и то остывает, когда его передержат на наковальне. Остынешь, коль тебя чуть не каждую неделю гоняют то туда, то сюда… У самих дел по горло, невпроворот, так нет – на сторону ездим людей учить. Вот мы, дескать, умники какие, га! У других-то нехватка его, ума-то, зато у нас в избытке!.. Пожалуйте, сколько вам угодно?.. Нет у нас государственного подхода к новаторам. Вот в чём беда. Серьёзное дело превращаем в чехарду.
Матвей Яковлевич усмехнулся:
– Не ты ли совсем ещё недавно хвастался командировками Иштугана? Вот у меня парень так парень… И такой и сякой… С министрами разъезжает… Неправда, скажешь, а?
Сулейман пробурчал что-то себе под нос. Жилы на его шее набухли.
– Ладно, не береди больного места, – бросил он сердито. – Не зря говорят: ум к татарину приходит после обеда. Дураком был, потому и хвастал…
Дорогу перекрыл красный огонь семафора. Передние машины остановились. Задние резко, с взвизгиванием, притормаживая, вплотную придвигались к ним. Люди тоже сбились кучкой. Кто-то потянул Матвея Яковлевича за рукав. Сулейман, не заметив этого, продолжал протискиваться вперёд, Матвей Яковлевич только собрался крикнуть ему, чтобы тот обождал, как в двух шагах от него остановилась «Победа». Узнав директорского шофёра, обрадованный Матвей Яковлевич заглянул на заднее сиденье и увидел Хасана. Откинувшись на спинку, он с задумчивой сосредоточенностью уставился куда-то перед собой. Лицо невесёлое, губы плотно сжаты, широкий раздвоенный подбородок словно высечен из голубоватого мрамора. В этом хмуром человеке с резковатыми чертами лица с трудом можно было узнать прежнего розовощёкого Хасана.
Старик даже немного растерялся от этой неожиданной, хотя и долгожданной встречи. Горячая волна радости нервным комком застряла в горле. Он хотел крикнуть: «Хасан, сынок!», хотел броситься к машине, но не смог и сдвинуться с места.
От резкого торможения Муртазин поднял голову. Из-за стекла на Матвея Яковлевича уставились равнодушные, холодные глаза. В этих глазах Матвей Яковлевич не прочёл ничего, кроме усталости и недовольства. На одну секунду он усомнился: Хасан ли это? Но Муртазин, увидев седого старика и группу любопытных вокруг него, опустил стекло.
– Что так смотрите, дедушка, или знавали раньше? – спросил он.
Матвей Яковлевич подумал, что Хасан Шакирович просто шутит, а может, и вправду не признал с налёту-то, и, слегка улыбнувшись, с растроганной ласковостью ответил:
– Да вроде того.
Старик ждал, что после этих слов Хасан Шакирович, всмотревшись повнимательнее, распахнёт дверцу и выскочит, чтобы обнять его. Но дверца не раскрылась, Муртазин даже не пошевельнулся.
– Я тоже, кажется, где-то видел вас, – сказал он. Но тут машина тронулась.
Матвей Яковлевич, ошеломлённый случившимся, застыл на месте. Он даже не слышал извинений прохожих, то и дело в спешке отчаянно толкавших его.
– «Я тоже, кажется, где-то видел вас…» – шептал он про себя. – Вот так встреча!..
– Матвей Яковлевич, что с вами? – подхватила старика под руку средняя дочь Сулеймана Гульчира.
Погорельцев пробормотал что-то. Похоже – выругался. Они подошли к проходной. Успевший встать на свой пост Айнулла кричал проходящим:
– Пропуска! Пропуска!
Погорельцев сунул руку в карман, в другой – пропуска не было.
– Ну, к чему вам его пропуск, Айнулла-абзы, разве вы не знаете Матвея Яковлевича, – удивилась Гульчира.
Но Айнулла ничего слышать не хотел.
– Порядок, дочка… У порядка нет ни родных, ни знакомых. Матви Яклич, милый, отойди в сторонку и не мешай, народу проходить надо. Товарищи, готовьте пропуска! Раскрывайте, раскрывайте!.. Ты, браток, мне фокусы не показывай, – одёрнул Айнулла парня в кургузой кепке, который ловко хлопнул своим пропуском перед самым носом вахтёра. – Хранил бы получше! А то ишь, непутёвый, излохматил свой пропуск, что жёваный лист! Это ведь документ…
Нырявшие в проходную рабочие бросали удивлённые взгляды на красного Матвея Яковлевича, что-то растерянно искавшего по карманам. Гульчира, не в силах больше видеть этого, заспорила с Айнуллой. Наконец, подойдя к Матвею Яковлевичу, сама ощупала его карманы.
– Да вот же он, Матвей Яковлевич!..
Старик, не произнеся ни слова, досадливо махнул рукой. Айнулла, словно ничего не произошло, взял из его рук пропуск и, пробежав глазами, вернул с обычной приветливой миной.
– Пожалуйста, Матви Яклич. Только вот срок пропуска выходит, не забудь продлить.
2
Огромный механический цех, весь пронизанный узенькими полосками солнечного света, льющегося из больших, обтянутых защитными сетками окон, был полон машинного гула и лязга металла. Терпко пахло эмульсией, керосином, нагретым машинным маслом. Со стороны литейного цеха огромные двери были раскрыты настежь, там выгружали с тележек для дальнейшей обработки на токарных, фрезерных и сверлильных станках только что отлитые крупногабаритные детали паросиловой установки для животноводческих ферм. Со стороны сборочного цеха, неся на крюке уже собранную паровую машину, медленно двигался, прижимаясь к самому потолку, мостовой кран. По мере его приближения из-за металлических перекрытий вылетали вспугнутые голуби, зимой и летом жившие в цехе.
Начальник цеха Назиров, высокий молодой инженер, широконосый, с пышными светлыми волосами и толстоватыми губами, засунув обе руки в карманы светло-коричневого кожаного пальто, задумчиво глядел на станки, хаотично заполнявшие цех. И до него, и при нём много раз переставляли эти станки применительно к технологии новой продукции, – а продукция завода менялась часто, – и, естественно, каждый раз оставались какие-то недоделки, на что-то не хватало времени или назревала крайняя необходимость на уже занятую площадь втиснуть несколько новых станков. Таким образом, чёткие линии станков всё время ломались и сильно мешали в работе. Назиров не мог примириться с этим, он мечтал о коренной реконструкции цеха, мечтал перевести весь цех на поток. Но поскольку на «Казмаше» производство серийное, то обычный поток вводить нельзя. Назиров предлагал частичный поток в виде технологических цепочек: группа станков вместе со станочниками выделяется для обработки определённых деталей, оборудование располагается так, что образует как бы прерывистый конвейер, а детали подаются по цепочке – от станка к станку.
Но многие инженеры завода не верили в реальную возможность потока в условиях серийного производства, считали увлечение Назирова этой идеей беспочвенной романтикой, иные даже обвиняли его в незнании законов производства. Это возмущало Назирова и рождало в нём упорное желание во что бы то ни стало доказать свою правоту. Уже работала первая цепочка – расточные станки. Выстроенные в ряд, они обрабатывали тракторную гильзу. Вдоль этих станков прохаживалось всего несколько наблюдающих.
Вот почему Назиров каждое утро начинал обход цеха именно с этого милого его сердцу уголка. Глядя на своё детище, он чувствовал новый прилив энергии, в его голове рождались новые, ещё более смелые мечты. Он уже видел весь цех работающим так же организованно и чётко, как технологическая цепочка для гильз.
В это время Назирова окликнули. Он обернулся и увидел, как через открытые двери вошёл с группой инженеров новый директор, солидный, лет под пятьдесят мужчина, в чёрном пальто и такой же шляпе. Его в упор глядевшие карие глаза, широкий раздвоенный подбородок, губы, застывшие в изломе презрительной улыбки, внушительная фигура возбудили в Назирове двойственное чувство невольного уважения и настороженности.
Рядом с директором шёл главный инженер завода Михаил Михайлович Михайлов. Лицо у него по линии профиля казалось как бы слепленным из двух половинок, как это бывает у целлулоидных кукол. Он, по обыкновению, опирался на палку с изогнутой ручкой. В добротной велюровой шляпе, в прекрасно сшитом, элегантном осеннем пальто, с чисто выбритым и чуть припудренным лицом, он выглядел моложе своих лет, хотя и приближался уже к шестому десятку.
Немного позади держались главный конструктор Поярков, толстый, приземистый, в пенсне, ведущий технолог Акчурин и с ними группка инженеров.
– А вот и Назиров, – представил Михаил Михайлович. – Он обстоятельнее ответит на ваши вопросы, Хасан Шакирович. Не один уже год поглощён разработкой этой проблемы.
Назиров, пожимая обоим руки, поинтересовался, о чём идет речь. Узнав, он слабо улыбнулся, но ответил очень сдержанно и коротко, что технологические цепочки, подобные этой, которую они здесь видят, открывают, по его мнению, большую перспективу на будущее.
Шагая вдоль станков, Муртазин спросил:
– Сколько деталей обрабатывается в вашем цехе?
– Триста семьдесят пять, – ответил следовавший за ним Назиров.
– И для скольких из них имеются технологические цепочки?
– Пока только для одной.
Муртазин посмотрел на него как бы с упрёком.
– Одна ласточка весны не делает, Назиров. Из одной крупинки проса каши не сваришь. Нужно побыстрее придумать что-то и для других деталей.
– Мы думаем, Хасан Шакирович.
– Думаем, а в конце месяца раздаём дефицитные детали по другим цехам и за счёт этого выполняем план. Так, что ли?
– Бывали и такие случаи, Хасан Шакирович.
– С сегодняшнего дня не должны быть!
Муртазин резко обернулся назад и молча показал рукой на лужу эмульсии, расползшуюся под станком. Назиров хорошо понял этот молчаливый выговор директора и покраснел.
Не успел молодой инженер оправиться от смущения, как из-за станков, засунув руки в карманы, посвистывая, вывернулся Ахбар Аухадиев. Муртазин подозвал его к себе. Тот с развязным видом подошёл к директору. Понесло винным перегаром.
– И сколько же тебе платят за такую работу? – спросил Муртазин.
– Если хорошо свищу, не обижают, – задорно ответил Аухадиев.
– Прекрасно, – суровым ровным голосом сказал Муртазин. – Когда научишься ещё лучше свистеть, зайдёшь ко мне. Может, премию заслужишь. Иди…
Назиров готов был сквозь бетонный пол провалиться. Когда Аухадиев отошёл на достаточное расстояние, Муртазин повернулся к начальнику цеха.
– Ваш?
– Да, Хасан Шакирович. Мой… Наладчик.
– И вы терпите в своём цеху таких пьяниц и бездельников?
– Лучший наладчик у нас, Хасан Шакирович.
– Не верю!..
Муртазин прошёл дальше и остановился у группы фрезерных станков, расположенных в самом нелепом порядке.
– Кто же это умудрился их так расставить? – удивился Муртазин. – Ведь они как гири на ваших ногах.
– Знаем, – ответил Назиров. Он уже немного пришёл в себя. – Но если уж делать перестановку, то не только этих трёх-четырёх станков. Это нам ничего не даст. Весь цех надо реконструировать. У нас есть готовое предложение на этот счёт. Разрешите зайти к вам специально.
Несколько мгновений Муртазин не сводил с Назирова своего прямого, твёрдого взгляда, словно взвешивал: есть ли что стоящее за душой у этого молодого, но, кажется, довольно смело мыслящего инженера?
– Хорошо, – сказал он наконец. – Сегодня я собираю всех руководителей завода. Там и доложите.
Муртазин уже шагал дальше, часто останавливаясь, расспрашивая, делая замечания. Обратил внимание на стенную газету, висевшую возле конторки. Быстро пробежал её глазами. Потом спросил Назирова:
– А вы читаете свою газету?
Назиров покраснел.
– Сознайтесь, не читаете? – И Муртазин, словно в доказательство, вынул из кармана карандаш и аккуратно исправил две-три орфографические ошибки.
Когда директор и главный инженер вышли из цеха, Назиров помчался к поточной линии пробирать токарей.
– Каждый день долблю, что нужно соблюдать идеальную чистоту. А вы… – ноздри у Назирова раздулись, – вы здесь поганое болото развели! Сказали механику!.. А сами что? Или рук нет? Исправить шланг – это же минутное дело!
Назиров расстроился. Очутиться перед новым директором в положении мальчишки!.. Но, вспомнив, что сборочному цеху требуются картеры, торопливым шагом направился к токарю-расточнику Саше Уварову. Саша Уваров со своим сменщиком с трудом поспевали за две смены сдавать по одному картеру. А сборочный цех подгонял – без картеров там нечего было делать. Назиров постоял некоторое время молча, наблюдая за работой Уварова, потом спросил:
– Ну как, Саша, справишься к концу смены?
Уваров, приземистый толстяк, поразительно смахивавший на медвежонка, почесав затылок, неторопливо ответил:
– Думаю справиться, только вот сборщики спокойно работать не дают. Терпеть не могу, товарищ начальник, когда во время работы тянут за полу.
Назиров повернулся и очутился лицом к лицу с начальником сборочного цеха. На голове у того торчала помятая шляпа, с которой он не расставался зимой и летом. Длинная худая шея, покатые плечи. На вытянутый острый нос были насажены какого-то диковинного фасона очки с очень большими и очень толстыми стёклами. «Японские!» – утверждал их владелец.
Назиров уважал этого человека, который был намного старше его, за практический опыт, но недолюбливал за то, что он вечно петлял как заяц по механическому цеху. Из-за этого между ними довольно часто бывали стычки. Не обошлось без неё и сегодня. При виде начальника сборочного цеха Назиров, который и без того был не в духе после обхода нового директора, вспыхнул и сгоряча наговорил много лишнего, вплоть до того, что запретил впредь ногой ступать в механический цех.
Повертев длинной шеей, начальник сборочного добродушно усмехнулся, блеснув стёклами очков, и, приложив руку к груди, сказал, ничуть не обидевшись:
– Очень бы рад… Будешь давать моим ребятам достаточное количество деталей, я для себя отдельную дверь прорублю, чтобы вовсе не заходить в твой цех. Вон там, – ткнул он пальцем в дальний конец длинного, грохочущего цеха.
– Очень прошу! – И Назиров, резко повернувшись, пошёл к конторке.
– Погоди, не убегай… Мне не только картеры нужны, а и коленчатый вал! Слышишь?.. Коленчатый вал давай! – летело ему вдогонку.
Назиров прошёл половину пути, когда его остановил сменный мастер. Он пожаловался, что Ахбар Аухадиев явился в нетрезвом виде и отказывается приступать к работе.
– С одним человеком не можете справиться, – отрезал окончательно выведенный из себя Назиров. – Какая бы ерунда ни случилась, тут же к начальнику бежите… Думаете, у него других дел нет.
– Говорите, что хотите, Азат Хайбуллович, – сказал мастер, – а всё же непонятно мне, почему вы не принимаете никаких мер, чтобы поставить на место этого пьяницу.
Тем временем Назирова начали обступать бригадиры. Каждый со своей нуждой, со своими жалобами. Особенно много было жалоб на отсутствие необходимых материалов.
– Кукушкин стоит без дела… – пожаловался бригадир группы фрезеровщиков. – Что это за порядок, товарищ начальник? Как начало месяца – весь график к дьяволу летит… А последние дни словно черти на раскалённой сковородке пляшем.
Назиров, взяв себя в руки, спокойно пообещал сейчас же всё выяснить.
– Уж выясните, пожалуйста, Азат Хайбуллович. Да не забудьте, загляните в плановый отдел. Чёрт знает чего вечно напланируют. Никакого порядка, никакой согласованности в работе! Каждый цех на свой страх выкручивается.
– Зуб у меня на кузнецов, – говорил остановившемуся возле него Назирову парторг цеха Алёша Сидорин, бывший матрос. – Смотри, сколько металла уходит в стружку. Неужели нельзя делать поковки с меньшим допуском? Будто по сердцу строгаю. А потом хнычем, что металла не хватает.
Хотя Назиров притворился, что не слышал выкрика начальника сборочного цеха: «Мне не только картеры нужны, а и коленчатый вал», слова эти ни на минуту не выходили у него из головы. Казалось, разносимые мощными рупорами, они гремят теперь во всех уголках цеха. И Назиров отправился к обрабатывавшему валы Сулейману Уразметову, станок которого стоял у окна во втором пролёте.
И раньше донимали механический цех эти коленчатые валы, а когда встала задача массового производства установок, валы сделались настоящей бедой цеха. Только для обработки на токарном станке этой самой сложной, самой точной детали нужно было проделать тридцать две различные операции.
Назиров знал, что токари-скоростники делают попытки обрабатывать коленчатые валы скоростным методом, но сам мало чем помогал им, – всё как-то руки не доходили.
– Ну как, Сулейман-абзы? – спросил Назиров, кивнув головой на закреплённый в станке коленчатый вал.
– Вибрация проклятая всё дело стопорит, – ответил Уразметов. – Сколько есть на заводе виброгасителей – все перепробовал… Не получается, да и только. Чуть увеличишь скорость и подачу, деталь, да и резец, и станок, чего там – даже пол настоящий разбой учиняют против скорости. Вот так… – И Сулейман замахал сжатыми кулаками, показывая, какой они учиняют разбой. И вдруг улыбнулся лукаво, подмигнул и добавил: – И всё же голова дана человеку Аллахом, чтобы он думал. Раз существует на свете вибрация, значит, должна существовать и причина тому. А найдём причину, товарищ начальник, – сумеем приручить и вибрацию. – Заметив, что Назиров не совсем удовлетворён такой постановкой вопроса, он, понизив голос, словно сообщая нечто очень секретное, добавил: – Сейчас за это дело крепко взялся мой сын Иштуган… Профессор Артём Михайлович Зеланский тоже обещал помочь…
– Всё это очень приятно, Сулейман-абзы, – прервал его Назиров. – Но ведь коленчатые валы нужны нам немедленно, сегодня же!
– Немедленно, га! Сулейману подумали хоть раз помочь? Только и знаете свои цепочки. – И, увидев, что начальник мрачнеет, добавил: – Ладно, товарищ начальник, дадим и сегодня то, что сможем. Но только уговор: чтобы никаких задержек. Ни-ни… Я последний вал обрабатываю. – И, уже перейдя на шёпот, спросил: – Ты что ж, товарищ начальник, нового директора по нашему пролёту не провёл, га? Надо бы тебе представить Сулеймана собственному зятю. Забыл, га?
– Будет вам, Сулейман-абзы. Не до шуток, – ответил Назиров.
– А я и не шучу. Ты, поговаривают, тоже в зятья ко мне набиваешься. И тоже, поди, как женишься, за три километра будешь обходить тестя, га?
Назиров покраснел, растерялся. Он давно тянулся сердцем к Гульчире, но никогда не думал, что даже отцу её уже всё известно. Вот характерец!.. Режет прямо в лоб. Не разбирается – тактично, нетактично, смущаешься ты, нет ли. Надо как-то ответить этому хитрющему старику, а у Назирова язык прилип к гортани. И чем дольше длилось молчание, тем сильнее охватывало его смущение.
Заметив это, Сулейман добродушно усмехнулся:
– Коли ты с ней будешь таким мямлей, как со мной, не видать тебе, парень, моей дочки…
Но чего больше всего боялся Назиров, так это того, как бы не рассказал сумасшедший старик об этом казусе дома. Гульчира девушка с характером. Можно тут же получить от ворот поворот.
Выручил Назирова, сам того не подозревая, один из рабочих. Подозвав начальника цеха к своему станку, он долго и подробно принялся объяснять ему что-то насчёт данной ему детали.
В кабинете Назиров нетерпеливым жестом повесил на вешалку кожаное пальто и подошёл к телефону.
Когда туда вошла с бумагами в руках Надежда Николаевна, он покрикивал в телефонную трубку последние слова. Затем бросил трубку и закурил.
На Надежде Николаевне, как всегда, был длинный чёрный рабочий халат с белоснежным воротником. Голова не покрыта. Рано начавшие седеть волосы скручены на затылке узлом.
– Вы чем-то расстроены сегодня, Азат Хайбуллович? – тихо, с тревогой спросила Надежда Николаевна.
Назиров, сделав вид, что не слышал вопроса, попросил список дефицитных деталей. Надежда Николаевна достала из шкафчика сколотые скрепкой листки и положила перед ним. Назиров перелистал их, быстро пробегая глазами по цифрам. Несмотря на то что была ещё только первая половина месяца, цифра, показывающая количество дефицитных деталей, упорно росла день ото дня.
Видя, что с каждым новым перевёрнутым листком лицо начальника мрачнеет всё больше, Надежда Николаевна не сдержалась:
– Если и дальше пойдём такими темпами, опять придётся в конце месяца раздавать детали по другим цехам.
Назиров подскочил даже.
– Этого ещё не хватало!
В ушах прозвучали недавние слова директора. Тонкими пальцами начальник цеха забарабанил по настольному стеклу.
«Какие нервные пальцы, – подумала Надежда Николаевна. – А ведь он не был таким». Ей стало жаль Назирова.
– Надежда Николаевна, – сказал Назиров, отодвинув подписанные бумаги, – нужно поторапливаться с нашим проектом. Муртазин им, возможно, заинтересуется… В общих чертах я сегодня же попытаюсь доложить ему. Скажите Авану Даутовичу…
Произнося это имя, Назиров вдруг смолк, вспомнив жену Акчурина красавицу Идмас. Мгновенно залившись краской при этом воспоминании, он очень обрадовался, когда зазвонил телефон.
Сделав вид, что ничего не заметила, Надежда Николаевна сняла трубку, послушала и сказала, что директор вызывает начальников цехов на совещание.
– Очень хорошее начало! – обронил Назиров, не столько чтобы поддеть нового директора, сколько скрыть своё смущение и половчее вывернуться из неудобного положения, в которое сам же себя поставил. Надевая кожаное пальто, он вспомнил и добавил: – Да, вот что, Надежда Николаевна, займитесь-ка вы как следует Ахбаром Аухадиевым… Придётся его уволить. Заготовьте приказ. – И вышел.
Надежда Николаевна задумалась. В самом деле, что делать с этим Аухадиевым?! Увольнением с завода его не испугаешь. Он прекрасный наладчик. Его завтра же возьмут на другой завод. Оттуда выгонят – поступит на третий, на четвёртый. Уволить проще всего. Но разве это метод исправления, таким путём легко можно прийти к обратному результату – совсем погубить человека.
Надежда Николаевна давно знает Ахбара Аухадиева. Они соседи. Кроме старушки матери, у него никого. Ни жены, ни детей. Когда-то был женат, но жена оставила его. Мать его – странная женщина. Если и зайдёт когда к Надежде Николаевне, ни о чём не спросит и сама не поделится ничем, замрёт молча у дверного косяка. Никак не уговоришь её даже присесть на минутку. А если начнёшь упрашивать понастойчивее, уставится в пол и часто-часто заморгает, беззвучно перебирая запавшими губами: не то благодарит, не то сетует. И тотчас так же молча уйдёт.
В молодости её жестоко бил муж, на старости лет стал бить сын.
Надежда Николаевна догадывалась, каким тяжёлым камнем лежит на сердце у старой матери обида, и порой, жалея её, говорила:
– Маглифа-апа, зачем позволяешь сыну оскорблять свои седины? Напиши жалобу, и его притянут к ответу.
Но бедная мать в ужасе махала руками:
– И-и, что ты, что ты, доченька, мыслимое ли это дело писать жалобу на собственного сына? Коли бьёт, значит, знает за что, провинилась, значит… Я уже одной ногой в могиле, а сыночку надо ещё жить да жить… – говорила она и неслышными лёгкими шажками торопливо исчезала.
Надежда Николаевна не раз отчитывала Аухадиева и с глазу на глаз и через завком предупреждала. Но пользы от этого не было никакой. Более того, её усилия привели к обратному результату: в лице Аухадиева она нажила себе недруга. И тем не менее это из-за неё Назиров тянул с его увольнением.
Позвонив механику, Надежда Николаевна попросила прислать к ней Аухадиева. Вскоре он явился. Обшлага спецовки, отвороты брюк висели лохмами, словно их владельца терзала свора собак. Остановившись в дверях, Аухадиев локтями поддёрнул спадающие штаны и, глядя вниз, спросил:
– Вызывали?
– Да, Ахбар Валиевич, вызывала, – не отводя строгих глаз, подтвердила Надежда Николаевна. – Почему в нетрезвом виде пришёл на работу?
– И всего-то опохмелился немножко… Прошло уже.
– Почему пререкался с мастером?
– А пусть не привязывается…
Нахмурив брови, Надежда Николаевна окинула Аухадиева с ног до головы суровым, непреклонным взглядом и сухо, холодно сказала:
– Мы немало возились с тобой, Ахбар Валиевич. Ты уже не раз давал слово не пить больше. Не хозяин ты, видимо, своему слову. Нельзя тебе доверять… Саботажник ты, вот кто!..
– Но, но! – прервал её угрожающим тоном Аухадиев и даже шагнул вперёд. – Думай, о чём говоришь, мастер. Какой я враг? Какой саботажник?.. Фронтовик, две раны имею, пять медалей! Двадцать лет на заводе работаю.
– И всё же враг нашему обществу, Аухадиев. Говорю тебе это прямо в глаза, может, образумишься.
Аухадиев, тяжело дыша, упорно смотрел вниз. Опухшее, в синяках лицо его покраснело, покрылось испариной. Ему хотелось крикнуть «инженерше» что-нибудь оскорбительное, вроде того, что «помнила бы лучше о себе, чья жена», но он, сжав зубы, промолчал.
– Вот здесь, – положила Надежда Николаевна руку на папку, – заготовлен приказ о твоём увольнении. Я попросила Назирова, чтобы он не подписывал, пока я не поговорю с тобой. Иди и подумай. Если для тебя на этом заводе нет ничего дорогого, приказ недолго подписать. Подумай о своей матери, Ахбар Валиевич. У неё иногда даже на хлеб денег нет. Такую специальность в руках имеешь и не можешь мать прокормить. А ещё мужчина!..
Хлопнув с силой дверью, Аухадиев вышел из кабинета.
3
Строгая, выдержанная в тёмных тонах обстановка просторного директорского кабинета, казалось, ещё сильнее подчёркивала мрачность Муртазина. По стенам – панели из чёрного дуба. Директорское кресло с высокой спинкой и массивный стол с ножками, похожими на пузатые самовары, тоже были из чёрного резного дуба. Книжные шкафы, сейф, кресла, шторы на окнах – всё было чёрно-коричневых тонов. Телефонные аппараты и коммутатор поблёскивали чёрным лаком. Только узкий, длинный стол, приставленный к директорскому столу, был покрыт зелёным сукном да в углу стоял фикус с плоскими зелёными листьями.
Итак, он в Казани, сидит в директорском кресле. Муртазин задумался. В памяти его всплывали давно забытые, потускневшие воспоминания. Всплывая, они тут же и исчезали. Вернее, он сам решительно отгонял эти ставшие такими далёкими – ненужные, думалось ему, – воспоминания, бесцветные тени, бесплотные призраки давно минувшей жизни. Но временами сила воли изменяла ему и не изведанные доселе чувства вырывались из самых глубин сердца. На память невольно приходили стихи Тукая:
Как ты стара, как ты мудра, как молода, Казань!
Мой светоч, город мой, мой рай, мой светлый сад мечты.
Я вижу тонкий стан, блеск глаз, небесные черты…
На протяжении двадцати пяти лет ни разу не перечитывал он эти строки, и всё же поразительно! – не забылось то, что запало в душу с детства.
Вспомнилось, как его, простого деревенского парня, привёл на этот самый завод Матвей Яковлевич Погорельцев, как стоял он, Хасан, на пороге цеха, пугливо озираясь, оглушённый, поражённый. С тех пор прошли долгие двадцать пять лет. Рабфак. Вуз. Работа на уральских заводах-гигантах первых пятилеток – просто инженером, главным инженером и, наконец, директором. Работа в главке. Ему были доверены миллионные государственные средства, под его началом трудились десятки тысяч рабочих, создававших первоклассные станки и машины, строивших целые города. Слава о нём гремела по всей стране.
Всё это уж позади. А сегодня начинается новый круг его жизненного пути. Правда, годы уже не те, но Муртазину хотелось до боли в сердце блеснуть по-прежнему, по-молодому. Он чувствовал в себе такой поток скрытой силы, что, казалось, дай он свободный выход этой силе, она горы перевернёт. А вот, говорят, что даже льву выше своей головы не прыгнуть. «Ну что ж, на то он лев, а не человек. А человеку положено быть выше себя».
И вдруг, без всякой связи с предыдущим, он вспомнил седого старика, с которым разговаривал на улице из машины. И глаза его расширились. «Да ведь то был Матвей Яковлевич Погорельцев», – осенило его. Тот самый Погорельцев, который беспомощным пареньком привёл его на завод и первый обучил «машинному делу». Как же он не узнал старика?!
Муртазин тогда о чём-то задумался. Кажется, он размышлял над тем, что сказали ему в ЦК. Он и сам не знал, когда и как появилась у него эта нехорошая привычка – разговаривая с людьми, думать совсем о другом.
«Обидел старика. Ясно, обидел! – думал он с болью. – Небось, давно уже на пенсии, не работает. Может, нарочно и на улицу-то вышел, чтобы встретиться со мной… Со своим Хасаном. А я… Хорош, нечего сказать… Надо обязательно зайти к ним… Обязательно…»
Правда, он не выбрал ещё времени зайти даже к Уразметовым. Но это гораздо меньше волновало его. Он с самого начала решил держаться с ними на некоторой дистанции, чтобы никто не мог обвинить его в семейственности. Он знал свой тяжёлый характер, знал, что вокруг него будет много недовольных и обиженных, и заранее хотел обезопасить себя с этой стороны.
Зазвонил телефон. Муртазин взял трубку и сразу узнал голос директора Зеленодольского завода Чагана, с которым не раз прежде встречался в главке.
Чаган расспрашивал, как он доехал, как устроился, как «крутится-вертится» на новом месте «работка». Муртазин отвечал односложно, нехотя. Он ещё помнил случайно подслушанный им в коридоре главка разговор этого самого Чагана с другим директором. Толстяк с ехидным смешком довольно громко нашёптывал тому на ухо: «Шиш возьмёшь у этого своенравного, злого татарина. В Рождество лопаты снега не выпросишь». И принялся учить новичка, как обходить «строгое начальство». С тех пор Муртазину непереносим стал один вид этого жизнерадостного толстяка Чагана. Он частенько-таки прижимал его. Но Чаган был настолько толстокожим и так крепко сидела в нём способность не унывать ни при каких обстоятельствах, что временами просто бесил Муртазина. Разговаривать с ним, как со всеми другими, было невозможно, на муртазинские доводы он обычно отвечал лукавым смешком и добивался своего, всякий раз шутливо коря Муртазина: «Нехорошо, Хасан Шакирович, своих земляков обижаешь, нехорошо». И ещё была у него какая-то нелепая, по мнению Муртазина, поговорка: «Крутится-вертится шар голубой».
Перед отъездом из Москвы Муртазина вызвали в ЦК.
Там ему прямо в глаза сказали, что у него появились замашки вельможи, что он оторвался от жизни. И предложили поработать директором завода.
Когда он в глубоком раздумье шёл оттуда, ему, точно назло, повстречался Чаган. Этому тучному весёлому коротышке уже всё было известно, а он как ни в чём не бывало широким жестом подал Муртазину руку и сказал:
– Значит, крутится-вертится шар голубой?.. И вы, Хасан Шакирович, едете на настоящую работу. А то, небось, засиделись в кабинете? Теперь, значит, будем соседями. И, надеюсь, добрыми. Татары говорят: «Аллаха уважай, но и соседа не меньше». Я тоже кое-что делаю для вашего «Казмаша». Думаю, на второй же день начнёте мне звонить, телефонисток мучить. – Но, увидев, что Муртазин мрачнеет, быстро переменил разговор. – Когда едете? Завтра? Вот и прекрасно. Я тоже завтра. Значит, вместе. Каким поездом?
Но Муртазину ехать с ним не захотелось. «Будет теперь при каждой встрече трунить надо мной».
Разговор с Чаганом вдруг прервали, и в этот момент вошёл Гаязов. Муртазин положил трубку и протянул секретарю парторганизации руку. Минуту они молча измеряли друг друга взглядом. Гаязов опустился в глубокое кожаное кресло.
– Вы знаете Чагана? – спросил Муртазин.
– Семёна Ивановича у нас все знают, – усмехнулся Гаязов. – Он делает для нашего завода натяжные станции и… собирается отобрать у нас переходящее знамя.
– Ну, это ещё как сказать!.. – недовольно проворчал Муртазин.
Оттолкнув кресло, он резко встал, снял с бронзовых настольных часов колпак и, сверив их со своими, перевёл стрелки на две минуты вперёд. Затем поставил колпак на место и, подстелив предварительно старую газету, взобрался на стул, чтобы подвести стенные часы. Крепкий дубовый стул заскрипел под ним.
Подвинув стрелку, Муртазин, одёргивая рукава, покосился на Гаязова. Секретарь парткома, положив ногу на ногу, всё так же полулежал в кресле, но выпуклые глаза его смеялись. Он уже успел по своим, сегодня только сверенным по радио часам определить, что стенные отставали на целых три минуты.
Муртазин, поглядывая на все трое часов, сказал тоном человека, довольного сделанным:
– Не переношу, когда часы или люди, наподобие норовистой лошади, то отстают, то вперёд забегают.
Что-то в Гаязове раздражало Муртазина. Это ощущение не оставляло его и сейчас. Он изучал Гаязова, как художники изучают картину, – то издали наблюдал его, то вблизи. Но никак не мог уяснить себе, что же именно раздражает его в этом человеке. Но вот солнечные лучи ударили прямо в лицо Гаязову, и Муртазин понял: его улыбка, оказывается! В этой улыбке Муртазину читались и чрезмерная, на его взгляд, уверенность в себе, и повышенное чувство собственного достоинства, и – что больше всего не нравилось Муртазину – нежелание жить в подчинении.
– Я тоже не люблю, когда часы показывают неточное время, – сказал Гаязов, улыбаясь той самой спокойно-насмешливой улыбкой, которая столь не нравилась Муртазину. – Но вот если люди устремляются вперёд, это, по-моему, только хорошо… Вам, Хасан Шакирович, похоже, не совсем по душе пришёлся наш завод. Староват. Что и говорить, на новых заводах оборудование куда совершеннее. – По лицу Гаязова опять проскользнула раздражавшая Муртазина усмешка. – Но ведь люди-то везде одинаковы. Рабочие коллективы старых заводов имеют свои преимущества – здесь сильнее революционные традиции. Как по-вашему?
Муртазин не ответил. Гаязов встал и, сунув руки в карманы, стал прохаживаться взад-вперёд по ковру. Выглянул через окно во двор. По широкому заводскому двору шли двое – инженер-технолог Аван Акчурин и главный конструктор Поярков. Сутуловатый Акчурин шагал молча, с опущенной головой. Поярков сильно жестикулировал.
В кабинет вошла секретарша Зоечка и подала на подпись бумаги. Зазвонил телефон. Установившаяся было в кабинете напряжённая тишина разрядилась. Муртазин снял трубку.
Вызывала Москва. Звонил сам министр.
– Спасибо, Владимир Алексеевич… Очень вам благодарен, – говорил в трубку Муртазин. – К работе приступил… Перспектива?.. Вот приглядываюсь… Нет, тянуть не буду… Разрешите позвонить вам несколькими днями позже… Да, слушаю… Увеличивается?.. На установки? Так… А не скажете, что именно? Слушаю… Учту обязательно… Хорошо, спасибо… Уразметова? Пошлю, не задержу… Нет, Владимир Алексеевич, – улыбнулся Муртазин. – Какой там своенравный, злой татарин… Тут татар много, похлёстче меня есть. Слушаю… Будьте здоровы.
Муртазин, быстро подмахивая бумаги, говорил Зоечке:
– Позвоните в экспериментальный цех и узнайте: вручили Иштугану Уразметову командировочное удостоверение? Он должен выехать не позже завтрашнего утра.
Когда секретарша вышла, Муртазин обратился к Гаязову:
– Министр звонил. План на установки собирается увеличить… И замышляет подсунуть нам, помимо того, какой-то новый заказ.
– Этого надо было ожидать в связи с решениями Сентябрьского пленума, – сосредоточенно сказал Гаязов.
– Придётся крепко напрячь нервы, – сказал Муртазин холодно. – Это не фунт изюма. Нового оборудования нам не дадут. Значит, задание мы сможем выполнить лишь в том случае, если нам удастся мобилизовать весь коллектив до одного человека. А нет – провалимся наверняка!
Гаязов только собрался что-то ответить, как снова зазвонил телефон. Муртазин взял трубку, и по лицу его, подметил Гаязов, скользнула тень недовольства, хотя голос ничем не выдал его внутренних чувств. Звонил, как понял Гаязов, директор Зеленодольского завода Семён Иванович Чаган.
– Да, нас прервали… Кстати, Семён Иванович, когда вы отгрузите нам натяжные станции? – спросил Муртазин. – Это я и без вас знаю… что шар крутится-вертится… Нет, вы уж давайте точно… Иначе… Ждать не буду! Что сделаю? Это уж моё дело. Будьте здоровы!
Положив трубку, Муртазин помолчал минуту. Потом нажал на кнопку. Снова вошла Зоечка.
– Узнали насчёт Уразметова?
– Узнала, Хасан Шакирович. Он говорит, что поехать не сможет.
– Что?!
Муртазин посмотрел на тонконогую, перетянутую в талии, смахивающую на осу секретаршу так, словно она сказала нечто совершенно невообразимое. Зоечка даже в лице изменилась под его гневным взглядом.
– У него жена…
– Что жена? Не отпускает? Завтра же чтобы выехал на место.
– Он просит разрешения поговорить с вами.
– В первую очередь дело, а поговорить всегда успеем… Как там, собрались? Пусть войдут.
Здороваясь, в кабинет начали заходить начальники цехов и отделов, инженеры, техники. Среди них были люди с проседью, и совсем уже седые старики, и только что прибывшие из институтов, брызжущие молодостью юноши и девушки. Молодёжь держалась вместе. Она расположилась на стульях вдоль стены.
Когда все расселись, Муртазин нажал кнопку.
– Через три минуты никого не пускать! – умышленно громко сказал он секретарше.
Затем, легонько стукнув по столу костяшками волосатых пальцев, открыл совещание.
– Я пригласил вас сюда, чтобы мы могли поближе познакомиться друг с другом, чтобы точнее выяснить, что мешает нашей работе и что нужно сделать, чтобы устранить эти помехи. Я должен всех сразу же предупредить, что министерством поставлена перед нами новая задача. Мы не только должны выполнить ранее намеченный план, но и увеличить в ближайшее время план установок и запчастей чуть ли не в два раза. Наша обязанность – подготовить к этому наше производство. Только что я говорил с министром. Он предупредил, что увеличение плана может произойти до нового года. Кроме того, нам, возможно, дадут совершенно новую продукцию.
Последние слова вызвали бурную реакцию. Полетели многозначительные взгляды. Все разом заговорили. Муртазин снова постучал костяшками пальцев.
– Не шумите. Я всем дам слово. Начальников цехов прошу обратить особое внимание вот на что. Не уходите с головой в повседневные дела, помните, что надо готовить цеха к новым требованиям, которые нам собираются предъявить, что новые задачи вы сможете успешно решить лишь в том случае, если всё будет точно рассчитано и если вы изыщете новые возможности перспективного развития завода. Это я говорю не ради красного словца. С первого раза не буду называть фамилии, но некоторые из вас, как я заметил, предпочитают работать самотёком, в эдаких скафандрах… Итак, начнём. Выступать прошу коротко, ясно, конкретно. Беллетристика не нужна.
Первым попросил слово главный конструктор завода Вадим Силыч Поярков. Присутствующие задвигались, пряча невольную улыбку. Этот человек, проводивший большую часть своего рабочего времени на всякого рода совещаниях и заседаниях, хотя был не очень силён в технических вопросах, всегда и везде, при любых обстоятельствах умел отбрыкаться от любого пришедшегося ему не по вкусу задания. С поразительной лёгкостью отводил он любые обвинения от своего отдела и вообще великий мастер был выходить сухим из воды. Злые языки уверяли, что вся работа по конструкторскому бюро лежит на ведущем технологе Акчурине, а Поярков отдувался лишь на заседаниях.
Заявив, что номенклатура изделий, выпускаемых заводом, и без того необычайно широка и разнообразна, а поставщики многочисленны, что сорта и размеры получаемых от них материалов и полуфабрикатов доходят до нескольких сот названий, что оборудование завода старое, Поярков сделал заключение, что завод работает на последнем пределе и в этих условиях увеличение плана может кончиться печально для завода. Для некоторых же цехов, как, например, для механического, если их не переоборудовать, увеличение плана просто невозможно. И к слову добавил, что поставка нового оборудования не предвидится.
Всё время, пока он говорил, Муртазин вертел меж пальцев толстый карандаш и, ничего не записывая, внимательно приглядывался то к одному, то к другому, то к третьему. Казалось, он заранее старался нащупать, кто чем дышит, кто будет говорить честно, кто может подвести, кто смел и умён, кто бездельник или болтун. Пока он более или менее знает одного парторга Гаязова да главного инженера Михаила Михайловича. А что собой представляет этот главный конструктор, который сейчас говорит свободно, гладко и так обтекаемо правильно, что даже на карандаш нечего взять, или вон тот, поджарый, с гладко выбритой головой и синими очками на лбу, по фамилии Азарин, начальник литейного цеха, или вон тот начальник сборочного, в неуклюжих очках, его шея вытянута, как у страуса, словно он и здесь высматривает недостающие детали, вот этот, с внешностью киноартиста Зубков, начальник снабжения?.. Да и молодой Назиров, и длиннолицый меланхоличный Кудрявцев, начальник экспериментального цеха, и этот, во всём заграничном «фуфырчик», как мысленно назвал про себя Муртазин начальника ОТК… и все остальные?.. Ему ведь надо безошибочно знать каждого, кто на что способен, что из кого можно выжать.
Поярков закончил своё выступление и сел на диван. Муртазин помолчал минуту, потом сказал недовольно:
– Давайте договоримся так. Не будем доказывать, что дважды два – четыре. Почему вы, – он взглянул на Пояркова, – почему вы, Вадим Силыч, ничего не сказали о своём отделе, что вы думаете предпринять у себя?
– Простите, Хасан Шакирович, я… – Поярков вскочил с места.
– Садитесь, – оборвал его Муртазин. – Нехорошо, когда люди забывают о главном.
И Муртазин по очереди стал давать слово начальникам цехов. Он не уговаривал выступать, а прямо называл имя и отчество очередного оратора, причём многие обратили внимание на то, что новый директор ни к кому не обращается по фамилии, а только по имени и отчеству.
Начальники цехов, упирая на то, что серийный выпуск паросиловых установок требует серьёзной перестройки работы, старались конкретно показать, что именно мешает наладить ритмичную работу в цехе. Теперь уже толстый карандаш Муртазина летал по бумаге. Много раз он жирно подчёркивал фамилии начальника отдела снабжения Маркела Генриховича Зубкова и заведующего центральным складом Хисами Ихсанова.
Начальник литейного цеха Азарин начал своё выступление с жалобы на нехватку рабочих рук. В случае увеличения плана, сказал он, эта нехватка рабочих рук может расстроить всю работу завода. Он предложил немедленно же начать набор новых рабочих, чтобы постепенно обучить их делу, так как готовых специалистов, в Казани по крайней мере, не найти.
Слово Азарина, более двадцати пяти лет проработавшего на заводе, получившего без отрыва от производства диплом инженера, всегда звучало веско. Гаязов уважал его и обычно прислушивался к его голосу. Но на этот раз он не удержался, чтобы не перебить его.
– Алексей Петрович, а как-нибудь по-другому, без набора новых рабочих, разве нельзя выйти из положения? – спросил он.
– Я, Зариф Фатыхович, не раз и не два, а, пожалуй, десять раз прикинул, – никак нельзя, – твёрдо ответил Азарин, пальцами левой руки едва касаясь синих очков на своём широком лбу.
– Да вот хотя бы предложение Иштугана Уразметова о стержнях, разве оно не облегчит работу вашего цеха? – не унимался парторг.
– Мы пока ещё не применяем его… По расчётам, оно нам кое-что даст. И немало. Но ведь это всего-навсего одна деталь, Зариф Фатыхович.
– Которая, насколько мне известно, достаточно попортила вам крови. Вы же сами говорили, что даже во сне видите эти проклятые стержни.
Все рассмеялись. И сразу загудели голоса. Но Муртазин снова призвал к порядку.
Назиров, недовольный поначалу, что его в такую горячую пору оторвали от работы, видя, как по-деловому ведётся директором совещание, понял, что созвано оно в самое время. Волнуясь, ждал он своей очереди. Он уже знал, что скажет то, о чём другие пока и не заикаются, и потому волновался ещё сильнее. В нём зарождалось сомнение: а что, если поспешишь и людей насмешишь? Не торопится ли он? Не являются ли его мысли результатом неопытности, молодости? Более опытные начальники вон как осторожничают. Никто вперёд не вырывается. Каждый старается оставить для себя какую-то лазейку, резерв. А Азарин, конечно, неспроста начал с предложения о наборе рабочих и обошёл вопрос о стержнях. Это и будет его резервом. А у него, у Назирова, где резерв? Ведь только недалёкий командир начинает наступление без резервов.
Назиров встал. Он немного растерялся под тяжёлым взглядом директора, но тут же и пристыдил самого себя: «Всё ещё как школьник! Тоже мне инженер!..» Резко дёрнув головой, он отбросил назад светлую прядку волос, свисавшую на лоб. Если говорить, так уж глядя прямо в глаза!..
– Я хочу начать с опровержения неправильной, на мой взгляд, мысли, проскользнувшей в речи товарища Пояркова, – сказал он. – Вадим Силыч говорил, насколько я понял, что нельзя якобы увеличить продукцию механического цеха, не пополнив его новым оборудованием. Это неверно. У нас есть все возможности на той же площади и при том же оборудовании снимать больше продукции.
– Интересно, какие же это возможности? – перебил его Поярков.
– Технологические цепочки, – сказал Назиров. – Мы можем, например, создать в нашем цехе новые линии для обработки поршневых колец, поршневых пальцев, шатунных болтов, поршней, ступиц колеса трактора, а также деталей котла паросиловой установки. Цепочки обеспечат нам контроль за производством, благодаря им сократится путь детали от одной операции к другой, а главное при таком способе производства один рабочий сможет обслуживать несколько станков. Мне одно только непонятно, почему у нас так тянут с внедрением технологических цепочек? Должен оговориться, однако, что сам я рассматриваю технологические цепочки лишь как первый шаг. По моим подсчётам, в самом недалёком будущем мы сможем перевести весь механический цех на поток.
По правде сказать, Назирова ещё мучило тысяча и одно сомнение, но, когда, придя на совещание, он услышал, что план завода должен быть увеличен чуть не вдвое, он, отбросив все колебания, решил идти напрямик. Он перестал замечать иронические усмешки своих коллег. Его уже не страшили никакие побочные соображения, вроде того, что он может показаться новому директору пустым фантазёром и сломать себе шею. Глядя загоревшимися глазами в упор на Муртазина, он стал объяснять сущность своего проекта.
Назиров говорил, не вдаваясь в мелкие подробности, сжато и ясно. Даже Поярков слушал его, не перебивая. Но когда он, по своей неприятной для Назирова привычке, сняв пенсне и прочистив мизинцем уголки глаз, стал разглядывать то, что осталось на ногте, Назиров уловил скользнувшую по его губам насмешливую улыбку и понял, что этот человек ещё много раз будет портить ему кровь. Но ему сейчас ничто уже не было страшно.
– Михаил Михайлович, вы знакомы с проектом? – внешне сдержанно спросил главного инженера Муртазин. – Выйдет толк?
Но сидевшие в кабинете заметили, как всё больше светлело суровое лицо директора, в полуприкрытых веками глазах вдруг вспыхнул огонёк живого интереса. «Повезло Назирову!» – мелькнуло у многих. Кто радовался за Назирова, кто завидовал ему.
Белый как лунь, с мешками под глазами, Михаил Михайлович слушал Назирова стоя, прислонившись к шкафу. Впрочем, он не садился с самого начала совещания. Близко сталкивавшиеся с ним люди говорили, что он даже работает стоя и лишь в очень редких случаях присаживается за свой письменный стол.
– Говорить о готовности проекта в целом рановато, – сказал Михаил Михайлович, прохаживаясь между стульев. Но мысль ценная. Отдельные элементы этого проекта можно и нужно начать внедрять в производство немедленно. Да мы и внедряем. Я поддерживаю Назирова в части технологических цепочек для обработки поршневых колец, шатунных болтов и так далее. А в целом?.. В целом проект достоин того, чтобы им заняться серьёзно. По моему поручению этим вопросом и начал уже заниматься Аван Даутович Акчурин. Нужно поручить ему продолжить эту работу.
В конце совещания Муртазин заявил, что вместе с главным инженером наметит конкретные меры.
– На этом, кажется, всё, – заключил он. Назирову он велел остаться.
Когда все вышли из кабинета, Муртазин попросил Назирова рассказать, когда и какой институт он закончил, на каких заводах работал, давно ли начальником цеха. Поинтересовался также, за что ему было присвоено звание лауреата, и, узнав, что Назиров получил его за коллективный труд ещё в институте, молча кивнул головой. Зато очень подробно расспрашивал, в каком состоянии находится проект на данный момент, интересуясь его мельчайшими деталями.
Выслушав ответы Назирова, Муртазин встал.
– Пока не ознакомлюсь с вашим проектом сам, – сказал он, – не скажу своего последнего слова, хотя вижу – вам очень хочется услышать его. Потерпите немного. Но независимо от того, будет приемлем ваш проект в целом, нет ли, хвалю уже за одно – за смелость. Вы замахнулись по-крупному. На священные каноны, так сказать. Поток в серийном производстве?.. Да это всеми богами науки отвергнуто. А вы восстаёте. И хорошо делаете… Продолжайте свою работу в этом направлении. Я ещё вызову вас. Если нужна будет помощь, звоните, заходите. Не стесняйтесь… Договорились? Желаю успеха.
Назиров вернулся в механический цех окрылённым. Столкнувшись с Надеждой Николаевной, порадовал и её приятной новостью. Забежал в конторку, чтобы позвонить Гульчире. Но её не оказалось на месте. «Пошла по цехам», – объяснили ему. Это немного испортило Назирову настроение. Такая минута, а он лишён возможности поделиться радостью с Гульчирой, передать свой душевный разговор с новым директором. Вдруг зазвонил телефон. Назиров схватил трубку, думая, что это Гульчира. Но оказалось, что звонит Шамсия, телефонистка заводского коммутатора.
– Азатик, поздравляю, – пропищала она кокетливым голоском. – Говорят, ты произвёл фурор своим выступлением… прямо-таки очаровал нового директора, Идмас в восторге от твоего успеха!..
У Назирова вырвался довольный смешок. Идмас в восторге!.. И когда успела узнать! А Гульчира небось и не слышала ещё. А и услышит, виду не покажет, что рада за него. Она ведь другая.
«Позволь, позволь, друг Азат, что это?.. С чего ты вдруг так обрадовался, услышав об Идмас, когда думаешь о Гульчире?..»
4
Сдвинув кепку козырьком назад, Сулейман не отрывал глаз от резца. Чёрная, шершавая, точно осколок метеорита, сталь делалась под его пальцами всё более гладкой. Вот она, зеркально засверкав, стала принимать затейливую форму коленчатого вала. Хотя старик Сулейман и любил похвастать, что не съел столько хлеба за жизнь, сколько обработал деталей, до сих пор каждая новая деталь вызывала в нём радостный трепет. Радость эта прорывалась в лёгкой улыбке да в том, что теплел взгляд его озабоченных глаз. Но порой это чувство радости, удовлетворения своим трудом было столь сильным, что он, не имея сил таить его в себе, готов был хвастать готовой деталью перед всем цехом.
– Смотрите, ведь точно живая… Поёт, чёрт возьми! – говорил он, показывая друзьям мастерски сработанную деталь. В такие минуты он преображался, казалось, в нём самом всё пело. Он походил скорее на вдохновенного художника, чем на занятого своим делом рабочего человека.
Всю жизнь свою он был жаден до работы, трудился, как говорится, высовывая из одного рукава две руки. Ещё мальчишкой, выточив на отцовском токарном станке первую деталь, он несколько месяцев таскал её в кармане, показывая на зависть приятелям каждому встречному слободскому мальчишке, и хвастался при этом без удержу. С теми мальчишками, которые не верили ему, поддразнивали, что вовсе, дескать, не сам он выточил её, а отец, он схватывался до крови. Поверившие в него становились самыми близкими друзьями, он их водил через потайную лазейку в заборе на завод: пусть, мол, сами убедятся, что это он, Сулейман, а не кто другой работает на токарном станке. Неописуема была радость Сулеймана, когда он получил свою первую получку – медный пятак величиной с лошадиный глаз. Приняв из рук мастера тяжёлую медную монету, он крепко-накрепко зажал её в своей ещё детской ладошке и через свалки ржавого железного лома, мимо штабелей ящиков и пришедших в негодность машин бросился стремглав домой. Он не помнил, как, протиснувшись через лазейку в заборе, очутился в грязном проулке. Он представлялся себе в ту минуту «страшенным богачом» и воображал, что на этот истёртый медный пятак смог бы купить при желании всю лавочку хромого Шайхуллы. Мать погладила его по голове и сказала:
– Покажи руку.
На ладони Сулеймана остался багровый круг – след от монеты.
– Богатым будешь, сынок, – сказала мать, – золотые руки будут.
Кто только позже не повторял ему этих слов! И, надо сказать, Сулейман никогда при этом не корчил из себя скромника, не опускал глаз. Наоборот, закатываясь весёлым хохотом, гордо говорил:
– Чего же тут удивительного… Такая уж наша порода – мастеровых людей… Аглицкую блоху и ту подковать сумели!
Однако всякому настроению своё время. Сегодня Сулейман скорее выглядел огорчённым, чем обрадованным. Он ведь и без Назирова знал, сколь остра сейчас нужда в коленчатых валах. И с каждым днём она будет ещё острее. Завтра-послезавтра этих самых коленчатых валов понадобится ещё больше. Значит, нужно найти способ быстрее их обрабатывать. Но как? Сулейман не раз пробовал подступиться к этой задаче: то скорость увеличивал, то подачу, то глубину её, придумывал различные приспособления – всё было бесполезно. Грозным, предостерегающим стражем на пути токаря стояла вибрация. Она точно издевалась над ним: «Будь ты Сулейманом о четырёх головах – всё равно тебе через меня не перепрыгнуть! Не дам увеличить ни скорость, ни подачу, ни глубину. На этом деле ломают копья не только рабочие, изобретатели, но и учёные люди. Отвяжись, ищи иные пути».
Крутой волной поднималась в Сулеймане злость, – он не умел ни отступать, ни обходить трудности стороной. Такой уж у него был характер, для него существовала лишь одна дорога – дорога напрямик. «Всё равно сверну тебе башку… открою твой секрет, ведьма шелудивая!» Случалось, Сулейман говорил это вслух, – вибрация для него стала как бы живым существом, с которым хотелось спорить, ругаться, драться…
Мысль Сулеймана работала в этом направлении непрерывно, независимо, был ли он на работе или отдыхал у себя дома. Эта проклятая вибрация преследовала его даже во сне.
Посоветовавшись с мастером, Сулейман решил ещё раз попробовать увеличить скорость на своём станке, всего несколько дней как заново поставленном на цемент. Обработал один вал, другой. Станок устоял, но поверхность детали ровной не получалась. Тогда Сулейман убавил скорость. Странно, поверхность детали не получилась гладкой и на этот раз.
– Га, что за чертовщина! – выругался Сулейман и очень долго смотрел на вал через увеличительное стекло.
Волнистые следы резца были видны отчётливо.
Сулейман подозвал Матвея Яковлевича – он работал на соседнем станке – и показал ему деталь.
– В чём, по-твоему, загвоздка, га?
– Всё та же вибрация, – ответил Матвей Яковлевич. – Или станок вибрирует, или резец. Или деталь вместе с резцом.
Приставив ко лбу указательный палец, Сулейман задумался.
– Или резец, или станок, или… деталь… – шёпотом повторил он.
Станок, деталь, резец – вот три основных источника вибрации. Какой же из них основной в данном случае? До этого раза Сулейману в голову не приходило рассматривать вибрацию по частям. «А что, если изучать каждый из этих источников в отдельности?» – размышлял он.
На его счастье, через цех проходил Иштуган. Сулейман поманил сына, дал ему лупу и, показав вал, высказал пришедшую ему только что мысль.
Иштуган задумался. Пока что ничего определённого сказать нельзя, но сам по себе подобный метод увлекателен. Многообещающий метод.
– Подумай-ка поосновательнее над этим, сынок, – сказал Сулейман, подметив явную заинтересованность Иштугана. – У тебя и голова помоложе, да и пограмотнее ты меня, старика. Я хоть и не сдаюсь – характер не позволяет, – но всё же, чего от тебя скрывать, сильно разболтались мои гайки. И учёности во мне нет. А ты пальцем подвигаешь туда-сюда планочки на линейке – и готов весь расчёт. Как говорят, башка у тебя лучше варит.
– Ты, отец, не ищи слабого места, не хитри… – усмехнулся Иштуган. – Я уже взял обязательство помочь литейщикам. Пробую механизировать обработку стержней. А то они вручную маются.
– Га! – воскликнул Сулейман. – Литейщикам помогаешь, а родному отцу – от ворот поворот. Смотрю я на тебя, парень, да ещё раз поглядываю: в разъездах по командировкам совсем, видно, забывать стал, чей ты сын.
В этих внешне грубоватых словах прозвучало столько отцовской гордости и любви, что сердце у Иштугана дрогнуло, как бывало в детстве, когда отец, посадив мальчонку к себе на колени, гладил его по головке. Но внешне он, так же как и отец, сказал немного грубовато:
– Ладно, дома потолкуем, на свободе, отец… Не прерывай своих наблюдений.
– Это мы кумекаем и без тебя, – отрезал старик.
Иштуган задержался ещё минуту у отцовского станка, забрызганного мокрой стружкой, потом спросил:
– Отец, ты видел джизни?
– Нет, а что?
– Он со мной по телефону говорил. В командировку приказывает ехать.
– Ну?! По телефону? А ты?
– Неохота мне уезжать. Занялся бы стержнями, вибрацией… Да и в своём цеху работы по горло. Учёбу совсем забросил.
– Это верно… Может, мне поговорить с ним? Я могу отбросить свою гордость… ради дела… Крепко он обидел нас, сынок. Гостиницу предпочёл дому самой близкой родни. Не захотел нашего порога переступить. Неужели и со мной по телефону будет говорить? Вот это да!
– Верно, у него свои соображения.
– Какие там соображения!.. – нетерпеливо отверг Сулейман. – Дурость одна… Так что же, поговорить?..
– Нет, не стоит, отец. Давай не будем путать родственные отношения с заводским делом. Это к добру не приведёт.
«Родственные отношения?.. – размышлял после ухода сына Сулейман. – А есть они, эти самые родственные отношения?.. Разве завод и наш дом не две стороны одной медали? Попробуй расколи меня пополам… Да что я, арбуз, что ли? Нет, сынок, тут ты того…»
5
К середине дня Матвей Яковлевич немного успокоился. Будто постепенно вместе с твёрдым металлом острый резец снимал и ледяную корочку, что обволокла его сердце, будто рукояткой ключа сталкивал он в жестяной ящик под станком не только сизые, обжигающие стружки, но и отлетающие от сердца кусочки льда. Облегчённо вздохнув, он почувствовал, как постепенно наливаются теплом концы его похолодевших пальцев и приобретают прежнюю остроту осязания.
У него и в помыслах никогда не было, чтобы он мог вот так встретиться с Хасаном, так жестоко в нём обмануться. Однако сейчас уже Матвей Яковлевич больше, чем за себя, огорчался за свою старуху: бегает, небось, по базару в поисках солёных грибков для своего бывшего питомца.
Но работа была жаркая, и Матвею Яковлевичу просто-напросто не было ни возможности, ни времени особенно-то отдаваться своим горьким думам. Рабочие сборочного стояли над душой, каждую готовую деталь прямо-таки из рук рвали. То и дело наведывался к его станку и сам начальник сборочного цеха.
Не удалось Матвею Яковлевичу побыть одному и во время обеденного перерыва. Только успел он остановить станок, как подбежал парторг цеха Алёша Сидорин. Этот парень, с такой развитой мускулатурой, что, казалось, полосатая тельняшка вот-вот лопнет на нём, мягко посмотрев на Матвея Яковлевича своими бирюзовыми, как морская вода, глазами и протянув ему руку, сказал:
– Нужно поднимать народ на аврал, Яковлич. Мы посовещались на бюро и решили провести на днях открытое партийное собрание. Что скажет на это наш профком?
– Очень своевременно будет, Алёша, – одобрил Матвей Яковлевич, перебиравший инструменты. – Время увлечения отдельными рекордсменами миновало.
– Точно. Весь коллектив нужно выстроить в один кильватер. – Сидорин потоптался на месте, погладил большой рукой ещё не успевшую остыть коробку скоростей. – В море это легко делается, дадут команду – и вся недолга. А здесь одной командой не обойдёшься. Здесь нужно другое слово. Поэтому, Яковлич, мы просим вас выступить с докладом, и товарищ Гаязов одобряет это наше решение.
Матвей Яковлевич покачал головой и, как-то весь сразу съёжившись, сказал:
– Нет, Алёша, я хоть и профком, но для докладов староват буду. Найдите кого помоложе. У молодых и напора побольше, и посмелее они… А мне… – Он махнул рукой. – Старик я… Чего уж там…
В бирюзовых глазах Сидорина сверкнул лукавый огонёк.
– Ну, знаете, Матвей Яковлич, если на то пошло, вам уж этого напора не занимать! Наоборот, мне думается, молодым не мешало бы у вас поучиться кое-каким вещам… Так вот, Матвей Яковлич, дело не только в том, чтобы найти докладчика. Азат Хайбуллович и Надежда Николаевна не отказались бы сделать доклад. Дело в том… – Сидорин поскрёб пятернёй свои русые кудри. – Как бы это сказать… Если мы поднимем вопрос снизу, то лучше дойдёт до рабочего. Увеличение вдвое плана на установки – это штука очень даже не шуточная, Яковлич. Без того по горло хватало, а тут ещё вдвое. Тут, Яковлич, требуется такое слово, чтобы оно подхватило тебя, как девятый вал во время шторма. Так что не отказывайтесь, Матвей Яковлич… А материалы, факты мы вам сами подберём.
– Их и подбирать нечего, они перед глазами, – протянул Погорельцев задумчиво.
– В таком случае точка. Договорились? Спасибо, Яковлич. Бегу в камбуз.
И своей походкой чуть вразвалку Сидорин отправился в столовую. Матвей Яковлевич хотел было крикнуть ему вслед: «Куда ты, ведь я ещё не дал согласия», но передумал, махнул рукой: этот матрос всё равно настоит на своём.
Матвею Яковлевичу тоже нужно было торопиться в столовую.
Солнечный свет, проникавший сквозь мелко зарешёченные стёкла огромных окон, заливал стену напротив. Матвей Яковлевич шёл по затихшему цеху, поглядывая на длинную голую стену. Редкие плакаты, лозунги давно устарели, а доска соревнования была покрыта пылью. Ближе к входу в цех толпилась кучка рабочих. Там похожий на медвежонка Саша Уваров и долговязый Баламир Вафин прикрепляли к стене новый номер заводского «Чаяна»[7]. Матвей Яковлевич тоже подошёл. Вытянув шею, он через головы пересмеивающейся, обменивающейся замечаниями молодёжи окинул взглядом «Чаян». В верхнем углу, как раз под изображением скорпиона, крупными буквами было выведено:
«Дорогой Чаян! Просим напомнить нижеследующим членам профсоюза, чтобы они уплатили членские взносы:
1. Аухадиев – за 7 месяцев.
2. Силантьев – за 5 месяцев.
3. Шарафутдинов – за 4 месяца.
4. Самарина – за 4 месяца…»
Матвей Яковлевич потянул за рукав Сашу Уварова, с удовлетворением рассматривавшего свою работу.
– Оглянись-ка, Саша, – сказал он комсоргу. – Как, по-твоему, выглядят стены у нас в цеху?
Уваров, не совсем понимая, окинул глазами освещённую солнцем стену.
– Д-да, видик!.. Непрезентабельный, надо сказать…
– И мне так думается. Надо бы новые лозунги повесить. И плакаты новые. Видал, сколько народу собрал вокруг себя новый номер «Чаяна»? А через два-три дня ты уже человека здесь не увидишь. То же самое и с лозунгами, с плакатами. Пока они новые, они в глаза бросаются, а повисели недельку – их и замечать перестают. Зайди-ка вечерком в завком. Поговорим с Пантелеем Лукьянычем. И затем – где же ваша инициатива, комсомол? Почему не организуешь комсомольские рейды, чтобы следили за чистотой в цеху… Комсомольские сигнальные посты молчат, будто воды в рот набрали… А это разве порядок? Смотри, – показал он рукой на горящие тут и там лампочки, – на время обеденного перерыва можно бы и выключить свет.
В это время сверху раздался звонкий девичий голос:
– Саша, поди-ка сюда.
Матвей Яковлевич обернулся, поднял голову. Наверху, в кабине крана, который чуть не задевал потолок, сидела крановщица Майя. Она уже подкрепилась и сейчас запивала свой обед прямо из бутылки молоком. По барьеру мостового крана, установленного поперёк цеха, было натянуто красное полотнище, на котором когда-то был написан белой краской лозунг, но сейчас буквы стёрлись, можно было разобрать лишь одно слово: «…брак…»
Матвей Яковлевич, без слов показав пальцем на лозунг, многозначительно развёл руками. Оставив покрасневшего до ушей парня в полной растерянности, он пошёл дальше.
Вдоль стены было множество маленьких фонтанчиков. Здесь рабочие утоляли жажду. Летом в подставки под фонтанчиками старики рабочие клали бутылки с молоком, чтобы молоко не скисло. В эту пору у фонтанчиков никого не было, не видно и бутылок в подставках. Опускались сюда попить лишь прижившиеся в цехе голуби. Матвей Яковлевич сполоснул под умывальником руки и через залитый солнцем двор пошёл в столовую. У лестницы его остановил фрезеровщик Кукушкин. Этот человек, в старинных, с металлическими ободками очках, с коротко подрезанными каштановыми усами, при разговоре всегда смотревший под ноги, был одним из лучших фрезеровщиков цеха, активист-общественник с незапамятных времён, и, однако, Матвей Яковлевич не помнил, чтобы Кукушкин хоть раз обратился к кому-нибудь из завкомовцев с какой бы то ни было просьбой. Поэтому, когда тот сказал, что у него есть просьба к Матвею Яковлевичу, Погорельцев приготовился выслушать его с большим вниманием.
Оказалось, что у Кукушкина пришло в негодность жильё. Во время недавних дождей обвалился потолок. Как профорг и член завкома, Матвей Яковлевич занимался жилищными вопросами.
– Ты, Андрей Павлыч, всё на Овражной обретаешься?
– А где же мне быть?
– Давно бы пора в новый дом переехать. Эдакую уймищу домов понастроили, сколько квартир роздали. Что-то я не помню, чтобы ты заявление подавал…
– Что правда, то правда… Не писал пока.
– Ладно… Сегодня же после работы загляну. Будешь дома?
– Где ж иначе? Наше время прошло, отбегались, – улыбнулся Кукушкин.
На обратном пути Матвей Яковлевич задержался у чёрной доски, что висела на стене у самых дверей. На ней мелом заносили обычно фамилии рабочих, допустивших брак. Сердце у Матвея Яковлевича заныло, когда среди других имён он увидел фамилию сверловщицы Лизы Самариной: «Как же ты так, Лизавета?.. Вот и в «Чаяне» тебя помянули – с профсоюзными взносами у тебя непорядок…»
У внутренних дверей цеха Погорельцеву встретилась Майя. Увидев старика, она зарделась и с быстротой ласточки скрылась в складской комнате.
Матвей Яковлевич посмотрел на кран. Полотнища на барьере уже не было. Старик, улыбнувшись себе в усы, покачал головой. Сколько времени эта девчушка летала из одного конца цеха в другой с этим обидным словом и не видела его. Лампочки тоже были все выключены. А на дверях конторки мастера висела бумажка: «Товарищ мастер, вы не экономите электроэнергию. Уходя, гасите свет! Комсомольский пост».
С Лизой Самариной он попозже поговорил, – улучил минутку, когда ходил менять инструмент. Остановившись поодаль, он понаблюдал за ней со стороны. Стоптанные старые резиновые боты. Застиранный чёрный платок. Такой же халат. «Нелегко, видно, живётся без мужа-то». Самарина поднимала с полу тяжёлые детали и, закрепив в станке, сверлила их, затем снова опускала на пол, уже с другого бока.
«Сколько раз она эдак должна наклониться за смену? – подумал Матвей Яковлевич. – И как только выдерживает у неё спина?» – пожалел он бедную женщину.
Что же это получается? Выходит, её основная работа не сверление, а перемещение деталей с места на место. На само же сверление уходит совсем незначительная часть рабочего времени. «А тоже толкуем о повышении производительности труда!.. Разве нельзя поставить возле её станка стол и класть на него детали… А сама-то Елизавета, должна же она видеть это. Не со вчерашнего дня на производстве…» И опять сжалось сердце у Матвея Яковлевича, как тогда, когда он стоял у чёрной доски.
Лиза Самарина пришла на производство ещё до войны. Она была худенькой, проказливой девчонкой, хохотушкой, любившей попеть, поплясать.
За два-три года работы эта весёлая хохотушка достигла того, что её портреты буквально не сходили со страниц газеты, с витрин производственных показателей. В те годы очень часто приходилось слышать и читать такие слова: «Передовая производственница Лиза Самарина…», «Стахановка Лиза Самарина…», «Регулярно перевыполняющая план Самарина…»
И, нужно сказать правду, хотя и хохотушкой была, а умела держать себя, с парнями не хороводилась. Не вскружили ей голову и шумные успехи, как случалось с некоторыми. Носа не задирала. Её улыбчивость, застенчивое смущение в разговоре со стариками, её скромность создали ей крепкое уважение всего коллектива. Выйдя замуж и став матерью, она не бросила производства. Никто и не заметил, как она утратила славу передовой работницы.
В пору, когда имя Лизы шумело на весь завод, она работала токарем. Потом её перевели на револьверный станок, с револьверного – на болторезный, что оставался ещё от старых хозяев. С какого момента, почему мастера стали опасаться давать ей ответственную работу? Когда, каким образом безобидная проказница, хохотушка и певунья Лиза превратилась в замкнутую, злую на язык, бранчливую ворчунью Самарину? Ведь теперь не найти в цехе человека, который бы называл её Лизой, Лизаветой или хотя бы Елизаветой Фёдоровной. Теперь к ней обращаются только по фамилии. Как же, почему забылось когда-то во всём такое приятное имя – Лиза, Лизавета, которое так любили старики и молодёжь?
Все эти вопросы ворохом полезли в голову Матвея Яковлевича. И он всё больше хмурил брови, потому что чувствовал и свою долю вины в этой истории. «Половину жизни проводим бок о бок в цеху, а чем дышит человек, толком не знаем», – подумал он.
– Как дела, Лизавета? – обратился по имени к Самариной Матвей Яковлевич.
Самарина вздрогнула и раздражённо оглянулась: кому там ещё вздумалось потешаться над ней?.. Но при виде седоусого Погорельцева успокоилась, как видно, на этот счёт и сухо бросила:
– Поди, сами видите…
Румяное, когда-то улыбчивое лицо её поблёкло. Из-под платка выбились пряди начавших седеть волос.
Матвей Яковлевич, не обращая внимания на сухость тона, продолжал:
– Потолковать бы мне надобно с тобой, Лизавета. После работы как, не сможешь остаться? Ненадолго…
– Нет, не смогу, – отрезала женщина.
– Тогда завтра в обед?
– Да о чём толк-то? О браке или о профсоюзных взносах?
– И об этом, и вообще о жизни…
– Ладно, как-нибудь при случае поговорим, не горит… – равнодушно отозвалась Самарина и, сняв со станка деталь, со звоном опустила её на пол. Перенесла корпус влево, подняла очередную деталь и, закрепив, включила станок.
Старый производственник, вся жизнь которого прошла в труде, хорошо знал, что такое работа с любовью и что такое постылое отбывание службы. Для него не составляло особого труда разглядеть, что Самарина работает без увлечения, более того – работа раздражает её. Делает она её одними руками, мысли её далеко.
6
Сулейман, у которого работа нынче с утра шла с редким подъёмом, на обратном пути из столовой то и дело яростно отплёвывался. Он до такой степени был вне себя, так громко ругался, что все невольно оборачивались на него.
– Что стряслось с нашим Сулейманом-абзы?.. Кого это угораздило до такой степени растравить его? – спрашивали друг друга рабочие. И каждый объяснял его состояние по-своему, но никто не смог угадать истины.
«Тоже поди из-за Хасана Шакировича», – подумал Матвей Яковлевич, который всё утро сегодня избегал Сулеймана, боясь, как бы не выдать случайно душевной своей обиды. Он знал, как горяч и безрассуден Сулейман в таких случаях. «Ну, не узнал… Не счёл нужным проведать стариков… Что ж, всяко бывает. Стоит ли говорить об этом. Сулейман – другое дело. Он тесть… А чего ради ему из-за меня портить родственные отношения?» – размышлял Погорельцев, то и дело поглядывая на Сулеймана. А тот, яростно расшвыривая инструменты, ни за что ни про что накидывался то на контролёра, то на рабочих – на всех, кто бы ни подошёл к его станку.
Но Матвей Яковлевич не угадал. Разбушевался Сулейман вовсе не из-за Хасана Шакировича.
Дело было вот в чём. Второй сын Сулеймана Ильмурза, погнув некоторое время свою изнеженную спину у токарного станка, переметнулся на слесарную работу, а когда и эта специальность пришлась ему не по нраву, попросился в разметчики. Но и к этому делу что-то не лежала у него душа, и он скоро очутился на выдаче инструментов, оттуда попросился на центральный склад. Сулейману-абзы с самого начала не понравились эти «скоки-перескоки», как он выражался. Возмущало его в Ильмурзе то, что сын позволил себе изменить «рабочей династии» Уразметовых. Между ними частенько вспыхивали стычки, заканчивавшиеся довольно крупными размолвками. Всё это было пока терпимо. Но сегодня случилось невероятное: Сулейман-абзы увидел своего сына за буфетным прилавком. Несколько мгновений он рта не в силах был раскрыть, глядя на Ильмурзу, повязанного передником. Он чувствовал, что опозорен, унижен перед всеми этими людьми, битком набившими столовую. Жилы на его крепко сжатых кулаках вздулись. От смуглого в масляных пятнах лица отлила вся кровь, оно посинело, затем стало всё больше и больше багроветь. Да тут ещё кто-то съязвил:
– Сулейман-абзы, вам без очереди… Теперь у вас сын – персона, главный буфетчик.
Все расхохотались. Горячке Сулейману этого было достаточно. Чёрные глаза его зло сверкнули. Издав какой-то дикий вопль, он в мгновение ока очутился за буфетной стойкой и, схватив сына за грудки, уволок его в заднюю комнату.
– Ты что, собачья нога!.. – прохрипел он, задыхаясь. – С какой харей встал ты за прилавок?.. Ты что, барышня, га? Сын Сулеймана – за буфетом!.. – Он с силой отшвырнул его от себя… Загромыхала не то кастрюля, не то ведро, опрокинутое Ильмурзой. – Тьфу!.. А завтра ты, может, пиво надумаешь продавать на углу. Говорят же добрые люди: жулики из пены дома строят.
– Меру надо знать, отец, – буркнул Ильмурза, завязывая оборвавшиеся тесёмки передника. Хотя он очень был сердит на отца за публичный скандал, но держал себя в руках. – Иди-ка лучше обедать… Дома вечером поговорим…
Но Сулейман даже обедать не стал. Ругаясь и отплёвываясь, он пошёл обратно в цех.
Работа немного успокоила его, но чувство приподнятости, чистого, радостного удовлетворения, которое владело им с утра, уже не возвращалось.
И когда Матвей Яковлевич пригласил его после работы зайти к Андрею Павловичу, Сулейман охотно согласился. Домой не тянуло. «Встретишься с Ильмурзой – опять, чего доброго, накричишь. Сердитого ум покидает. Немного поостыть требуется», – подумал он.
Свалившаяся неожиданно история с Ильмурзой на время отвлекла мысли Сулеймана от зятя. Не случись этой беды, он давно бы рассказал другу, как глубоко зять обидел его. А теперь он молчал. Молчал и Матвей Яковлевич. Лицо его было хмуро, белые как снег густые брови сошлись на переносице, глаза смотрели сосредоточенно, куда-то внутрь себя.
Выйдя из грохочущего железом, гудящего станками цеха, пропитанного запахами керосина, машинного масла и эмульсии, на тихую улицу, старики с удовольствием вдохнули свежий, полный осенних ароматов воздух. Солнце вот-вот должно скрыться за высокими, многоэтажными домами, поперёк улицы протянулись длинные тени. По асфальту будто расстелили чёрный бархат, и оттого, что у этих немолодых рабочих людей от усталости слегка дрожали ноги, асфальт казался им даже мягким, как в летний зной. Из-за пятиэтажного каменного дома выплывала ослепительно белая груда облаков, похожая на фантастических очертаний скалу. Постепенно надвигаясь, она всё увеличивалась в размерах.
– На охоту бы сходить, парень, – шагая с выпяченной грудью и заложенными за спину руками, сказал Сулейман, следя глазами за причудливой грудой облаков. – Не то нутро всё мохом обрастёт.
– Не мешало бы. Да, пожалуй, до праздников не придётся, дрова пилить нужно… – сказал Матвей Яковлевич.
И больше они до самого дома Андрея Павловича не проронили ни слова.
Кукушкин встретил их у ворот и, посмеиваясь, пригласил осмотреть его «домик с мезонином».
Слепленный из глины и стружки домишко, приткнувшийся на склоне горы, действительно никуда не годился. Но вдоль сухого оврага Кукушкин вырастил такой чудесный сад, что старики диву давались. Чего только не было здесь: ряды заботливо выхоженных плодовых кустов, вишни, яблони, клумбы с какими-то диковинными цветами. Этот расположенный в закрытом безветренном овраге сад всё ещё был полон сладкого – слаще мёда – благоухания, хотя урожай с него, даже поздние яблоки, был собран и осень уже дохнула на него своим жёлтым дыханием.
– Вот за что, оказывается, цепляется наш Кукушка, – обратился Матвей Яковлевич к Сулейману. – Если дать тебе квартиру в новом доме, Андрей Павлыч, сад небось пожалеешь бросить. Что, угадал?
– Мне квартира не нужна, Яковлич, – подтвердил Кукушкин. – В этом доме третье поколение Кукушкиных живёт. Не смогу я порушить семейные традиции. Вот молодёжь подрастёт – ну, та пусть сама как хочет… А мне… Если завод поможет малость стройматериалами, и того хватит. Думал, зиму как-нибудь перетерпим, а с весны начнём ремонт. Да дожди всё дело испортили… Пожалуйте в беседку.
– А у тебя яблони по второму разу не цвели, Андрей Павлыч? – спросил Погорельцев, оглядываясь и не примечая в саду яблоневого цвету.
– Оборвал, – улыбнулся Кукушкин.
Они прошли по узкой дорожке, посыпанной чистым речным песком, мимо ласкающих глаз богатством оттенков цветочных клумб в обвитую хмелем беседку. Усадив гостей на собственного изделия плетёные стулья, Кукушкин не без гордости водрузил на стол кузовок с аппетитными розовато-белыми яблоками.
– Прошу отведать! Не подумайте, что с базара… из своего сада…
– Благодать-то какая здесь у тебя, Андрей Павлыч. Совсем как на даче Ярикова, – улыбнулся из-под усов Сулейман. Потянулся за яблоком и, с хрустом впившись в него зубами, зажмурил глаза. – Хорошо, проклятое!
– В нашем городе не умеют дорожить землёй, – сказал Кукушкин, присев напротив. – Сколько оврагов пустует!.. Смотришь на эти овраги – сердце болит. Ведь кругом людей полно, так почему же не повозиться немного после работы с лопатой? Будь столько пустующей земли у узбеков, скажем, или у кавказцев, они рай создали бы вокруг своих домов. А у нас всё ждут, чтобы государство сделало. Разобьёт нам государство сад – мы, так уж и быть, снизошли бы, отдыхали там…
– Истинную правду говоришь, Андрей Павлыч, – согласился Сулейман. – Любят у нас готовенькое.
– К тебе, Андрей Павлыч, комсомольцев надо прислать. Пусть посмотрят, поучатся, – сказал Матвей Яковлевич. Сам того не подозревая, он уже готовился к своему будущему докладу.
– Рад буду, – ответил Кукушкин. – Давно пора нам озеленить цеха. Зелёный цвет – он человеческому глазу отдых даёт. А мы имеем дело с микронами, нам зрение беречь нужно.
– А по ту сторону кто живёт? – кивнул Матвей Яковлевич на дальний конец сада. Там сквозь густую зелень виднелся угол нового дома с белыми наличниками и террасой. – Котельниковы?
– Они.
– Ишь ты, и новый дом поставить успели.
– Не мешкают.
Братья Котельниковы работали на заводе кузнецами. Старший, хотя ему было немногим больше тридцати, носил бороду. Младший, видимо в подражание старшему, отпустил усы. На заводе о них болтали разное: кто хвалил, кто ругал. Председатель завкома Пантелей Лукьянович в пылу словесной перепалки обозвал даже старшего Котельникова на одном из собраний живодёром. Но Котельников ничуть на то не обиделся.
– Не пересмотрите расценки, – пригрозил он председателю завкома, – я и с вас шкуру спущу.
Но – удивительно! – секретарь парткома Гаязов относится к ним с большой теплотой. Даже в дом к ним захаживает. Вчера только был.
– Сдаётся мне, затевают что-то Котельниковы… И немаловажное, – сказал Андрей Павлович. – Пробовал я закинуть удочку, – куда там. «Я, – это бородач-то говорит, – не кукушка, чтобы наперёд куковать. – Андрей Павлович покачал, усмехаясь, головой. – Вот начнём, – тогда и увидите».
– И правильно, – одобрил Сулейман. – От такого человека, что сделает на копейку, а накричит на десять, толку ждать не приходится.
– Я слышал, будто план заводу увеличивают… Новых рабочих набирают, – переменил разговор Кукушкин. – Верно это? Вы поближе к начальству – поди, знаете.
– Верно-то верно, – ответил Матвей Яковлевич. – Только прежде не мешало бы подумать, как лучше организовать работу среди уже имеющихся рабочих. Тогда, может, и новых рабочих не потребуется набирать.
И он рассказал товарищам о своих наблюдениях за работой Лизы Самариной.
– Да, многонько наши станки вхолостую крутятся, – согласился Сулейман. – Подсобные операции съедают куда больше времени, чем основная.
– Это точно, – подтвердил и Кукушкин. – И всё же увеличение плана в два раза крепкий орешек будет.
– Это каждому ясно, Андрей Павлыч. Да ведь коли так надобно, ничего не поделаешь…
– Я ещё как прочёл в газетах о решениях Сентябрьского пленума, подумал, что к нашему заводу это имеет самое прямое касательство. Уж придётся теперь всем поломать голову над усовершенствованием наших машин!
Подул северный ветер. Но он коснулся лишь самых верхушек плодовых деревьев. И сразу потемнело вокруг. Из-за леса, от Игумнова, наплывали тяжёлые чёрные тучи. Того и гляди, снег пойдёт.
– Что так долго, Яковлич? – встретила Ольга Александровна мужа беспокойным вопросом. – И бледный какой-то… Уж не захворал ли?
Матвей Яковлевич, не отвечая, раздевался.
– Что, не было времени у Хасана Шакировича? – осторожно спросила Ольга Александровна.
Погорельцев, передёрнувшись, поднял на старуху тяжёлый, хмурый взгляд. Ольга Александровна сразу вся как-то поникла, обмякла. Долго стоял так, точно онемев Матвей Яковлевич. Затем, тяжело передвигая ноги, подошёл к жене и сказал:
– Прости, Олюша… Ты-то ни в чём не виновата…
7
Положив на колени иссохшие руки с утолщёнными в пальцах суставами, бабушка Минзифа сидела в комнатке Баламира. На плечи поверх белого в крапинку платка она накинула пуховую шаль. Услышав, что кто-то вошёл, она склонила голову, прислушалась, но, определив по голосу, что пришёл не Баламир, опять застыла в прежней позе.
Долгий путь очень утомил бабушку Минзифу. Сначала она ехала на лошади, затем на пароходе, в четвёртом классе, среди бочек. Она уже каялась, зачем поехала. Сейчас ей страсть как хотелось вздремнуть, но на Баламирову кровать она лечь не решалась. Старушка с удовольствием устроилась бы на полу, да постеснялась хозяев – не подумали бы, что Минзифа неряшлива. Правда, Ольга Александровна предложила ей полежать у них в большой комнате на диване, но как могла она осмелиться беспокоить совершенно незнакомых людей. А у Баламира в комнате, не считая кровати, кроме пары стульев да маленького столика, ничего больше не было. Правда, сама комнатка, хоть и очень невелика, сухая, чистая, светлая. И цветок есть на окне.
Бабушка Минзифа была не очень разговорчивой старухой. Она не расспрашивала Ольгу Александровну о Баламире. И свою душу не хотелось раскрывать перед незнакомыми людьми. Ещё неизвестно, что за люди. Возьмут да нажалуются на Баламира туда, где он работает.
Сейчас дети не больно-то о родных матерях заботятся – чего уж о бабушке говорить. Баламир, слава Аллаху, пока посылал ей деньги. Бывало, и сто и двести рублей пришлёт. Пусть Аллах Всевышний дарует ему красивую жизнь, пусть увидит он радости от внуков и правнуков своих, пусть руки-ноги его не знают болезней. Пусть сторицей вернутся Баламиру те деньги, что не пожалел он для бедной старухи Минзифы!
И всё же в душе Минзифы оставалась какая-то трещинка. Она ведь Баламиру за мать и за бабушку. Баламир был по счёту девятым ребёнком в семье, и потому рождение его никого не обрадовало. Бабушка Минзифа взяла его к себе. Сама и имя ему подобрала. Назвала его в честь древнего батыра, любимого героя легенд в их краях, Баламиром, сказав при этом: «Да будет дитя моё мужчиной»[8]. А забитая не знавшим жалости мужем мать, трудившаяся до одури, чтобы прокормить огромную семью, не имела свободной минуты, чтобы погрустить о своём последыше. Лишь проснувшись внезапно глухою ночной порой, скорбела она душой, что нет у груди малыша. «Ох, мама, – сказала она однажды бабушке Минзифе, вытирая слёзы концом грязного платка, – какой я страшный сон видела. Будто мой Баламир вышел поиграть на улицу. А я будто из окна смотрю и говорю: «Баламир, не ходи к цыплятам, глаза тебе наседка выклюет». И вдруг всё потемнело. На наш двор спустилась огромная чёрная птица, схватила когтями моего Баламира и взвилась в поднебесье. Я так испугалась, так закричала, что проснулась и долго лежала, вся тряслась, как лист…»
Бабушка Минзифа ума не могла приложить, как толковать этот сон, но только с того дня совсем потеряла она душевный покой, сердце её вечно томилось и ныло, как бы не случилось чего с её Баламиром. Это мучительное чувство, что вот-вот должна нагрянуть беда, осталось у неё на всю жизнь, оно и заставило её решиться, несмотря на болезнь, на такую дальнюю дорогу.
Больше года, почитай, будет, как не получала она от Баламира ни строчки. А ей, старухе, разве ж одни деньги нужны? Что за радость – деньги, коль не знаешь, как он там? Уж чего она, бедняга, не делала – и молитвы читала на сон грядущий в надежде, что наутро Аллах пошлёт ей письмо от Баламира, и милостыню подавала нищим. Увидит хороший сон – радуется: «Не иначе как письмо придёт от Баламира». Для неё не было бы большего счастья, как с конвертом в руках зайти к соседям: «Прочитайте, сделайте милость. Письмецо пришло от моего Баламира». Но нет, не навестило её счастье.
Этим летом бабушку Минзифу что-то часто тоска брала. «Верно, смерть моя приближается», – вздыхая, говорила она своим сверстницам-соседкам. Вероятно, по этой причине желание повидаться с Баламиром превратилось у неё чуть не в болезнь. Поначалу она ограничилась письмом Баламиру, в котором умоляла его приехать в деревню хотя бы на несколько дней. Не получив ответа, она попросила соседей написать Баламиру второе письмо, наконец, третье. Ответом было молчание. Тогда она, вверившись Аллаху, пустилась в дорогу, увязав в клетчатую домотканую скатерть свои скромные гостинцы. Спасибо, председатель колхоза дал лошадь до пристани. Ещё наказал ей: «Смотри, бабушка Минзифа, обязательно профессору покажись. Баламир теперь городской человек, пусть сводит!»
«Не рассердился бы Баламир, что притащилась, – думала бабушка Минзифа, упорно продолжая сидеть всё в той же позе в комнатке внука. – И домой проводить расход ему лишний будет. Не надо было мне, старой, трогаться с места, людей тревожить. Недаром говорится: старый, что малый. И какой злой дух вытолкнул мои кости из тёплого дома? О Аллах, умягчи сердца рабов твоих, ниспошли кротость и смирение…»
Легонько постучавшись в дверь, вошёл Матвей Яковлевич. Ласково поздоровался со старухой, расспросил вежливенько о здоровье. Бабушка Минзифа отвечала односложно, слово по-русски, слово по-татарски. Матвей Яковлевич с первого взгляда понял, что старуха сама не будет расспрашивать о внуке. Чтобы рассеять страхи бабушки Минзифы, Матвей Яковлевич сам принялся рассказывать ей о Баламире.
– У Баламира теперь специальность в руках. Вместе в одном цеху работаем. И зарплата у него неплохая. Одежонку кое-какую справил. Увидишь – не узнаешь… Вырос – под потолок. Разумный паренёк, не балует.
Матвей Яковлевич счёл за благо скрыть от старухи, что Баламир последнее время стал бегать за девушками, – и без того расстроена, зачем ещё больше расстраивать.
– Жену не собирается ли взять? – спросила старушка.
Матвей Яковлевич улыбнулся из-под седых усов своей доброй, приятной улыбкой, и бабушка Минзифа заключила про себя: «Хотя и не татарин, а, должно быть, хороший человек».
– Рановато ему, Минзифа-апа, прежде в армии надо отслужить. Пусть погуляет на свободе по молодому делу. А женится, сами понимаете… семья – хомут на шее. Да и жизнь начнёт прижимать.
Баламир всё не возвращался. Ольга Александровна опять стала приглашать бабушку Минзифу к чаю. В обычное время они в эту пору обедали, но, хотя обед был уже готов, Ольга Александровна поставила самовар, – бабушка Минзифа, по всему можно думать, не станет есть «пищу русских».
На этот раз Минзифа не заставила долго упрашивать себя. Не то Матвей Яковлевич больше понравился, чем старуха его, не то решила, что голова разболелась оттого, что давно чаю не пила. Выйдя на кухню, она вымыла руки и скромно села за стол.
«Плиточный чай заварила, аромат – на всю комнату… И молоко на столе. Смотри-ка, они, оказывается, совсем как мы, – обрадовавшись, подумала про себя старуха и пожелала мысленно: – Пусть снизойдёт на них счастье». Во время чая разговор вертелся больше вокруг Баламира, чем бабушка Минзифа была очень довольна. Она немало узнала про Баламира и теперь уже не раскаивалась, что приехала.
К концу чаепития она ещё больше освоилась с гостеприимными хозяевами и понемногу разговорилась. И Ольга Александровна и Матвей Яковлевич понимали по-татарски. Старики узнали, что у неё больной желудок. Ольга Александровна пообещала, что сама будет водить её к доктору, у них есть очень хороший знакомый врач. А у Баламира нет времени, он занят на работе. Минзифа очень обрадовалась и, сама не заметив как, посетовала, что Баламир давно уже не пишет ей.
– Неужели правда, Минзифа-апа? – поразилась Ольга Александровна. – А он ведь говорит, что на каждое письмо ваше отвечает. Старик вот мой не раз спрашивал у него…
Но бабушка Минзифа уже раскаивалась в душе, что сболтнула лишнее, и больше рта не раскрыла. На её сморщенном лице так явственно проступила скорбь, что старики угадали, какое горе гложет её сердце. Им стало неловко, точно и на них ложилась некоторая доля вины.
Баламир всё не возвращался, и, как ни крепилась бабушка Минзифа, усталость взяла своё – она задремала. Погорельцевы поставили в комнате Баламира раскладушку. Старушка тут же легла на неё и, свернувшись калачиком и подсунув под голову правую руку, уснула. Она казалась теперь такой маленькой, словно высохший лист.
Оставшись вдвоём, Ольга Александровна с Матвеем Яковлевичем занялись догадками, куда мог запропаститься Баламир.
– Нет, не за деньгами она приехала, по внуку соскучилась, бедняжка, – с горечью сказала Ольга Александровна. – Вот уж никак не предполагала, что Баламир так жесток со своими родными.
– Да-а, – задумчиво протянул Матвей Яковлевич. – Состарится человек, и начинают избегать его.
Вот как случилось, что Баламир пришёл жить к ним. Однажды, вернувшись с работы и увидев, что жена плачет, Матвей Яковлевич бросился к ней в тревоге:
– Что случилось, Оленька?
Вместо ответа она протянула ему извещение. Их приёмный сын Васятка погиб в боях за Берлин. У Матвея Яковлевича словно оборвалось что внутри. Он бессильно опустился на стул. После этого злосчастного дня Ольга Александровна затосковала.
– Конец нашей уютной жизни, Яковлич, – часто повторяла она. – Ушли навсегда из нашего дома радость, веселье, молодость.
Да Матвей Яковлевич и сам чувствовал это. Гибель Васятки состарила его сразу лет на десять.
Они стали подумывать о том, не взять ли опять сиротку на воспитание. Взять малыша? Пугала старость. И Матвей Яковлевич решил приглядеться к ребятам из ремесленного училища.
Был выходной день, когда Матвей Яковлевич собрался в ремесленное училище при заводе. Большинство учеников разошлось – кто в гости, кто к родным. В огромной пустой комнате общежития, облокотившись на подоконник, сидел в одиночестве мальчик лет тринадцати-четырнадцати. За окном лил дождь. Было холодно, неуютно, тоскливо.
Ткнув коменданта локтем в бок, Матвей Яковлевич спросил его шёпотом:
– Чего это мальчонка такой грустный?
Комендант, инвалид войны, рассказал, что мальчик-сирота, в городе близких у него никого нет.
– В будни, – сказал он, вздыхая, – среди товарищей он совсем другой, а как выходной – беда. Нахохлится, что выпавший из гнезда птенец. Смотрю на него – сердце кровью обливается. Сам рос сиротой. Знаю, как горьки слёзы сироты. Как-то пожалел его и взял к себе домой. На второй раз позвал – не пошёл. У меня жена… гм… как бы сказать… не любит она людей, Матвей Яковлич. Как придёт кто, сразу ощетинится…
Матвей Яковлевич увёл мальчика к себе.
Это был Баламир.
В день приезда бабушки Минзифы Баламир вернулся поздно – в первом часу ночи. Матвей Яковлевич уже спал. Когда Ольга Александровна, торопясь порадовать юношу приятной вестью, сообщила, что за гостья ждёт его, Баламир не проявил ни малейшего признака радости, даже шагу не прибавил. А она-то наивно полагала, что он опрометью бросится в свою комнату. Нахмурив брови, юноша холодно спросил:
– С какой это стати она притащилась?
– Иди, иди, поздоровайся сначала с бабушкой, – с упрёком сказала Ольга Александровна, легонько подталкивая его, – потом ужин подам, вместе поедите.
Баламир, не отвечая, молча разделся и пошёл мыть руки.
6
Баит – историческая песня, предание.
7
«Чаян» («Скорпион») – название сатирического журнала в Татарии.
8
Имя Баламир сложилось из двух слов: балам – дитя моё, ир – мужчина.