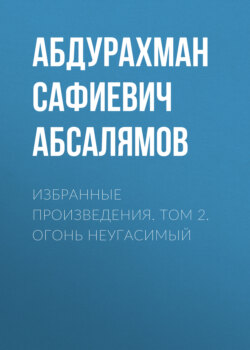Читать книгу Избранные произведения. Том 2 - Абдурахман Абсалямов - Страница 4
Часть первая
Глава третья
Оглавление1
Как ни старался Матвей Яковлевич, зная крутой нрав Сулеймана и его давние нелады с зятем, сохранить в тайне свою встречу с Хасаном Шакировичем, Сулейман каким-то образом сумел проведать о ней. Он был вне себя, рвал и метал, что называется. Директор, его зять, Хасан-джан, да чтоб проехал мимо, не признал Матвея Яковлевича!.. Вот тебе на!
Правда, за добрых двадцать лет, с тех пор как Хасан уехал из Казани, Матвей Яковлевич сильно изменился, и не удивительно, что кое у кого в голове не умещается, что сегодняшний Погорельцев с его белоснежной головой и усами и молодой русоволосый токарь Матвей – один и тот же человек. И всё же в чертах его лица, во взгляде и походке, во всём облике сохранилось что-то такое, что отличает лишь Матвея Яковлевича Погорельцева, и только его! Впрочем, недаром говорится, если у человека слепы глаза души, не помогут ему глаза на лбу. Непонятно, как можно не узнать человека, который приголубил, приютил тебя в трудную минуту, помог выйти на дорогу жизни, был тебе, собственно, за отца родного. Да как же это тебя угораздило, товарищ директор? Ведь это всё равно что плюнуть в колодец, из которого ты щедрой рукой черпал чистую родниковую воду. Как не отсох язык твой!
И без того взбешённый Ильмурзой, не посчитавшимся с отцовским словом, Сулейман, узнав вдобавок о неблагодарной выходке зятя, разбушевался, да так, что удержу на него не было. Разбередила эта несправедливость и старые душевные раны.
Сулейман-абзы, хотя при случае и не прочь был похвастать своим зятем, уже много лет таил в сердце своём горечь обиды на него. Не видел тесть от Хасана искреннего чувства уважения, почтительности, которым так дорожат старики татары.
Пока зять живал где-то на стороне и встречаться приходилось редко, это чувство угнетало Сулеймана, но как-то глухо и привычно.
Теперь же, когда Муртазин вернулся в Казань директором «Казмаша» и всякий, кому не лень, успел прослышать, что новый директор не изволил даже перешагнуть порог дома своего тестя, застарелая боль Сулеймановой обиды дала новую вспышку. Однако не идти же старику с повинной головой к зятю, раз он считал, что большая часть вины лежит всё же на Хасане.
С юных лет Сулейман не выносил никакой несправедливости. И взрывался он мгновенно, как пороховая бочка. Был такой случай ещё до революции: токари Сулейман и Матвей забежали мимоходом в литейную проведать своего дружка Артёма. Не успели они толком выкурить по папироске, в цехе появился сам хозяин завода Яриков. Был он какой-то усохший, костлявый, на одном ухе всегда болталось пенсне на серебряной цепочке, он то сдёргивал, то опять насаживал его на свой тонкий, хрящеватый, с хищной горбинкой нос. Губ совсем не видно было; в народе поговаривали, что он сжевал их от злости. Яриков напустился на рабочих:
– Эй вы, дармоеды, лодыри, почему простаиваете?! – И лихо подскочив к Погорельцеву, который попробовал возразить что-то, хлестнул его по щеке.
Погорельцев едва сдержал себя, хотя мог бы одним ударом прикончить Ярикова.
– Ты, хозяин, языком тренькать тренькай, а рукам воли не давай! – сказал он с угрюмой угрозой. – Запомни, – тебе же лучше будет; перед тобой люди, а не чурки стоят!..
Тонкие губы Ярикова презрительно передёрнулись. Смешно подпрыгнув, он ещё раз замахнулся на Матвея. Тут Сулейман не выдержал. Оттолкнув в сторону пузатого мастера, охранявшего хозяина, он схватил Ярикова одной рукой за воротник, другой за штанину, поднял в воздух и, не обращая внимания на визгливую брань его и вопли, зашагал к полыхавшим вагранкам, в которых клокотал расплавленный чугун.
Все оцепенели. Шляпа хозяина, его разбитое пенсне валялись на полу. Ещё мгновение, и разъярённый Сулейман бросил бы хозяина в вагранку. Багровые отсветы жаркого огня уже лежали на лице Ярикова. Он беспомощно сучил ногами, вереща, как боров под ножом.
– Сулейман, опомнись! – в один голос закричали Матвей и Артём.
– Уступать извергам?.. Уступать всякому негодяю, которому вздумается издеваться над нами, га? Нет, в вагранку их, всех в вагранку!..
Едва удалось остановить разъярившегося Сулеймана.
Когда за ним пришли жандармы, он, несмотря на настойчивые увещания товарищей, и не подумал прятаться. Сулейман схватил длинный железный прут и, рванув на себе ворот рубахи, закричал:
– Не подходи близко, в лепёшку расшибу! Стреляйте издали! – И, увидев, что жандармы растерялись, сам пошёл на них, высоко занеся железный прут над головой. Не так-то легко было жандармам связать и увести разъярённого Сулеймана.
С той давней поры за ним и осталось прозвище – «Сулейман – два сердца, две головы». С годами Сулейман, ясное дело, поутих. Но всё же лучше было его не сердить. Сегодня после смены, не помывшись как следует, Сулейман заспешил в заводоуправление, но директора в кабинете не застал. И неизвестно было, когда он вернётся. Перепугав секретаршу с крашеными лимонно-жёлтыми волосами и столь тонкой талией, что, казалось, достаточно порыва ветра, чтобы она переломилась надвое, Сулейман, поминутно чертыхаясь, прождал в приёмной около часа и наконец, махнув рукой: «Э, да провались он ко всем чертям!», решил отправиться домой.
Не разбираясь, где яма, где лужа, летел он, как стрела, выпущенная из туго натянутого лука. И вдруг остановился точно вкопанный. На дворе голосила старуха заводского вахтёра Айнуллы:
– Ой, мамочки, смотрите-ка на него, старого дурака! Куда забрался людям на посмешище?.. На сарай вместе с уразметовским ахутником… и гоняет себе голубей, негодник! Слазь, говорю, пока шею не сломал, старьё проклятое! Вот я тебе повыдеру волосы-то, мужлан!
Сулейману сразу всё понятно стало. «Уразметовский ахутник» – это его младшая дочь Нурия, «старьё проклятое» – дед Айнулла.
Сулейман вошёл во двор. В голубом небе, словно купаясь в розоватых лучах вечернего солнца, парили голуби. Щуплый дедушка Айнулла, сменив рабочий костюм на стёганый камзол-безрукавку, из-под которого виднелась длинная белая рубаха, стоял на крыше сарая и, откинув голову и приложив ладонь козырьком ко лбу, следил за полётом голубей. А Нурия в лыжных брюках и светлой кофточке, забросив на спину тяжёлые чёрные косы, стояла ещё выше, на самой голубятне, и, помахивая длинным шестом с тряпицами на конце, лихо свистела, ничем не хуже любого мальчишки.
Они были так поглощены своим занятием, что даже не оглядывались на исходившую криком старуху. А та, выскочив как была на кухне, – с засученными выше локтя рукавами и подоткнутым подолом, – в бессильном гневе трясла иссохшей, как липовая кора, рукой, хрипло пища, словно голодный галчонок в гнезде. Её движения со стороны были так потешны, что Сулейман, несмотря на дурное настроение, расхохотался.
– Камнем, камнем запусти в них, проклятущих, Абыз Чичи! – басовито прогудел он.
Настоящее имя старухи было Гайниджамал, но все, и даже Айнулла, проживший с ней жизнь, звали её Абыз Чичи. Как-то, это было очень давно, к молодому ещё тогда Айнулле приехала родственница с ребёнком. Она-то и научила своего малыша называть его жену, как это принято было на родине Айнуллы, Абыз Чичи, что означало: «Тётя, дающая игрушки». С тех пор и прилипло к старухе это прозвище.
– Ай, осрамилась!.. – ахнула Абыз Чичи, увидев Сулеймана, и, прикрыв лицо концом платка, засеменила прочь.
– Нурия! – окликнул Сулейман дочь. Очень похожие на отцовские, большие чёрные и лучистые глаза девушки сверкали, смуглые щёки разрумянились, ноздри трепетали.
– Марш домой! – хмуро приказал Сулейман.
Никогда Сулейман так сердито не разговаривал со своей младшей дочкой, любимицей. Нурия тотчас смекнула, что отец не в духе, и, бросив шест, одним махом спрыгнула на крышу сарая. Второй прыжок перенёс её с довольно высокого сарая прямо на землю. Перебежав двор, она исчезла в подъезде.
– И ты, Вахтёрулла, пожалуй-ка сюда, – сказал Сулейман тем же сердитым тоном. – Слово есть к тебе.
Но дедушка Айнулла не торопился исполнять его приказание. Улыбаясь, он подошёл к краю крыши и присел на корточки.
– Мне очень тяжело лазить бесплатно, я не так прыток, как ты, крылышко моё, Сулейман. Дух спирает. Если твоя просьба не очень велика, скажи оттуда. По крайней мере, хоть один раз в жизни поговорю сверху с человеком, который выше меня. Хе-хе-хе!
Сверкнув чёрными глазами, Сулейман нетерпеливо шагнул к сараю.
– Зачем опозорил Матвея Яковлича в проходной, га? Ну, отвечай!
С круглого морщинистого лица дедушки Айнуллы мигом слетела добродушная улыбка. Он выпятил грудь, словно петух, готовый вступить в бой.
– Попробуй-ка сам, – ткнул старик указательным пальцем в Сулеймана, – прийти завтра без пропуска. Так я тебя и испугался… Воображаешь, если ты Сулейман – отчаянная голова, так я сразу и распахну тебе все двери!.. Если хочешь знать, Сулей, Айнулла такое не только что другим, самому себе не позволит!
Правда ли, нет ли, но заводские старожилы рассказывали, будто Айнулла, забыв однажды дома пропуск, приказал своему сменщику не допускать вахтёра Айнуллу к вахте, а вызвав караульного начальника, попросил его отправить Айнуллу домой за пропуском.
Сулейман зло усмехнулся.
– Можешь сколько угодно не допускать на завод вахтёра Айнуллу – небольшая шишка. А Матвея Яковлича обязан был пропустить.
– Почему это? – удивился Айнулла. – Меченый он, что ли? Пустое говоришь, Сулей, и слушать не желаю.
Старик с неожиданной лёгкостью поднялся с корточек и показался вдруг Сулейману недосягаемым. Пока Уразметов собирался с мыслями, Айнулла зарядил:
– Я тебе, Сулей, – по-детски короткой рукой показал он на сапоги Сулеймана, – разве говорил когда-нибудь: не обувай сапоги, а надевай ичиги? Твоё дело резать железо, моё – у дверей стоять. Что поделаешь, коли великий Аллах втёмную, без разбора, приложил такую печать на мою судьбу. Попробовал бы я со своей бестолковой головой сунуться в твоё дело, разве ты не выпроводил бы меня, разлюбезно пнув в мягкое место? И правильно бы сделал.
Он поднял брошенный Нуриёй шест и замахал им, словно хотел показать, что разговор закончен.
Увидев, что не столковаться ему с этим тощим, словно осенний цыплёнок, старичишкой, а главное – почувствовав свою неправоту, Сулейман, больше злясь на самого себя, погрозил пальцем: «Погоди, проучу я когда-нибудь тебя!», резко повернулся и ушёл.
Обычно Сулейман, возвращаясь с работы, вносил весёлое оживление в дом Уразметовых. Жизнерадостный, неугомонный, он любил шутку и смех. Этот старый рабочий притягивал к себе сердца, даже когда гневался. И потому вспышки его проходили без ущерба для семейного мира. Но сегодня он вернулся в свирепом раздражении, как горе-батыр, с позором побеждённый на Сабантуе и способный с тяжкой обиды выкинуть что угодно.
– Эй, кто там есть? – подал он голос ещё с порога. – Нурия, Гульчира!.. Куда пропали? Готовьте тёплую воду и чистое бельё. Иду к новоиспечённому директору.
Он с силой рванул с себя короткий пиджак, казалось, вот-вот оторвёт рукава.
– Небось, узнает меня… А нет, так заставлю узнать!
Едва он успел высвободить из пиджака одну руку, как услышал, что кто-то шарит ключом в замке двери. На пороге, насмешливо улыбаясь, стоял смуглый красивый молодой человек с серой шляпой в руках. Это был Ильмурза.
– Что случилось, отец? Кого опять собираешься песочить?
Чуть не всякий раз при виде Ильмурзы Сулейману вспоминалась собственная молодость: этот взгляд уголком глаз, насмешливый перекос красиво очерченного, твёрдого рта, даже его свободная манера держать себя. И несмотря на нелады последних дней между ними, Сулейман не мог не залюбоваться сыном.
– А ты что скалишь зубы, га? Хоть ты и мурза[9], а всё же молод ещё смеяться над отцом.
– Никто и не смеётся, отец, – сказал Ильмурза, расстёгивая макинтош. – На зятя, как я понимаю, взъелся… Да, это действительно птица высокого полёта. И со мной поздоровался ни так ни сяк.
Стащив наконец с себя пиджак, Сулейман с раздражением повесил его на крючок.
– С тебя и этого предостаточно, – бросил он. – Я на его месте, может, и руки такому не протянул бы.
– Представь, отец, он спутал меня с Иштуганом-абы, – сказал Ильмурза, и опять усмешка искривила его рот. – Стал привязываться: почему, дескать, не едешь в командировку…
– Дурак!.. – в ярости воскликнул Сулейман.
– Кто, я или зять? – смеясь, спросил Ильмурза.
– Оба!..
И Сулейман прошёл в свою комнату. Но вскоре вернулся и сказал Нурие:
– Позвони-ка, дочка, зятю… вернулся или нет? Мне самому лучше не прикасаться к телефону – не стерплю, сорвусь, накричу…
К этому времени Муртазины уже получили директорскую квартиру.
В первый же день приезда Ильшат побывала у отца, правда, без Хасана. На все её уговоры муж не очень убедительно отговаривался работой – необходимо сперва освоиться на новом месте, потом уже расхаживать по гостям.
Всё это Ильшат и передала родным, чувствуя, что отговорки эти звучат для них столь же неубедительно, как звучали и для неё самой. Но они выслушали её молча. И долгожданная встреча не дала радости, более того, оставила у всей семьи неприятный, тягостный осадок.
Сулейман тогда же решил про себя, что не переступит порога квартиры зятя, пока тот не явится с повинной. Но нанесённая Матвею Яковлевичу обида показалась ему до такой степени нестерпимо оскорбительной, что он забыл о своём зароке.
Нурия узнала, что Муртазин ещё не вернулся с завода. Заложив руки за спину, Сулейман заметался по зале, потом, словно что-то вспомнив, распахнул дверь в комнату Ильмурзы.
Сын курил, лёжа на кровати. Увидев отца, он поднялся.
Результатом их последнего крупного разговора было то, что Сулейман настоял наконец на своём. Ильмурза пообещал ему уйти из буфета, решив, что на этом дело и кончится. Но отец – вот беспокойная душа! – опять притащился и снова принялся уговаривать его вернуться в цех, к станку. Удивительно, на этот раз он совсем не кипятился, сберегал, вероятно, силы для предстоящего разговора с директором. Почуяв это, Ильмурза сказал:
– Нет, всё, отец, больше не приставай. Я ведь уже не мальчик…
Но Сулейман-абзы упрямо гнул свою линию:
– Это я знаю, сынок… Пора, давно пора тебе расстаться с детскими затеями… – И, хитря, начал гладить по шёрстке: – Ведь ты способный человек. Разве дело здоровому мужчине стоять за прилавком буфета, когда на то есть женщины. Всё равно как гоняться на коне за воробьями. Мужчине необходимо ремесло. Да! Недаром ведь говорят: человек, у которого есть ремесло в руках, и против течения выплывает. А ты, коли захочешь… из тебя замечательный мастер вышел бы!
Тут-то Ильмурза и испортил всю музыку.
– Брось, отец! – сказал он с холодной усмешкой. – Возьми себя в пример… сорок лет на заводе отзвонил, а что-то до мастера не дослужился…
– Дурак, – перебил сына Сулейман. – Если хочешь знать, перед твоим отцом любой мастер ломает шапку… – Сулейман засновал по комнате, но она оказалась слишком тесна, не по его горячему темпераменту. Сделав три-четыре шага, он резко поворачивал и, то молниеносно закладывая руки за спину, то вдруг выбрасывая их вперёд и сильно хлопая тыльной стороной одной руки по задубевшей ладони другой, всё повторял: – За сорок лет… Твоему отцу стоит только захотеть, его тут же мастером поставят… Разве это плохо, что я предпочитаю работать на станке… хоть все пятьдесят. Хочу своими руками создавать что-то… Разве это плохо, а, Мурза?.. Что скажешь на это, га? Заткнул рот?
– Зря ты меня ругаешь, отец, – помолчав, сказал Ильмурза. – Это раньше гордились званием рабочего… время было такое. А сейчас… не в моде оно.
Сулейман несколько минут стоял, не произнося ни слова, мотая головой, точно оглушённый. Смуглое лицо его постепенно всё больше багровело, чёрные глаза сузились. Ильмурза, видя, как набухают жилы на больших узловатых кулаках отца, опасливо подался назад.
– Мода-а!.. Если у тебя когда-нибудь ещё сорвётся с языка это дурацкое слово, я вырву твой поганый язык и отдам его тебе прямо в руки… Мода-а!.. – Сулейман весь задрожал от возмущения. – Мода нужна, когда шьют платья девушкам или когда такие вот щёголи, как ты, выбирают себе шляпу!.. Если хочешь знать, жизнь и прежде держалась на рабочем, и сейчас на нём держится, и впредь будет держаться! Потому что он коренник… он тянет воз жизни. А ты… ты даже в пристяжные не годишься, всё в сторону норовишь… А почему? Да потому, что голова у тебя забита всяким мусором, пережитками, как по-книжному говорится… – И он сильно хлопнул ладонью о ладонь. – Факт!
Ильмурза молча упрямо покачал головой. Но Сулейман по глазам прочёл, о чём он думает.
– Да, да!.. Будешь лоботрясничать, всякое может случиться… Не смотри, что ты сын потомственного рабочего. Сорняк – он везде растёт.
Сулейман теперь насквозь видел сына.
«Гончар бьёт своего сына прежде, чем тот разобьёт горшок. И мне бы следовало малость пораньше начать учить тебя уму-разуму. Эх, маху я дал!..»
Сулейман повернулся на носках, скрипнув сапогами.
– Думаешь, один ты мудрец, а у других ум за дверьми остался, га?.. Как бы не так! Ты только мне не сознаёшься, а мозги-то у тебя крутятся в одном направлении. – Огрубелым пальцем он показал, как скользит рыба в воде. – Как бы тишком-молчком нырнуть куда поглубже, пока людям трудно, а придут хорошие времена – и ты всплывёшь. Ляжешь и будешь себе поплёвывать в потолок.
После подобных перепалок Сулейман невольно сравнивал Ильмурзу со старшим сыном Иштуганом. В чём ошибка? Чего недоглядел? Оба ведь без рубашек родились. Правду говорят, на дураке рогов нет, а то бы каждый сказал: вон дурак идёт.
В комнату вбежала Нурия. Она уже успела сменить лыжные брюки на платье и надеть белый передник. Перевязанные лентой чёрные косы дугой свисали на спину.
– Где Гульчира? – сухо спросил отец, выходя от Ильмурзы.
– У неё сегодня вечерний университет.
– А невестка?
– Ушла в консультацию.
– Готова ванна?
– Сейчас, папа, греется. – Нурия юркнула в ванную комнату. Потом принесла чистое бельё, полотенце, недоумевая, чем так расстроен отец, из-за чего опять схватился с Ильмурзой.
Вода нагрелась, и Нурия позвала отца. Заметив, что он всё никак не успокоится, она мягко вполголоса сказала:
– Полно уж, папа, перестань волноваться. И, пожалуйста, потише в ванной, Иштуган-абы работает.
– Иштуган разве дома? – перебил её отец.
– Давно уже. Это ты сегодня что-то запоздал. Иштуган-абы просил передать, чтобы ты зашёл к нему, как вернёшься.
Нурия знала, что отец больше, чем с кем-нибудь, считается с Иштуганом и даже чуточку побаивается его, поэтому она, как и все остальные женщины в семье, стоило отцу начать горячиться, старалась ввернуть словечко об Иштугане.
– Шш-ш! – замахал на неё Сулейман, когда Нурия, уронив горячую крышку, заплясала возле плиты, тряся обожжённым пальцем. – Руки, что ли, отсохли?..
Нурия подставила палец под струю холодной воды.
– Сильно обожгла? – забеспокоился Сулейман за любимицу.
– Пустяки. Уже не больно…
Сулейман сунул руку в наполненную ванну. Любил старик попарить косточки. Умница Нурия, горячей воды налила.
Сулейман попросил Нурию ещё разок позвонить зятю и, войдя в белую ванну, погрузился в приятно горячую воду. Закрыл глаза. Всё показалось ему в эту блаженную минуту незначительным, даже мелким: и грубость зятя, и обида Матвея Яковлевича, и собственная горячность, и Айнулла, и Ильмурза… Вода чудесным образом снимала давящую на плечи усталость, как бы смывала раздражение, кипевшее в груди. Он прислушался: неугомонное сердце постепенно успокаивалось, билось ровнее.
«Старый волк прокладывает стае дорогу… И верно, кто же, как не я, покажет детям дорогу, – размышлял, закрыв глаза, Уразметов. – Одно помнить надо: кто без ума берётся – дерево ломает. Нет, прежде чем идти к зятю, надо поостыть». И он с глубоким наслаждением стал почёсывать короткими жёсткими ногтями, под которыми набилось машинное масло, мускулистую, обильно покрытую чёрными волосами грудь.
Минут через двадцать, вытирая на ходу лицо и голову мохнатым полотенцем, Сулейман показался из ванной. Его смуглое лицо раскраснелось, чёрные усы и стриженная под машинку, не тронутая сединой голова были ещё влажны, отчего казались ещё черней.
Сулейман заглянул на кухню и, не увидев дочери, тихонько позвал:
– Нурия, ты где? Позвонила?
Нурия не выскочила, как обычно, на голос отца. В зале кто-то пел очень мелодичным, глубоким басом. Голос певца доносился откуда-то издалека. Сперва чуть слышно, затем всё нарастая и нарастая и, наконец, зазвучал в полную силу, – казалось, гудит дремучий лес в бурю.
Сулейман на носках прокрался в залу. Нурия, забыв всё на свете, замерла у приёмника. Когда Сулейман, войдя, окликнул её, она вздрогнула и сердито замахала руками:
– Тише, отец, Поль Робсон поёт!
Удивительно, что за песня! Слова непонятны, а напев всё равно за душу берёт. Старый рабочий, вся жизнь которого прошла в тяжёлом труде, в этом голосе, могучем, как шум леса, ясно почувствовал тоску и печаль, радость и надежду забитого, угнетённого народа.
«И у нас в старое время, бывало, такие песни пели…» – подумал он.
Песня смолкла. Сулейман помолчал в задумчивости, спросил, позвонила ли Нурия зятю, и, узнав, что Хасана всё ещё нет дома, медленно направился в свою комнату. У него была привычка: после ванны минут десять-пятнадцать отдохнуть. Отдышавшись немного, не утерпел, позвал Нурию.
– Дочка, почитай, пожалуйста, о вибрации. На чём мы вчера остановились?
Сулейман сам читал мало. «От чтения зоркость теряется, скорее на работе глаза устают», – хитрил он.
А Нурия, больше любившая, как и все её сверстницы, читать романы, без особой охоты выполняла просьбу отца. Иногда она протестовала: «Вся семья заражена этой вибрацией!» И завидовала брату Ильмурзе, умеющему держаться в стороне от этих производственных совещаний на дому. «По крайней мере, не ломает себе голову попусту. Вернётся с работы, перекусит и идёт, куда душа желает. А ты тут канителься с этой вибрацией, чтоб ей пусто было… И что это за вибрация такая, что над ней бьются, не в силах справиться лучшие мастера и инженеры… Даже профессора».
И Нурия, чтобы поскорее освободиться, зачастила-зачастила, но отец не переносил этого.
– Ты, дочка, не трещи, как вертолёт. Читай с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы понимал человек.
Нурия, надув губы, старалась читать «с чувством, с толком, с расстановкой», но очень скоро забывалась и снова начинала трещать. Опять отец останавливал её, заставляя повторять прочитанное. В эти минуты Нурие казалось, что она совсем не любит отца: «Полёживает себе в кровати, заложив руки за голову, да посматривает в потолок. И, небось, думает в это время совсем о другом». А когда он принимался читать ей наставления, она нарочно, чтобы позлить отца, водила, вздыхая, рассеянным взглядом за парившими в небе голубями деда Айнуллы или, состроив грустную мину, прислушивалась к уличному шуму, врывавшемуся через открытое окно. А то вдруг, когда уж очень станет невтерпёж, пустится на хитрость, скажет, что ей пора готовить уроки. В таких случаях отец немедленно освобождал её от чтения. И сегодня повторилось то же самое. Едва Нурия заикнулась насчёт уроков, Сулейман тут же отпустил её.
– Ладно, у меня и у самого дело есть… – сказал он, вставая. – Так Иштуган зайти велел?
– Да-да.
– Ну я пойду к Иштугану. А зятю позвони ещё раз. Мне непременно надо сегодня же увидеть его.
2
Уразметовы жили на третьем этаже окончательно достроенного заводом уже после войны пятиэтажного дома. Свою уютную квартирку с балконом они любили за то, что в ней весной и летом целыми днями гостило солнце, а из окон, выходивших на улицу, можно было видеть с одной стороны площадь и зелёный парк, с другой – футбольное поле стадиона: смотри себе прямо из окна футбольные матчи! Самую тёплую и маленькую комнатку взял себе Сулейман. Через залу, в просторной комнате жил Иштуган с женой Марьям, Гульчира с Нуриёй обосновались в комнате с балконом, окно которой выходило на угол двух новых улиц. Летом девушки засаживали балкон вьюнками. Хорошо было, раскинув раскладушку, лежать, почитывая книжку, под зелёным шатром. Ильмурзе досталась небольшая комната рядом с кухней. «Холостяку сойдёт. А женится – тогда посмотрим», – сказал Сулейман.
Старик и Гульчира питали пристрастие к цветам, и потому комнаты были сплошь заставлены самых разных размеров цветочными горшками. Лишь в комнате Ильмурзы их не было. Вкус владельца выдавали пестревшие на стенах бесчисленные фотографии да дешёвые репродукции.
Если не считать блещущей чистотой девичьей комнаты, украшенной вышивками Гульчиры и несколькими со вкусом отобранными картинами, самой уютной комнатой в квартире Уразметовых был уголок Иштугана и Марьям. Эта комната, в которой не было ничего лишнего, как-то по-особому радовала глаз. Так радует залитая солнцем поляна в лесу.
Когда Сулейман появился на пороге комнаты, Иштуган, в туго обтягивавшей торс фисташковой тенниске, такой же широкоплечий и приземистый, как отец, стоял у чертёжного стола и, склонившись над листом ватмана, быстро что-то чертил.
– Проходи, проходи, отец, присаживайся, – приветливо сказал он, подняв голову.
Стараясь ступать как можно мягче и осторожней, словно в комнате спал ребёнок, Сулейман подошёл к столу.
– Садись, отец. Устал, что ли? Или расстроен чем? Вид у тебя невесёлый…
– Вид!.. Ладно бы, если б только в личности моей было дело. Тут кое-чем побольше пахнет, сынок, – сказал Сулейман, вздохнув. – Когда в командировку-то трогаешься?
– Командировочные уже в кармане… Вернусь – и прямо к Гаязову. Разговоры, рапорты, как вижу, – зряшная потеря времени! Тут надобно под самый корень подсекать… Сегодня у меня вечер свободный. Может, помозгуем вместе над тем, что тебя мучит, отец? Артём Михайлович заезжал на завод. Видел?
– Нет, не видал. А жаль… – Сулейман вместе со стулом придвинулся поближе и, положив руки на колени, кивнул головой на чертежи. Лицо его чуть оживилось, чёрные глаза сверкнули. – Добро, и что же он говорит, профессор? Обнадёживает?
Артём Михайлович Зеланский, друг юности Сулеймана, был тот самый очевидец случая, когда Сулейман чуть не бросил в огонь своего хозяина. Теперь профессор Зеланский заведовал кафедрой в одном из институтов Казани.
Заметив, каким нетерпением блеснули отцовы глаза, Иштуган прикинулся непонимающим.
– Насчёт стержней? Одобрил.
– Га, задолбил: стержни да стержни! – воскликнул отец. – Подглядели у добрых людей и у себя применили. Великое дело, подумаешь.
– Это ты зря, отец… Мы ведь не просто берём готовенькое, кое-что и от себя додумываем, прибавляем… Человек у человека ума набирается.
– Ладно… У Гали́ своё дело, у Вали́ – своё. Меня интересует, что Артём думает о вибрации. С отца твоего не стержни требуют, а коленчатые валы. Что сказал Артём, будет толк, нет?
– Говорит, что путь поисков правилен, отец, – перешёл Иштуган на серьёзный тон. – И что это даст возможность лучше понять процесс вибрации… если изучать отдельно вибрацию резца и вибрацию детали. Это новый подход – и в практике и в науке.
– Да ну!.. – так и подскочил Сулейман на стуле. С силой хлопнул ладонями по коленям. – Смотри ты, га!.. Неужели так прямо и сказал? И в науке новый подход?! Ну, тут Артём, конечно, загибает. Знаю я его, – недоверчиво помахал пальцем Сулейман, но смуглое лицо его осветила пронизанная радостью горделивая усмешка.
– Вот так, отец, – продолжал Иштуган, подавляя улыбку, вызванную юношеской непосредственностью старика отца. – Артём Михайлович говорит: если сможете доказать, что эти два вида вибрации не зависят друг от друга, то можно будет поздравить вас с первой победой… Так как мысль, отец, впервые зародилась в твоей голове…
Сулейман замахал руками:
– Брось, брось, сынок, не болтай пустое. – И он, не замечая, отодвинулся вместе со стулом немного назад. – С какой это стати?.. «В моей голове зародилась!..»
Иштуган расхохотался.
– Ты, отец, кажется, испугался, что, если мы не сумеем доказать этого, весь стыд падёт на твою голову, а? Хитёр, нечего сказать!
На этот раз ему стал вторить и Сулейман:
– Не без того, сынок, не без того… В дни моей молодости на хитрости свет стоял. Не зря твоего отца прозвали «Сулейман – два сердца, две головы». Одно сердце испугается, другое не дрогнет.
– Так то геройство, отец, совсем иного порядка – оно у всех на виду. А здесь мозгами ворочать надо… Кропотливая незаметная работа.
Прищурив левый глаз, Сулейман смотрел на сына, лукаво поводя бровями.
– В двух головах авось один ум наберётся, га? Ладно, языком каши не сваришь, давай ближе к делу. Зачем звал?
– Видишь ли, хочу сделать небольшое приспособление, чтобы легче было доказать твою мысль. Эскиз вот набрасывал. Есть о чём посоветоваться и с тобой и с Матвеем Яковличем. Не послать ли за ним Нурию?
Оживление на лице Сулеймана погасло.
– Нет, сынок, не будем пока беспокоить Матвея Яковлича, – сказал он, глубоко вздохнув.
– Что, не в настроении, что ли?
Сулейман-абзы встал и быстро заходил взад и вперёд по комнате. Его чёрные глаза посверкивали двумя угольками, когда он круто поворачивался на своих кривых ногах, шлёпая чувяками.
– Настроение!.. Чуть что, сейчас у вас, у молодых, это словечко – настроение…
Иштуган принялся успокаивать отца. Только что сидел тихо-смирно и вдруг вскочил с места. Ярость в нём так и кипит…
– Погоди-ка, отец… объясни толком. Ольга Александровна захворала, что ли?
– Захворать не беда. К больному человеку доктора можно позвать, а тут никакой доктор не поможет…
Сулейман вдруг резко остановился посреди комнаты и сильно хлопнул кулаком по ладони.
– И кто бы мог подумать… га… Зять Уразметова!.. Чем так обидеть человека, лучше бы своим автомобилем задавил его… Нет, я не я буду, если сию же минуту не отправлюсь к нему. Я ему в глаза грохну, кто он такой! Это для других он директор, а для меня… Он меня отцом называет, а коли так, – пусть соизволит выслушать отцовское слово!
Иштуган слышал уже на заводе об этой злополучной встрече, но не придал этому особого значения. Почёл за стариковскую придирку. Старики в этом отношении, как дети, чуть что не по-их – смотришь, уж и в обиду ударились.
– Послушай, отец, а может, это простое недоразумение?
Сулейман-абзы, воспринимавший всякую обиду, нанесённую Матвею Яковлевичу, как свою собственную, вскипел:
– Недоразумение?! Га… хорошенькое недоразумение. Говорить с человеком и не узнать его… Тысячу лет, что ли, прошло, как они не виделись?
– Что за спор? – спросила, распахивая обе половинки двери, Гульчира. Она только что вернулась с учёбы и завязывала нарядно вышитый девичий передник. На смуглом лице её сияла улыбка.
Увидев дочь, Сулейман-абзы тотчас умолк. Иштуган объяснил сестре, чем расстроен отец.
– Что ж, отец, удивляться, он ведь и к нам ещё не заглядывал, – без особого огорчения, всё так же сияя улыбкой, сказала Гульчира.
Но Сулейман не собирался сводить это дело к простому недоразумению.
– Мы, дочка, другая статья. Мы свои люди, придёт время – сочтёмся, а Матвей Яковлич…
– А за это, отец, прежде всего тебя следовало бы побранить. То всё вместе-вместе, а в самый нужный момент оставил его одного.
Старый Сулейман молча с укоризной посмотрел на дочь.
– Да будь я там!.. – сжал он кулаки.
Иштуган с Гульчирой растерянно переглянулись, увидев, как страшно изменился в лице их отец. Но Сулейман, переборов себя, опустил сжатые кулаки и сказал как только мог тише:
– Ладно, сынок, спрашивай, о чём хотел посоветоваться, и закончим на этом… Сейчас невестка вернётся. А ты, Гульчира, иди накрой на стол.
Иштуган подождал, чтобы отец немного успокоился, и стал объяснять устройство приспособления, которое надумал. Хлопнула наружная дверь. Пробежала Нурия, и тотчас по коридору разнёсся её звонкий радостный голос:
– Марьям-апа вернулась!
Иштуган, выйдя навстречу жене, помог ей снять пальто. Стесняясь ли своего положения, – она была в широкой блузе, какие носят беременные женщины, – или потому, что устала, поднимаясь по лестнице, Марьям не зашла в свою комнату, где сидел свёкор, а прошла на кухню, к девушкам.
Сулейман, с большим уважением относившийся к невестке, частенько говаривал своим дочерям наполовину в шутку, наполовину всерьёз:
– Смотрите вы у меня, Сулейманова кровь, знаю я вас – на камень наступите и из того воду выжмете… Если хоть пальцем тронете невестку, даю одну из своих голов на отсечение, не ждать вам от меня добра.
Когда Марьям забеременела, Сулейман ещё внимательнее, ещё бережнее стал относиться к невестке.
– Га!.. И мне пора стать наконец дедушкой, отрастить бороду. Мать ваша так и померла, не увидев в своём доме внуков. Ну, уж я-то не умру… дождусь внука. Мне внук во как нужен!
Но первые два ребёнка Марьям умерли, едва появившись на свет. Потому Сулейман теперь не очень шумел, но в душе мечтал, чтобы невестка народила ему мальчиков, которые ввели бы рабочую династию Уразметовых в коммунизм, мечтал, пока жив, заложить в их души необходимую «рабочую закалку».
За стол семья Уразметовых села, как всегда, в полном сборе. Перебрасываясь заводскими новостями, ели традиционную татарскую лапшу. Усерднее других отдавал должное стряпне Нурии Ильмурза. Нурия, сияя от удовольствия, то и дело подливала ему лапши в тарелку.
Сулейман, любивший обычно посидеть за столом, – это был единственный час, когда он видел всех своих детей вместе, – сегодня торопился скорее закончить с обедом. Переодевшись, он ушёл.
– Пошёл учить уму-разуму джизни, – сказал, посмеиваясь, Ильмурза. – Читайте молитвы, не то вернётся и спать нам не даст.
Но никто не подхватил его шутки. А Нурия, когда ушли старшие, сказала Ильмурзе, собирая посуду:
– Не смей насмехаться над отцом, за собой лучше смотри, буфетчик.
Ковыряя в зубах зубочисткой, Ильмурза сказал с усмешкой:
– Э-э, сестрёнка, тебя замуж не возьмут, непорядок на столе! – И пошёл на кухню следом за мгновенно зардевшейся Нуриёй, которой пришлось вернуться за забытой на столе ложкой. – Не сердись, Нурия, – не унимался он, хоть и видел, что сестра дуется на него. – Пойдёшь со мной в кино? А то, хочешь, куплю билет в кукольный театр.
Когда Ильмурзе хотелось позлить Нурию, он обязательно говорил о кукольном театре, чтобы подчеркнуть, что она ещё ребёнок в его глазах.
– В кукольный театр!.. В медвежий цирк с удовольствием пошла бы, только билеты купи. А то всё обещаниями отделываешься!.. – И, поцеловав Марьям, наливавшую горячую воду, чтобы мыть посуду, и сказав, что справится одна, Нурия чуть не насильно увела невестку из кухни.
– Иди отдохни, Марьям-апа. Устала…
Ильмурза курил у открытой форточки.
– Нуркай, скажи, – спросил он, глядя на окна кухни в тёмный провал двора, – ведь ты меня не любишь?.. В этом доме никто меня не любит, верно?
В тоне, каким сказал это Ильмурза, сестра уловила необычную нотку. Быстро обернувшись, изумлённая Нурия воскликнула:
– Что ты говоришь, Ильмурза? Как мы можем не любить тебя? Если когда поругаем, так это совсем не значит, что не любим…
Склонившись над тазом с горячей водой, она внимательно присматривалась к брату. Какой-то странный сегодня Ильмурза. Нет на лице обычной холодноватой насмешливой улыбки, он, кажется, даже немного задумчив и грустен нынче. С чего бы это? Неужто из-за того, что отец поругал? Но ведь ему не в новинку выслушивать выговоры отца.
– Ах, сердце моё, молодое сердце,
Что ж ты убиваешься? –
запел чуть слышно Ильмурза. Резко обернулся и сказал немного растерявшейся сестре:
– Нуркай, я скоро уеду.
– Куда?
– Куда сейчас молодёжь уезжает, туда и я. В деревню!
– Правда?! – переспросила Нурия. В её больших глазах засветилось радостное удивление.
В ответ на призыв партии сотни и тысячи молодых людей уезжали в те дни в деревню. Это было так прекрасно, так романтично, но где-то там… И вот, оказывается, её брат тоже едет в деревню. Значит, эта чудесная, но далёкая романтика здесь, в их доме.
– Комсомол посылает?.. – быстро спросила обрадованная Нурия.
Закинув голову, Ильмурза расхохотался.
– Эх, Нуркай, дорогая, разве ты не знаешь, я давно уже вышел из комсомольского возраста. – Ильмурза смеялся, но Нурия заметила, что по его красивому лицу пробежала лёгкая тень. – Нет, сам я надумал, сестрёнка. По собственному желанию еду.
– Ах, Ильмурза, прошу тебя, говори серьёзно… Ведь это такой замечательный шаг. А что папа говорит? Давеча он из-за этого и шумел у тебя?.. Не хочет отпускать тебя в деревню?
Нурия была восхищена решением брата. Блеск глаз, возбуждённое лицо говорили: «Брат, милый брат… Я всем сердцем на твоей стороне. Не бойся… Никого не бойся. Поезжай в деревню!..»
3
Иштуган наносил на чертёж последние линии. В большой квартире Уразметовых стояла тишина. Нурия ушла в кино с Ильмурзой. Гульчира тоже унеслась куда-то. Отец ещё не вернулся от зятя. Марьям сидела напротив на диване и шила детскую распашонку. Матовый абажур отбрасывал на её белое лицо и золотистые волосы мягкий рассеянный свет. Время от времени она поднимала голову, и тёмно-голубые глаза её с любовью останавливались на муже. Точно почуяв это, он тоже поднимал глаза. Их взгляды встречались, оба чуть смущённо улыбались при этом, словно влюблённые, только что признавшиеся друг другу в своём чувстве. Марьям даже слегка краснела. Шестой год живут они вместе, а ей всё кажется, что ещё не кончился их медовый месяц. «Всю бы жизнь так прожить», – мечтала она про себя.
И на работе и дома ей часто приходилось слышать о разводах, скандалах между мужьями и жёнами, а в качестве народного заседателя приходилось участвовать в разборе такого рода дел в суде. Марьям, слушая бракоразводные процессы, никак не могла понять, как это любившие когда-то друг друга люди становятся врагами. И, призывая этих людей к примирению, она всякий раз с болью в душе думала: «Почему вы топчете своё счастье и ищете пути к несчастью?» И когда она, усталая после этих мучительных судебных процедур, возвращалась к себе, приветливое слово Иштугана казалось ей ещё дороже.
Марьям тосковала, когда Иштуган пропадал в своих командировках, и радостно кидалась ему навстречу, когда он возвращался. Почувствовав приближение родов, Марьям попросила мужа не отлучаться пока из дому. Но, оказывается, завтра Иштуган должен опять уехать. Марьям гнала от себя эти мысли. Всякое волнение вредно в её положении. Может, успеет ещё, вернётся. Два-три дня – не так долго…
– Кажется, закончил, – сказал Иштуган, отошёл от стола и потянулся – затекла спина от долгой работы в полусогнутом положении. Затем вытащил из-под кровати гантели – поупражнялся. И, оживлённый, повеселевший, подсел к жене, мягко обнял её за плечи.
Марьям давно ждала этой минуты.
– Иштуган, – спросила она с задумчивой нежностью, – ты счастлив?
– Очень! Жена у меня хорошая, скоро сын-богатырь родится. Чего ещё мне нужно?
– Положим, ещё многое, – усмехнулась Марьям, проворно работая иголкой.
– То совсем другое, дорогая.
– А что ты говорил о женщинах-пустоцветах?
– Это тебя не касается, – улыбнулся Иштуган. – Я говорил о тех, которые страшатся изведать, что такое материнское бремя. Эти женщины сами лишают себя счастья.
Марьям тяжело вздохнула.
– И изведавшие… порой не видят счастья… – И задумалась. Вспомнила предыдущие роды – оба раза очень тяжёлые. Едва успев появиться на свет, дети умирали. И забеспокоилась за судьбу того, которого носила.
Иштуган уже давно научился понимать жену по малейшим изменениям голоса. Не восприняла бы Марьям его слова в свой адрес. И, словно моля о прощении, сказал с неясностью:
– Не надо… Не грусти, Марьям. Вот увидишь, на этот раз ты подаришь нам прекрасного мальчика.
– Отец ждёт мальчика и ты тоже. А если девочка, – что будете делать? – сказала Марьям, силясь улыбнуться.
– Я тебе говорю, мальчик будет. Абыз Чичи клянётся – раз первые двое были мальчики, так и дальше будет – до четвёртого…
Они рассмеялись. И сразу сошла грусть с лица Марьям. Она стала весело трунить над мужем, пугать его «концертами», которые будет устраивать ему ребёнок по ночам, рисовала забавные картинки его родительских хлопот. Иштуган слушал-слушал и наконец сказал сквозь счастливый смех:
– Не пугай, Марьям. В семье Уразметовых не только наш отец, вся поросль его – о двух сердцах. Не запугаешь…
Марьям, любуясь готовой распашонкой, проговорила:
– Немного уже пришлось познакомиться… знаю… – И задумалась, любовно поглаживая крошечное одеяние своего будущего сына. А может, дочери?..
Иштуган не спускал глаз с её руки. Только материнская рука может так мягко, так нежно гладить детскую рубашонку.
Он положил голову на грудь жены, прислушался. Как сильно бьётся сердце – точно мотор стучит. А Марьям, накручивая на пальцы чёрные кольца мужниных волос, опять задумалась.
…Впервые они встретились в областной библиотеке, в знаменитом читальном зале-гроте.
Марьям любила работать в самом дальнем уголке этого зала и всегда старалась прийти пораньше, чтоб никто не занял «её» места. А если почему-либо задерживалась после лекции в институте, просила кого-нибудь из подруг занять это место и до её прихода никому не отдавать. И вот однажды она увидела за своим столом человека в военном кителе, но без погон – только следы от них виднелись. У этого человека были чёрные, на редкость густые вьющиеся волосы. Он тоже заметил девушку: она шла торопливой походкой и вдруг растерянно остановилась. Какая милая девушка! Волосы золотистые, как пронизанная солнцем пшеничная солома, сама стройненькая, под правым глазом чернеет крохотная родинка.
– Простите, я, кажется, сел на ваше место? – сказал он, вставая. – Пожалуйста, я пересяду, мне всё равно.
Несколько удивлённая, каким образом молодой человек мог узнать об этом, Марьям поторопилась ответить:
– Нет-нет, не беспокойтесь. – Но на лице её нетрудно было прочесть сожаление.
Молодой человек улыбнулся, обнажив ослепительной белизны зубы, и стал собирать книги.
То же самое повторилось назавтра, напослезавтра, стало повторяться каждый день. Едва Марьям появлялась в читальном зале, молодой человек принимался собирать свои книги, тетради. Марьям несколько раз нарочно задерживалась подольше в институте, чтобы не беспокоить странного черноволосого джигита. Но как бы поздно она ни приходила, она всегда заставала его за «своим» столом. Девушка стала украдкой приглядываться, над чем он так усидчиво работает: среди его книг не было ни одного учебника, всё какие-то специальные технические издания. «Верно, инженер или научный работник», – подумала она. Её интриговала загадочная поспешность, с которой он исчезал из зала при её появлении. Однажды она решила проследить за ним. Дождавшись, пока молодой человек вышел из читального зала-грота, Марьям тут же сбежала в гардеробную. Но молодого человека там не было. Не нашла она его и в комнате сдачи книг. Марьям обежала все другие залы читальни и, наконец, в комнате, отделанной чёрным дубом, в самом дальнем углу заметила так заинтересовавшего её джигита. Он сидел, спрятавшись за скульптуру, изображавшую разъярённого буйвола, приготовившегося поднять на рога свою жертву. Облокотившись на стол, запустив обе руки в свои буйные кудри, джигит с таким свирепым упорством уставился в книгу, что при взгляде на него невольно напрашивалось сравнение с разъярённым буйволом. Марьям была поражена неизъяснимой силой, исходившей от этого человека.
Сама Марьям в тот день так и не дотронулась до книг. Почему-то билось сердце, точно взбежала по высокой лестнице и задохнулась.
Заполнявшие зал люди, в большинстве студенты, были углублены в свои занятия, но Марьям представлялось, что они нарочно, для отвода глаз, смотрят в книгу, сами же исподтишка наблюдают за ней. Она загородилась ладонью и отвернулась к окну.
Напротив был виден угол университетского здания. Медленно падали редкие хлопья снега. Вот прошли группой студенты. Старик дворник в белом фартуке сгребает снег, шаркая широкой деревянной лопатой.
Марьям нельзя было назвать красивой девушкой, и всё же в её наружности было что-то притягательное. На неё заглядывались студенты и даже молодые преподаватели. Но она никого не отмечала своим вниманием, дав себе слово не связывать себя семейной жизнью, пока не закончит учёбу и не начнёт работать по-настоящему. Вообразив по девичьей неопытности, что это столь же легко осуществить, как легко раздают подобные советы иные лекторы, скучно бубня по бумажке свои высушенные лекции о любви, она как огня боялась случайных знакомств. Но любовь, это познала она на собственном опыте, приходит, оказывается, когда её вовсе не ждёшь. Загорится в тебе, незваная, и все твои благие намерения разлетятся как дым. В чём её тайна? Какая сила зажигает этот огонь в крови? Как получилось, что Марьям, сотни, тысячи раз клявшуюся подругам даже не помышлять о любви, пока не закончит учёбу, эту самую Марьям теперь дрожь пробирает, стоит ей вспомнить о джигите, которого она не знает даже, как зовут.
«Что же это такое?.. В его власти, значит, сделать меня счастливой или несчастной?..»
Не в силах сосредоточиться, она ушла из библиотеки и долго бродила в одиночестве по казанским улицам. Тихо падали снежинки, она шла по узким переулкам, куда до сей поры никогда не заглядывала, по укрытым снежным ковром паркам. Бродила до тех пор, пока её всю снегом не занесло, как сказочную снегурочку.
Марьям окончательно загрустила, когда однажды, придя в читальный зал, не увидела в своём любимом уголке чернокудрого джигита. Где он? Куда пропал?.. Она ведь не имеет ни малейшего понятия, кто он. Возможно, он и не казанец вовсе… На время приехал сюда из другого города?.. Она увидела его совсем неожиданно, в майский праздник, в первом ряду колонны знаменосцев. Джигит был всё в том же своём военном кителе, только на этот раз на груди у него сверкала Золотая Звезда Героя.
«Он!..» – задохнулась Марьям, теряя голову от радостного волнения. И в ту же минуту всё вокруг заиграло радужными красками.
Возвращаясь с демонстрации, она думала: «А в библиотеку ни разу не пришёл с Золотой Звездой…» И это маленькое открытие было для неё особенно радостным.
А через несколько дней Марьям снова увидела черноволосого джигита в своём любимом уголке. Запустив руки в пышную гриву волос, он с головой ушёл в лежащую перед ним книгу. Правда, Марьям не вдруг узнала его, – джигит был в штатском. Огнём зарделись щёки девушки. Замерев, она ждала, почувствует ли джигит, что она здесь. И тут же побранила себя: «Что эта я глупостями занимаюсь… Экзамены на носу… Такие ответственные дни, а я…» Она тихонько опустилась на первое попавшееся место, стараясь не поднимать глаз от книги. Но какая-то неведомая сила заставляла её то и дело вертеть головой: будто мальчишка-шалун направил на её голову солнечный зайчик, и этот зайчик щекочет ей шею, скользит по волосам, не даёт минуты посидеть спокойно.
Не находя сил перебороть это мучительное состояние, Марьям резко подняла голову… Место джигита было пусто. Марьям мгновенно собрала книги и бросилась вниз, в гардеробную.
Молодой человек, стоя к ней спиной, надевал пальто. Не отрывая от него глаз, Марьям протянула свой номерок гардеробщице. Джигит обернулся. Заметив её, он поздоровался, попросил разрешения помочь ей одеться. Марьям не противилась. В то мгновение она совсем забыла, что пальто у неё не по сезону лёгкое и вдобавок сильно поношено, хотя в другое время всячески старалась, чтобы ребята этого не заметили.
Вышли на улицу. Только что бурлившая в Марьям смелая решительность на свежем ветру бесследно рассеялась. Испуганная, растерянная, она не находила, о чём заговорить. «Если скажу, что видела его в майский праздник со Звездой Героя, подумает ещё, что слежу за ним», – решила девушка. И ещё больше смешалась.
– Марьям, – обратился вдруг к ней джигит, – вы ведь живёте на Арском поле?.. Можно мне немного проводить вас?
Не в состоянии скрыть своей растерянности, Марьям глянула на него снизу вверх.
– Если вас не затруднит… – пробормотала она, всё ещё не веря своим ушам. – Вы, оказывается, знаете не только моё имя, но и где я живу. А я даже имени вашего не знаю.
Молодой человек ответил шутливо:
– Узнали бы, если бы оказались в моём положении.
Ошеломлённая Марьям притворилась, что не расслышала. А джигит, словно ему доставляло удовольствие приводить девушку в смущение, попросил разрешения рассказать и всё остальное, что он узнал о Марьям.
– Говорите, – едва слышно ответила Марьям, краснея. И вдруг её охватила тревога. Что за человек? Почему так интересуется ею?
Джигит назвал улицу и даже дом, где жила девушка. Ему было известно, куда выходят окна её комнаты, кто её подруги. Он даже сказал, откуда она родом, и, лукаво улыбаясь, спросил:
– Не наврал?
Марьям, раскрасневшаяся, чуть испуганная, пролепетала:
– Можно подумать, вы разведчик.
– Угадали. В армии действительно был разведчиком. А теперь я человек мирного труда…
– Постойте, – прервала его Марьям, понемногу смелея. – Сначала скажите ваше имя! Должна же я знать, как к вам обращаться.
– Иштуган Уразметов, – ответил джигит.
Накручивая на пальцы чёрные кудри мужа, Марьям некоторое время сидела, погружённая в воспоминания, затем с грустью проговорила:
– Ах, Иштуган, опять ты уезжаешь. А я каждый день… Врач сказал, уже скоро… Сегодня с трудом поднялась по лестнице. С тобой мне ничто не страшно, а без тебя… боюсь, сама не знаю чего.
Накопившееся в Иштугане раздражение вылилось наружу. Он начал было возбуждённо рассказывать о новом директоре, что тот не пожелал даже выслушать его, но, заметив, как это сильно действует на Марьям, замолчал.
Прозвенел звонок. Марьям с Иштуганом переглянулись – кто бы это мог быть? Домашние обычно не звонят. Каждый имеет свой ключ.
Марьям поправила волосы, платье. Взяла со стула маленький чемоданчик и поставила его за шифоньер. Иштуган пошёл открыть дверь. Вскоре он вернулся с инженером Аваном Акчуриным. Марьям, хорошо знавшая его по работе, да он и домой к ним нередко наведывался, приветливо встретила гостя.
Высокий, с некрасивым лицом и длинными руками, Аван Акчурин был к тому же ещё и несколько сутуловат. Зато в его открытых карих глазах, всегда прямо смотревших в глаза собеседника, светились ум и доброта.
После обычных расспросов о здоровье, о семье Марьям вышла приготовить чай. Мужчины заговорили о заводских делах.
Иштуган показал Акчурину только что законченный чертёж, – он привык советоваться с ним. Акчурин молча, упёршись своими длинными руками в углы стола, выслушал его объяснения и стал внимательно изучать чертёж. Акчурин знал, что Сулейман-абзы с Иштуганом давно занимаются вибрацией, и часто консультировал их.
Марьям, внёсшая поднос с чайной посудой, подметила, как ходила легонько вверх-вниз глубокая вертикальная борозда, разрезавшая пополам высокий лоб мужа.
– Тут тебе придётся немного изменить, Иштуган, – сказал Акчурин, сделав пальцем круг в одном месте чертежа. – Будет мешать во время работы станка. А здесь расчёт, видимо, неточный, слишком тонко. Виброгаситель не должен быть новым источником вибрации.
Увидев, что Марьям готовит чай, он отвлёкся, чтобы сказать ей:
– Зачем беспокоитесь, Марьям? Только что дома чай отпили…
Извинившись, что накрыла стол здесь, а не в столовой, Марьям стала разливать чай.
Акчурин поинтересовался, как движется у Иштугана дело со станком-автоматом, который он конструировал в качестве дипломной работы в заочном институте.
– Времени ведь нет, Аван-абы, – пожаловался Иштуган. – Командировки замучили. А теперь ещё стержни вклинились. Да вот эта вибрация висит на шее. Отец, он хитрый, заварит кашу, а потом и сваливает на меня. Да, по правде говоря, Аван-абы, я не очень-то спешу с этим станком. Это моя дипломная работа. А до неё ещё два года сроку.
– Два года незаметно пролетят, Иштуган. Не откладывай в долгий ящик. Пусть вечно мельтешит перед глазами. Чуть зародится какая мыслишка – ты её тут же на карандаш. Тогда ещё, будем надеяться, успеешь…
Акчурин вдруг умолк, ушёл в какие-то свои мысли и долго не произносил ни звука. Очнувшись, глубоко вздохнул.
– В вашей комнатке как-то особенно уютно. Чувствуется дружная семья. Придёшь к вам – душой отдыхаешь всякий раз…
И то, что у этого сильного мужчины при этих словах проступила в глазах тоска, и то, что он с тяжёлым вздохом опустил голову, заставило Марьям и Иштугана внутренне содрогнуться.
– А вы, Аван-абы, соберитесь к нам как-нибудь вдвоём с Идмас, – пригласила Марьям.
Не поднимая головы, Акчурин с минуту сидел без движения. Затем ослабил съехавший на сторону галстук, словно тот душил его и ему не хватало воздуха. Марьям невольно обратила внимание на несвежий воротничок рубашки, на никак не гармонировавший с серым костюмом коричневый галстук и почувствовала, что нет в его доме настоящей женской руки, сам же он, видимо, не умеет следить за собой.
– Мы, Марьям, уже давным-давно не бываем вместе в гостях, – с горечью признался Акчурин. – Идмас отказывается ходить со мной… стыдится…
В комнате установилась тягостная тишина.
Идмас, на редкость красивая женщина, работала на заводе копировщицей. Она лет на десять-пятнадцать была моложе Акчурина. Не только мужчины – женщины и те не могли без восхищения смотреть на её стройную фигуру, на нежные линии её лица, – хоть пиши с неё мадонну, – на её порывистые и всё же полные грации движения. При всём том Идмас умела одеться – изящно и со вкусом. Девушки и молодые женщины частенько перенимали у неё фасоны платьев, копировали её манеру носить шляпки, шарфики.
Марьям слышала, что Идмас большая кокетка, но не придавала этому серьёзного значения, – молодая, красивая женщина, большого греха нет, если и пококетничает когда. А всякие другие разговоры про Идмас считала сплетнями, исходящими от злых завистниц. Поэтому сейчас была поражена тем, что услышала из собственных уст Акчурина.
– Не дело говорите, Аван-абы, – сказала она с искренним волнением. – Не верьте сплетням. Идмас-ханум – рассудительная женщина. Чего ей стыдиться такого мужа? Чем вы хуже других?
Подняв голову, Акчурин посмотрел на Марьям. В его печальных глазах мелькнула искорка надежды и тотчас погасла.
– Вы ещё не знаете её, Марьям, – сказал он и опять поник головой. – Ладно, я пойду. Заскучал, вот и зашёл. Не обессудьте.
Проводив Акчурина, Марьям и Иштуган некоторое время сидели молча, подавленные. Наконец Марьям поднялась и стала собирать со стола. Руки её мелко дрожали.
– Думаешь о людях одно, а на поверку получается другое, – покачал Иштуган головой. – Я-то воображал, что, имея такую красавицу жену, Аван-абы чувствует себя счастливейшим человеком в мире. А он…
– Верить не хочется… – никак не могла успокоиться Марьям. – И отчего это так?.. Люди сами разрушают своё счастье… Ведь жизнь не приходит дважды. Вместо того чтобы жить красиво…
И Марьям, пряча от мужа полные слёз глаза, взяла посуду и ушла на кухню.
4
Когда Сулейман переступил порог директорской квартиры, первый человек, которого он увидел, была Ильшат, что-то оживлённо обсуждавшая в передней с тремя мужчинами. Сулейман кивком головы сухо поздоровался с ними.
Все трое были ему хорошо знакомы. Один из них – начальник снабжения на «Казмаше» Маркел Генрихович Зубков, другой – заведующий складом Хисами Ихсанов, третий – грузчик автомашины Аллахияр Худайбердин. Хотя все они были примерно одного возраста – средних лет, но внешне резко отличались друг от друга. Маркел Генрихович, с виду заправский интеллигент, холёный, вежливый, рот полон золотых зубов. Вечно тяжело сопевший Хисами, с плоским лицом, водянистыми глазами и красным, как свёкла, носом, походил на старорежимного торговца мясом. Казалось, его непомерно раздавшееся вширь туловище вот-вот поглотит голову, он уже не в состоянии был смотреть прямо перед собой, как смотрят все люди, его выпученные глаза всегда блуждали где-то поверху, словно искали петлю, чтобы сунуть голову. Аллахияр был попросту малоумок, не удался и внешностью. Уродливой фигурой он смахивал не то на старую обезьяну, не то на кривое дерево, иссохшее на корню. Большая голова сзади точно срезана, толстые влажные губы отвисли, глаза бессмысленно выпучены, точно у овцы, заболевшей вертячкой.
Маркела Генриховича и Хисами Ихсанова Сулейман знал мало – такие работники на заводе слишком часто менялись, но об Аллахияре Худайбердине знал всю подноготную. Аллахияр был младшим сыном известного в прошлом казанского миллионщика Худайбердина, прогремевшего некогда на всю округу своими скандальными похождениями и кутежами.
Худайбердины придерживались дикого обычая: если выдавали замуж девушку, то непременно, чтобы не ушло на сторону богатство, за сына самых близких родственников; если брали невестку в дом, то обязательно дочь ближайших своих родичей, чтобы не вошёл в дом Худайбердиных чужой человек, и не считались при этом с возрастом жениха и невесты, а тем более с их желанием. Зачастую семнадцати-восемнадцатилетнюю девушку выдавали за седеющего вдовца, молоденького парнишку женили на засидевшейся в девках, а то и вовсе на вдове. Болтали даже, что двое братьев Худайбердиных приходились друг другу в то же время и сватами.
Этот дикий обычай жил в байской семье долго, переходя из поколения в поколение. В результате род постепенно начал гаснуть, вырождаться. Когда-то славившиеся своей удалью, силой, умом и предприимчивостью, Худайбердины, несмотря на рост богатства, всё больше хирели умственно и физически. В их семье стали множиться алкоголики, убийцы, самоубийцы и просто идиоты от рождения или маньяки, свихнувшиеся на том, что мнили себя казанскими ханами.
Аллахияр был единственным уцелевшим обломком этой выродившейся фамилии.
Завидев Сулеймана, тройка заспешила к выходу. Маркел Генрихович, прикладывая к груди зелёную, под цвет зоба селезня, велюровую шляпу, которую он с неподражаемым изяществом держал кончиками двух пальцев, говорил:
– До свидания, Ильшат Сулеймановна, будьте здоровы. И, пожалуйста, ни о чём не беспокойтесь… Мы сами всё сделаем… – И, кивая головой и притворно улыбаясь, чуточку обнажая при этом золотые зубы, задом пятился к двери.
Хисами, приложив руку к груди, молча поклонился. А Аллахияр, тупо озиравшийся с разинутым ртом, и прощаться не стал. Толкнул дверь ногой и вышел.
Маркел Генрихович, почтительно пожав пухлую, как пшеничная пышка, белую руку Ильшат, ещё раз заверил в своей готовности к услугам.
– Хасану Шакировичу передайте, пусть не забивает себе голову хлопотами по дому. Вот хоть Сулеймана Уразметовича спросите, он знает положение завода. Здесь не столица и даже не Урал, здесь пустяковую вещь и то приходится добывать в поте лица… Половину нервов своих растеряешь. А тут ещё вдобавок и план увеличивают…
Сулейман глянул на него исподлобья, усмехнулся и подумал: «Крупно берёт, золоторотый. Ради подхалимства грязью готов облить свой завод».
Но Маркел Генрихович, как видно, истолковал его усмешку иначе. Она послужила для него свидетельством, что похвалы зятю-директору достигли своей цели, и он, улыбнувшись сразу обоим, сказал:
– Если я понадоблюсь, Ильшат Сулеймановна, не стесняйтесь, пожалуйста, звоните в кабинет или домой… Я записал номера своих телефонов в вашу телефонную книжку. Ещё раз до свидания. Не хворайте… Будьте здоровы, Сулейман Уразметович, – и только выйдя за дверь, надел шляпу.
Сулейман молча смотрел вслед тройке, а когда дверь за ними закрылась, спросил у дочери:
– Что это они сюда стадом ходят?
Ильшат смутилась:
– Расставить мебель помогли.
– А разве нельзя было попросить родных? – спросил Сулейман дочь. – Или мы ничего не понимаем в таких тонкостях, га?
Ильшат расстраивали натянутые отношения между мужем и отцом. Поняв, что старик обижен, она, ещё больше смутившись, сказала, вымучивая из себя улыбку:
– А ты, отец, по-прежнему ершистый, оказывается. – И, чтобы не показать слёз, быстро распахнула обе половинки дверей в нарядно обставленную, просторную, светлую залу: – Прошу, отец, со счастливой ноги… Ты первый из нашей родни ступаешь на этот ковёр.
Но Сулейман посмотрел на свои пыльные сапоги и остался стоять в дверях.
– Ничего, отец, проходи… Раздевайся.
– Нет, погоди, дочка, раздеваться я пока не буду. На минутку заглянул. Слово есть к зятю.
– Очень хорошо. Он скоро будет. Звонил недавно. Он сейчас в обкоме. Сказал, будет с минуты на минуту. Раздевайся… Всё равно без чая не отпущу. И не надейся.
Ильшат приоткрыла дверь в кухню и, крикнув: «Маша, чаю!» – принялась расстёгивать пуговицы на пиджаке отца. Но отец пиджак не снял.
– Погоди, дочка, – отстранил он её и в расстёгнутом кургузом пиджаке, зажав в кулаке кожаную фуражку, прошёл в зал, тяжело ступая в своих грубых сапогах по мягкому ковру. В огромном – от пола до потолка – зеркале отразилась вся его плотная, крепкая фигура на кривых, по-кавалерийски, ногах, с рукой, засунутой в грудной карман пиджака.
С противоположной стены из зеркала уставилась на него, мёртво выкатив стеклянные глаза, голова оленя. Ветвистые рога занимали чуть не половину стены – до самого потолка.
Обернувшись, Сулейман несколько секунд разглядывал её. Он не видел в этой мёртвой голове никакой красоты и не мог понять, ради чего пригвоздили её к стене.
– Что, или зять Хасан-джан сам убил этого оленя, га? – спросил он, насмешливо поблёскивая чёрными глазами.
– Ладно уж, отец, не поддевай каждую минуту, – протянула Ильшат обидчиво. – Раздевайся… Неприлично ведь так. Не у чужих людей, у дочери.
И, сняв с отца пиджак, отнесла его на вешалку, затем потянула его на диван и сама села рядом. Ильшат уже не раз успела побывать в доме отца по приезде, но в последние два дня, занятая квартирными хлопотами, не показывалась у них. Посыпались вопросы: как самочувствие Марьям? Что же решил в конце концов делать Ильмурза?
Сулейман-абзы отвечал нехотя. Ильшат было очень горько, что после стольких лет разлуки отец не находит для неё тёплого слова. Сидит надувшись, точно он чужой в этом доме, точно и не рад вовсе, что у дочери дом – полная чаша, наоборот – даже осуждает её за это. В прежние годы, бывая у них на Урале, отец относился к ней куда теплее. Посадит Альберта – совсем ещё малыша тогда – на шею и бегает на четвереньках по полу. А то мастерит ему разные замысловатые игрушки. И Ильшат нарадоваться не могла… А сейчас… будто его подменили.
– Посиди, отец, немного… Сейчас накроем на стол, – сказала она и, поднявшись с дивана, достала из буфета и стала расставлять на столе красивые чашки с золотыми ободками, сахарницу, розетки с вареньем, большие вазы – с яблоками, печеньем, пирожными.
Ильшат, как и все Уразметовы, была жгучей брюнеткой. Ей уже было под сорок, и она начинала заметно полнеть, но её лицо было поразительно моложаво. Отливающие синевой толстые косы собраны в тугой узел. В ушах сверкали серёжки, похожие на падающие капли. Длинный пёстрый, как павлиний хвост, халат выглядел на ней как-то особенно шикарно. Ногти такие же ярко-красные, как и губы.
У Сулеймана стало тоскливо на душе. Он вспомнил свою покойную старуху. Не только на заводе, но и дома не снимала она передник, руки всегда были в работе. Но работа никогда не надоедала ей. Она часто говаривала: «Если что не моими руками сделано, не по себе как-то мне».
Ильшат, догадывавшаяся отчасти, почему загрустил отец, старалась быть с ним повнимательнее, развеселить его.
– Я всегда рада, когда ты чувствуешь себя у нас как дома, – сказала она, ласкаясь. – А то как-то нехорошо… Ты на что-нибудь обиделся?.. А я, отец, тосковала по тебе…
– Я в этом не сомневаюсь, дочка, – сказал Сулейман-абзы. – Не совсем остыла в тебе, надо полагать, уразметовская кровь.
– Почему же ты тогда такой хмурый?
Сулейман хотел ответить, но в это мгновение в комнату вошла молоденькая девушка в белом переднике. Она несла маленький самоварчик. Поставила его на стол и молча вышла. Когда она скрылась за дверью, Сулейман спросил:
– Это ещё что за соловей?
– Ой, отец, ну почему ты сегодня фыркаешь на всё кругом? Тебе не всё равно кто?
Налив в чашку чаю, Ильшат поставила её перед отцом и, повернувшись к правой двери, позвала, вероятно, для того, чтобы прекратить неприятную беседу:
– Альберт, иди чай пить. Дедушка пришёл.
Ильшат уже точило беспокойство, она начинала догадываться, что отец пришёл неспроста. «Неужели опять старое начнётся?» – думала она. И чем больше думала, тем сильнее росла тревога. Она боялась – начнёт старик донимать Хасана, тот тоже, в свою очередь, поднимет голос. А Ильшат так хотелось тишины, покоя. После суеты с переездом, после разных дорожных неприятностей она надеялась сегодня – впервые после Москвы – встретить мужа, как и раньше, в уютной, прибранной квартире. Надеялась, наконец, и от Хасана, ставшего в последнее время таким скупым на тёплое слово, на ласковый взгляд, увидеть сегодня добрую улыбку, которая так много значит в семейной жизни, особенно для женщины. Она и сама не понимает, почему именно сегодня все её мысли, все её желания сосредоточены на этом.
Она давно уже чувствует, что между нею и мужем нет былой близости. Сознание этого надрывает ей душу, как и всякой женщине, любящей своего мужа. Она, насколько хватало сил, стремилась разрушить эту вставшую между ними невидимую стену. Она старалась получше одеться, прибегала к помощи косметики, создавала уют в доме. Предупреждала малейшие желания мужа, удовлетворяла все его капризы. Хозяйственный размах Маркела Генриховича обрадовал её. Для неё как бы приоткрывались врата счастья. Но дикий ветер, который принёс с собой отец, мог в один миг развеять, свести на нет все её усилия.
Открылась боковая дверь. Вошёл Альберт, худой, с болезненным цветом лица и небрежной шевелюрой юноша, носивший модные усики. Не отрывая глаз от книги, натыкаясь на стул, он медленно двигался к столу.
– Альберт, поздоровайся же, здесь твой дедушка, – сказала Ильшат, краснея за сына.
– Здорово, бабай! – небрежно бросил Альберт, не поднимая головы.
Сулейман усмехнулся в усы.
– Ну что ж, здорово, так и быть… Видать, страх интересную книжку читаешь, товарищ студент? Даже головы недосуг поднять.
Альберт пробурчал что-то невнятное.
– Ты, сынок, пожалуйста, по-нашему говори, – сказал Сулейман. – Не учён я. Не понимаю твоей тарабарщины. За границей не бывал.
Альберт с прошлого года, когда нависла угроза его исключения из Московского университета, переехал учиться в Казань. Перевод устроил через своих друзей Хасан, Ильшат сама настаивала на этом переезде. «Поселишься у дедушки, – сказала она Альберту на прощание. – Тебе полезно пожить в рабочей семье».
Но Альберт, пожив у деда неделю-другую, нашёл себе отдельную комнату и, не находя нужным пускаться в объяснения, перебрался от Уразметовых туда.
С улицы донёсся гудок автомобиля.
– Приехал! – Ильшат, незаметно для отца, бросила взгляд в зеркало, поправила причёску, халат и выбежала в переднюю.
Девушка в белом фартуке тоже подбежала туда.
– Словно на пожар, – хмыкнул Сулейман.
Ильшат тут же вернулась и, умоляюще взглянув на отца, шепнула:
– Отец, дорогой, пожалуйста, не расстраивай Хасана. – И опять выбежала.
«Сумел поставить дело зятёк», – подумал Сулейман.
Оглянулся – Альберт тоже исчез. Дед даже не заметил когда.
В передней поднялась суета. Через мгновение дверь открылась, и в залу вошёл Хасан. Величественная осанка. Седеющая голова. Протянув руку, он пошёл навстречу тестю и уверенным, густым баритоном произнёс:
– А-а, гость у нас… Здравствуй, отец! Ну, как жизнь?
– Стареем помаленьку, – ответил Сулейман, пожимая зятю руку. – Года-то не убавляются, а прибавляются.
– Ну нет, ты пока не сдаёшь, отец. Садись, чай пить будем. Пойду только умоюсь.
Грузно шагая, Муртазин вышел в другую комнату. Ильшат, как тень, последовала за ним. Сулейман снова остался один в этой большой зале. Душа полнилась новой тревогой, которой не было, когда он шёл сюда. Ему смертельно жаль было дочь. Не оставляло чувство, что она здесь не больше, как вот эта роскошная мебель. Хотелось встать и уйти, ни с кем не прощаясь. Но вошёл Альберт.
– Бабай, чего такой мрачный? Обиделся?
– Садись-ка сюда, – сказал Сулейман, не отвечая на вопрос. – Почему перестал ходить к нам, га?
Бледное, болезненное лицо Альберта слегка покраснело.
– Заниматься много приходится…
От Сулеймана не скрылось, что внук не искренен. Он весело повёл бровью.
– Наша Нурия тоже занимается много, а у неё на всё время хватает.
Альберт недоверчиво улыбнулся. С Нуриёй он не ладил. Где ни столкнутся – непременно сцепятся друг с другом. Возможно, это тоже была одна из причин, почему Альберт не ужился в доме Уразметовых.
«Дочкой своей всё хвастаешься», – подумал Альберт, но вслух этого не сказал. Он немного побаивался деда из-за его крутого нрава. Он шутил, что это у него «остаточные явления детства».
– Рано задаваться начал, Эльберт, – сказал Сулейман, умышленно искажая непривычное для слуха чужеземное имя. И уже другим, более тёплым тоном добавил: – Приходи, поговорим о международном положении, в шашки поиграем. Судьёй будет Айнулла.
Шашки оба любили, играли азартно.
В залу вошёл Хасан, в махровой пижаме, с чалмой из полотенца на голове, порозовевший, даже взгляд посветлел. Альберт тотчас же ускользнул в свою комнату.
– Люблю, отец, в ванне поплескаться. Райское блаженство!.. У меня друг на Урале, так тот заберётся в ванну да коньячку грамм сто пятьдесят ахнет. Мне-то врачи запретили… Сердце шалит. А ты, надеюсь, выпьешь. Вон открой левую дверцу буфета, там пять звёздочек есть. Пока Ильшат не видит…
– Спасибо, зять. От таких звёзд и моё сердце пошаливает, – сказал Сулейман без улыбки. – У меня к тебе несколько слов есть… Скажу, да и домой подамся. Поздно уже.
– Если личное что, пожалуйста, отец. Если по заводу, не будем здесь говорить. – И Муртазин опустился на диван, небрежно обмахивая концом полотенца лицо. – Не терплю семейственности в государственном деле. Вообще скажу – не очень приятно попасть директором на завод, где у тебя полно родственников… Широкое поле для сплетен… Так ведь?
– Тебе виднее, зять, – сухо сказал Сулейман. – На этом заводе мой дед спину гнул. Отец. Я работаю. Мои дети работают. Надеюсь, что и внуки и правнуки здесь будут трудиться. Нам отсюда уезжать некуда. А директора? Они приезжают и уезжают…
– Вот именно, – чуть поморщился Хасан и, сев поудобнее, спросил: – Что за просьба, отец?
– С просьбами, зять, только старухи пенсионерки ходят. – Розовое, с крупными чертами лицо зятя передёрнулось. Но Сулейман-абзы и не подумал посчитаться с этим. – Я к тебе пришёл о человеке поговорить. Как, об этом можно?.. Вроде не заводское дело? Авось за это в семейственности не обвинят.
– Ты это об Иштугане, что ли? У него командировка на руках. Утром должен ехать. Он и так задержался. Едет он не по моему капризу, а по приказу министра. – Муртазин улыбнулся. – Без очереди я его не принял? Это правда. Не хотел давать пищу злым языкам.
– Нет, я не об Иштугане пришёл толковать. Из-за него не пошёл бы, – негромко возразил Сулейман, внутренне довольный, что зятю режет правду-матку в глаза. – Приспичит, сам поговорит. Не хуже меня умеет кусаться… Я пришёл говорить о другом человеке, пришёл потому, что от злости тесно стало в рубашке. Скажи-ка, зять Хасан-джан, зачем ты обидел Матвея Яковлича, га? Или зазнался уж очень? Не по рангу, может, считаешь признавать таких маленьких людей, как он, га? Чего молчишь? Слов не найдёшь? А я, дурак, ждал, что ты, как ступишь на казанскую землю, прежде всего к нему наведаешься…
Муртазин не стал оправдываться, не стал говорить: дескать, устроимся, тогда позовём обоих в гости. Или: хоть убей, отец, – не узнал… Не сказал он и о том, как ругал себя за промашку, что дал себе обещание зайти к старикам, да в сутолоке заводских дел забыл об этом.
– Вот что, отец, – сказал он, явно недовольный разговором, – у меня нет желания ни ругаться, ни отчитываться перед тобой, ни выслушивать твои назидания. Давай-ка лучше чайку попьём. Много мне пришлось перевидать людей за свою жизнь. На одном лишь Уральском заводе под моим началом работало свыше пяти тысяч человек… И хороших людей немало там было. Но если бы я стал всех их хранить в сундуке своей памяти…
Сулейман-абзы собирался было ответить спокойно: «Что поделаешь, твоя обязанность такая. Директор всюду один, а рабочих под его началом сотни и тысячи. Трудно, а знать всё же надобно». Но последняя фраза взорвала его.
– В сундуке?! – перебил он, и в его голосе прозвенело негодование. – Га! – гортанно выкрикнул он и замотался по зале, то закладывая в возмущении руки назад, за спину, то вытягивая их перед собой. – Ты, зять Хасан-джан, начал уже в сундук людей складывать, га?.. Нет, не советую!.. Самого туда сунут.
Муртазин расхохотался. Это было так неожиданно, – Сулеймана точно холодной водой окатили. Дико поведя своими чёрными глазами, он растерянно замер на середине залы.
Муртазин всё ещё смеялся, чувствуя в то же время, что не следовало бы делать этого.
– Ты, отец, не стращай меня огородным пугалом! Я не из таковских… Не полезу от шороха листьев под куст.
Сулейман-абзы, тяжело дыша, продолжал стоять посередине залы, слегка отстранив дочь, которая прибежала на шум и, бледная, дрожащая, кидалась от отца к мужу, умоляя не ссориться.
– Давеча сундук, а сейчас пугало?.. Га!.. – Сулейман шагнул к зятю, который сидел теперь с закрытыми глазами. – Не прячь глаза, зять, смотри прямо! Я тебя не пугаю… Но запомни: не позволим тебе обижать старую гвардию. Матвея Яковлича весь завод уважает. А тебе это уважение у коллектива надо ещё заслужить. Это к рубашке дают воротник. Иногда даже не один, а два… А народное уважение не даётся бесплатным приложением к директорскому званию. Если хочешь услышать правду, зять, – тебе ещё далеко до таких, как Матвей Яковлич.
– Говори, отец, да не заговаривайся, – бросил Хасан, не открывая глаз.
– Нет, я не заговариваюсь. А если что и лишнее сказал, так вы оба – Ильшат и ты – зовёте меня отцом. Значит, если переборщу, вредно не будет, на пользу пойдёт… Оттого что ты не отдал должного уважения Матвею Яковличу, он-то ничего не потерял перед народом, а вот ты уже потерял. И потеряешь ещё больше, если не хватишься! Вот! Всё!.. Больше мне не о чем говорить. Прощайте!
И Сулейман быстрым шагом направился в переднюю. Хасан не стал останавливать его. Ильшат посмотрела на отца, на мужа и побежала за отцом.
– Нехорошо уходить так, отец… Со скандалом… Почему не поговоришь толком, без крику?
Не в силах дольше удерживать слёзы, она уткнулась в отцовское плечо. Сулейман-абзы мягко погладил её по голове.
– Как сумел, дочка, так и сказал. Об остальном сами уж поговорите… толком.
– Я завтра же схожу к Матвею Яковличу. И Хасан ведь сходит… Только не сейчас. Сейчас его не пустит туда упрямство, самолюбие, а пройдёт время, сам же потянется к ним… прощения просить. Он ведь, отец, не такой уж чёрствый человек.
– Это, дочка, тебе виднее. Я не знаю. Ну ладно, будь здорова. Навещай нас. А то как бы и ты… Болото-то, оно засасывает. Смотри!
Бывало, и раньше Сулейман уходил вот так сгоряча, разругавшись. Но он не был злопамятен. Пошумев, стихал, как стихает, разряжается туча, погромыхав и пролившись дождём. И, если был прав, переживал глубокое удовлетворение, а неправ – раскаивался. Но на этот раз, хоть и выложил, не считаясь ни с чем, всё, что скопилось в душе, – никакого облегчения не почувствовал. Наоборот, обида горьким комом застряла в горле, стесняя дыхание. А тут улица вдобавок, словно назло, почему-то тёмная сегодня. Под ногами какие-то ямы, рытвины. Несколько раз старик чуть не упал – оступался.
«Погоди, погоди, как же это получилось? Шёл по шерсть, а возвращаюсь сам стриженый… Неужто так?!»
В парадном его чуть не сбила с ног Нурия.
– Ослепла, что ли! – закричал и без того раздосадованный Сулейман. – Куда несёшься, точно котёнок, которому хвост подпалили?! Га?
– Машину встречать. Марьям-апа плохо, – бросила Нурия, не останавливаясь.
Горький ком, застрявший в горле, вылетел, как пробка.
– Что ты говоришь!.. Давно? Гульчира дома? – крикнул он вслед дочери.
– Что толку в Гульчире… Абыз Чичи позвала.
И Нурия выскочила на улицу.
Вдали возникли два огонька, они быстро приближались. Ослеплённая ярким светом фар, Нурия вышла на середину улицы и подняла руку.
Машина остановилась, и Нурия снова юркнула в парадное.
Подхватив Марьям под руки, Иштуган с Гульчирой вели её по лестнице. Лицо у Марьям было бело, как бумага. Губы закушены, видно, чтоб стон не вырвался. Увидев свёкра, она смутилась, опустила голову. Из-за её спины послышался подбадривающий голос Абыз Чичи:
– Ничего, ничего, не торопитесь, дети, Аллах поможет.
Машина, загудев, отъехала. И остался Сулейман на тёмной улице один. А что это белеет в темноте? Ах, да, это платок на голове у Абыз Чичи. Взволнованный Сулейман молчал, а старуха, словно читая молитву, всё повторяла одни и те же слова:
– Пусть будет суждено ей благополучно разрешиться. Пусть будет суждено ей благополучно разрешиться…
5
Проводив отца, Ильшат вернулась к мужу. Подложив обе руки под голову, Хасан лежал на диване и мрачно смотрел в потолок. Крупные складки на его лице стали ещё глубже, мелко дрожали морщинки на переносье.
Ильшат он не сказал ни слова, даже не взглянул на неё. «Почему он такой… Скрытный… Всё в себе копит?» – думала Ильшат, собирая со стола. В руки попался недопитый отцом стакан с остывшим чаем. Губы у неё задрожали, и она поторопилась выйти в спальню, чтобы не расплакаться при муже.
Подняв к губам скомканный платок, она остановилась перед овальным зеркалом. Оттуда на неё смотрела красивая женщина с полными слёз глазами и горькими складочками в уголках рта. Взгляд её упал на пустой флакон, отражавшийся в том же зеркале. Это был красивый резной флакон из-под дорогих духов. Духи давно кончились, но Ильшат пожалела выбросить его и оставила как красивую безделушку на своём туалетном столике.
Остановив машинально на нём глаза, Ильшат отступила на шаг и, прижав платок к губам, горько задумалась. В памяти мелькало прошлое. Вот она студентка… Вот окрылённый светлыми мечтами молодой инженер-механик со свеженьким дипломом в руках. Друзья пророчат ей большое будущее, льстецы уверяют, что Ильшат покроет своё имя славой, ибо в ней сосредоточилась неиссякаемая энергия татарских женщин, что веками была обречена на бездействие. Конечно, Ильшат не очень-то верила им, она лучше других знала свои возможности, но всё же никогда не отгоняла мечту стать видным инженером.
Когда она составила новую технологию узла, сильно тормозившего работу завода, и успешно осуществила свой замысел на практике, весь завод стал шуметь об инженере Уразметовой – она носила свою девичью фамилию. Как раз в эти дни освободилось место помощника главного инженера. Одни считали, что на это место назначат инженера Хасана Муртазина, так как по своему положению он ближе к этому посту, другие находили куда более достойной этого назначения Ильшат.
Обычно весёлый, внимательный, приветливый, Хасан после этих слухов как-то сразу помрачнел, на лицо точно тень легла. Он всё чаще заговаривал о том, что завод ему надоел, что он рад будет уехать отсюда при первой возможности. И, хоть обиняками, всё настойчивее давал понять жене, что увлечение её новой технологией не ахти какое дело, что проблемы, которые разрабатывает он, более важные, нужные. Жаловался, что чьи-то подножки мешают ему реализовать его смелые идеи, но, если бы Ильшат чуточку помогла, он мог бы преодолеть эти препятствия.
Бесконечные разговоры на эту тему терзали Ильшат. Она пробовала заставить его говорить без намёков, напрямик, – Хасан всячески избегал этого.
Но есть миллионы других вещей, которые безошибочно показывают внутреннюю сущность человека. Настороженному человеку очень много могут сказать взгляд, улыбка, жест, случайно брошенное слово… Ильшат собирала-собирала по крупицам свои наблюдения, и ей наконец-то понятна стала столь нужная ей маленькая истина, скрытая за громадой туманных словесных излияний: Хасану не хотелось, чтобы жена опередила его.
Только и всего!..
Ильшат была потрясена, более того, оскорблена этой жалкой, низменной чертой характера своего мужа. Не хотелось верить, что Хасан до такой степени мелочен. Хотелось развеять этот оскорбительный туман, разъедавший их добрые отношения. Улучив момент, она с присущей Уразметовым прямотой сказала ему всё, что думала.
– Ерунда! Дикая ерунда!.. – рассвирепел Хасан. – Оказывается, жива ещё тысячелетняя истина… Нет той порочной мысли, которая не могла бы зародиться в мозгу женщины.
Он не мигая смотрел на жену холодными, стеклянно поблёскивавшими глазами. Но, кажется, впервые за их совместную жизнь Ильшат не успокоил этот как будто прямой, не прячущийся взгляд мужа. Она пустила в ход женские уловки. Соединив вместе покорность, нежность, хитрость, – это вернейшее против мужчины оружие женщины – она, ластясь, стала уверять, что во имя любимого мужа готова отказаться от любых предложений, что покой мужа и благополучие семьи ей дороже всего на свете, что для неё нет большего счастья, как остаться луной при солнце. Хотя Хасан и был насторожен, он не заметил расставленной сети. В глубине его небольших карих глаз, спрятанных за густыми ресницами, нет-нет да вспыхивали искорки удовлетворения. Правда, он тут же гасил их, но Ильшат уже успевала «засечь» их. Да, теперь она окончательно поняла своего мужа. Внутри у неё всё захолонуло. Вот тут-то бы ей и решиться на самый смелый, самый ответственный в жизни шаг…
Но она не сделала его. Почему? Что удержало её? Какие неведомые ей самой струны зазвенели в душе?..
Однажды Хасан подсел к жене и, обняв её за плечи и поглаживая по отливающим синевой волосам, сказал своим мягким, приятным баритоном:
– Женщина, даже будучи инженером, остаётся, оказывается, женщиной. Что ты любишь возиться с тряпками, я видел, но мне никогда в голову не приходило, что у тебя копится против меня столько гадких сомнений в душе. Где ты их наскребла, Ильшат? Как ты могла предположить, что твой муж, самый близкий тебе человек, переступит тебе дорогу? Правда, я борюсь, соревнуюсь за свою карьеру… даже драться готов. Это вполне естественно. Без этого ничего не достигнешь. Я не верю, что можно хватать звёзды с неба голыми руками… Но всё это с другими. А встать поперёк дороги своей жене… Это невозможно представить… Это чудовищно! И если бы мы, муж и жена, вздумали спорить из-за какой-то должности, портили из-за неё себе кровь, нарушали покой семьи… Да иначе, как низостью, это и не назовёшь. Нас можно было бы сравнить разве с козлятами из сказки, встретившимися на узком мосточке.
Ильшат тогда была беременна вторым ребёнком. Во время первой беременности она работала вплоть до самых родов. Зато потом долго не могла встать на ноги. Напомнив ей об этом, Хасан посоветовал Ильшат быть на этот раз умнее и пойти в отпуск в положенный срок. На заводе, убеждал он, никогда делам конца не будет. Он не уставал повторять свои доводы чуть не каждый день, сам беседовал с врачом, сам ходил к директору. Ну и, как говорится, капля камень точит, уговорил-таки Ильшат, которая сначала и слышать не хотела, чтобы так рано брать отпуск. А ушла она в отпуск, не прошло и двух недель, – Хасан в один прекрасный день вернулся домой возбуждённый, с пылающим от радости лицом и, не задумываясь, какое это может произвести на жену впечатление, протянул ей выписку из приказа о назначении его помощником главного инженера.
– Что ж, я очень рада, – рассеянно сказала Ильшат.
В тот же вечер у неё начались родовые схватки.
…Вернувшись из больницы, Ильшат радовалась: скоро уже её выпишут на работу, и она пойдёт на завод. Хасан успокаивал: «Пойдёшь, конечно пойдёшь». Он просил лишь об одном: не торопиться, хорошенько поправить своё здоровье, дать окрепнуть ребёнку. На это Ильшат возражать не приходилось.
Сама Ильшат, выйдя из больницы, довольно скоро встала на ноги, но ребёнок всё хирел. После декретного отпуска Ильшат вынуждена была взять месяц дополнительно, за свой счёт, затем ещё месяц. Тут на неё свалилась новая беда: захворал желтухой старший – Альберт. Так прошло больше пяти месяцев. Ильшат чувствовала, что с каждым днём всё дальше и дальше отходит от завода, от коллектива. Её перестало тянуть на работу, она ушла с головой в мелкие семейные заботы.
На шестом месяце умер её младшенький. Вконец измученная, исхудавшая, Ильшат тяжело переживала смерть ребёнка.
Чтобы хоть немного отвлечь её от мрачных мыслей, Хасан стал уговаривать поехать на курорт или в санаторий. Возможно, Ильшат постепенно и поддалась бы уговорам. Когда Хасан был уверен в необходимости чего-либо, он умел настоять на своём. Но тут из Казани пришло новое горестное известие: умерла мать Ильшат. В тот же день Ильшат самолётом улетела в Казань.
А когда она вернулась, на её место директор завода уже взял другого человека. Ильшат было очень тяжело узнать об этом, и женщина как-то сразу внутренне сникла.
Проходили дни, месяцы, годы. Ильшат окончательно превратилась в домашнюю хозяйку. У неё появились несвойственные ей прежде склонности, очень одобрительно, надо сказать, встреченные мужем: она стала отдавать много внимания устройству быта семьи. Вся её энергия, чудесный дар уразметовской породы, уходила на это: она добилась переезда на новую, прекрасную квартиру, приобрела мебель, ковры, картины, пианино, массу дорогих безделушек. Но постепенно у неё иссяк интерес и к этому занятию. Что она находила необходимым приобрести, было приобретено, где требовались доделки, было доделано. На некоторое время она увлеклась перестановкой с места на место мебели, наконец ей и это надоело. Осталось единственное дело – воспитывать ребёнка.
Немало хлопот доставлял ей плаксивый, капризный Альберт. Всё же до седьмого класса он рос послушным мальчиком. Но с восьмого его точно подменили. Альберт стал груб, перестал считаться с кем бы то ни было. Ильшат потеряла голову: в чём дело? Почему он стал таким? Она ведь всё делала для сына, разве вот жизни не отдала.
Ильшат загрустила, заскучала по Казани, по отцу, братьям, сёстрам, по друзьям юности. Захотелось к ним, на родину. Очень долго она скрывала от мужа свою тоску, свои настроения, но наконец не выдержала и однажды откровенно всё выложила ему. Хасан вскипел. Это было первое открытое крупное столкновение между ними.
– Я отсюда могу уехать единственно по приказу партии, – кричал он жене резким, недобрым голосом. – Может, партия найдёт нужным послать меня не в Казань, а на Сахалин. Я готов!
«Что ж это такое со мной творится? Точно меня подменили! Неужели я из жизни выпала, как выбыла когда-то из комсомола?»
Тяжелее всего было Ильшат, что она сама не в силах была разобраться в себе.
Да, она порой проливала горькие слёзы, порою пробовала возмущаться, ссориться с мужем, но никогда она по-настоящему не искала путей, чтобы вырваться из этого узкого мирка на широкие просторы большой жизни.
«Откуда это у меня… Это безволие… унизительное примирение? Только ли муж тут виноват? А я? Я что, чистенькая?.. За мной вины нет?..»
Впервые после многолетнего перерыва задавалась Ильшат этими вопросами.
Неожиданная перемена – назначение мужа в Казань, встречи с родными, сегодняшний крупный разговор отца с Хасаном, особенно его последние слова, обращённые уже к ней: «Болото – оно засасывает», заставили окончательно прозреть Ильшат, привыкшую за последние годы к тихой, уютной, беззаботной жизни, и она ужаснулась.
Она поняла, что напрасно всё сваливает на мужа. Его вина, может быть, и есть… конечно есть – но главная вина на ней, на Ильшат. Искренне ненавидя обывательщину и обывателей, она сама, не замечая того, скатывалась на ту же дорожку.
Ей бы радоваться своему прозрению, а она, потрясённая своим открытием, в ужасе закрыла платком глаза.
«Вся твоя красота – одна скорлупа! А внутри… внутри пусто… Пусто, как в этом флаконе из-под духов…»
Шатаясь, она сделала несколько шагов и упала на диван.
– Какое я ничтожество!.. Что ждёт меня впереди?! – разрыдалась Ильшат.
Никогда ещё она так не плакала.
6
Ожидая звонка из родильного дома, Иштуган всю ночь не отходил от телефона. Он оставил дежурной сестре свой домашний телефон, умоляя сообщить, как пройдут роды. Сестра охотно согласилась. Но почему-то всё не звонит. Забыла, что ли?
– Чую, обманет она тебя, абы, – выпалила Нурия. – У неё и имя какое-то не настоящее – Бизяк… Мальчишечье имя…
– Не сама же она давала себе имя, – с ленивой снисходительностью улыбнулась Гульчира. – И те, кто давал имя, не могли же они знать, что она вырастет обманщицей.
– Знали, знали!.. – по-детски заупрямилась Нурия.
Иштуган, который, заложив руки назад и опустив голову, метался туда-сюда по комнате, остановился и поднял голову. Чистая, трепещущая душа Нурии проступала в каждой чёрточке её лица, свидетельствуя, что она принимает очень близко к сердцу его тревогу за Марьям. Игра розовых пятен на смуглых щеках, беспокойный блеск чёрных глаз, который она старалась скрыть от него под длинными ресницами, – всё говорило о детской непосредственности, предельной искренности её чувств.
Было уже около двух часов ночи, когда Гульчира с Нуриёй в два голоса принялись уговаривать Иштугана прилечь немного отдохнуть перед дорогой, обещая, что посидят у телефона сами. Иштуган наотрез отказался – успеет ещё отоспаться… в поезде. Гульчира тут же ушла. Нурия осталась возле брата, свернувшись калачиком на диване.
Вдруг зазвонил телефон. Иштуган бросился к трубке. Вскочила с места и Нурия. Но в телефонной трубке раздался сонный голос:
– Диспетчерская?..
– Ошибка… – с досадой бросил Иштуган и положил трубку. Через некоторое время снова раздался звонок. На этот раз кому-то понадобилось такси. После того в комнате надолго установилась глубокая тишина. Лишь тихонько поскрипывали ботинки при каждом шаге Иштугана да чуть слышно доносилось дыхание Нурии, которую наконец сморил сон.
Теперь Иштуган даже досадовал немного, что телефон молчит. Хоть бы кто милицию спросил по ошибке, что ли. Все почувствовали бы биение жизни, а то уж ему начинает казаться, что кругом всё замерло в оцепенении от этой тишины. Даже стрелки часов и те недвижны.
Потеряв терпение, Иштуган сам позвонил в родильный дом. Никто не отзывался. Он подождал-подождал и, бросив трубку на рычаг, снова принялся мерить комнату. Сердце полнилось то радостным ожиданием, то мучительным беспокойством. Ребёнок!.. У них будет ребёнок. Сколько мечтали они с Марьям об этом ребёнке. «Весь в тебя будет… Такой же смуглый. И волосёнки такие же – чёрные, кудрявенькие… И улыбка будет твоя… Улыбнётся своим беззубым ротиком, обнимет и пролепечет: «Мама». Иштуган помнил каждое слово жены. Так как первые дети жили недолго, Иштуган очень боялся за судьбу ребёнка, которого они ждали. Тосковал без детей. С другой стороны, его очень тревожили неожиданность и преждевременность начавшихся у Марьям схваток. У него уже начали зарождаться сомнения, не скрыла ли чего-нибудь от него жена. Вспомнились жёнины слова: «Если ты будешь дома, мне ничто не страшно». Почему она так сказала?.. Иштугана мучило раскаяние, почему он тогда же не спросил её об этом. Если Марьям до утра разрешится, Иштуган со спокойным сердцем уедет в командировку. А если нет? Если придётся оставить её в таком неопределённом положении?..
И Иштуган решительным шагом подошёл к телефонному аппарату. На этот раз в родильном доме подняли трубку.
– Это вы, Бизяк?
– В чём дело? – прозвучал в ответ грубый женский голос.
Выслушав Иштугана, голос кратко сообщил, что пока никаких сведений нет. «И не беспокойте зря… Утром справитесь…»
Иштуган так всю ночь и не присел ни на минуту, всё ходил по комнате.
На рассвете послышался звук открываемой двери: Иштуган вышел из дому. В парадном он остановился, поднял воротник. Едва-едва брезжил рассвет. На улице холодно, пустынно. Ни людей, ни машин. Только слышны равномерные, как стук часового механизма, удары парового копра, забивающего шпунтины на строительстве порта. «Интересно, который же теперь час?» Иштуган поднял руку и присмотрелся к стрелкам. «Стоят!.. Забыл завести. Ну и ну, товарищ Уразметов… Окончательно расклеился… Так нельзя».
На углу он посмотрел на электрические часы. Было начало пятого.
Иштуган подвёл свои часы и зашагал вдоль улицы. Через некоторое время он уже стоял у садовой решётки знакомого белого здания – родильного дома. Кое-где в окнах горел свет. За которым, интересно, лежит Марьям?
– Товарищ, не одолжите спички?.. Забыл свои.
Иштуган обернулся и увидел молоденького лейтенанта.
– Пожалуйста. – Он достал из кармана пальто коробок в металлической оправе и протянул лейтенанту.
Лейтенант прикурил и, повертев в руках металлическую коробку, спросил:
– Вы, случаем, не слесарь?.. Я тоже до армии работал слесарем-инструментальщиком в Челябинске. И тоже в свободное время такими поделками тешился.
Иштуган вгляделся в него повнимательнее, – круглолицый паренёк, едва успевший выйти из мальчишеского возраста. Даже глаза вспыхивают по-озорному, как у забияки мальчишки.
– Мальчика или девочку ждёшь? – спросил Иштуган, чтобы завязать разговор.
Круглое лицо лейтенанта засияло.
– Только мальчика.
– А если девочка?
– Не может того быть…
У парадного остановился легковой автомобиль. Из машины выскочил средних лет мужчина в шляпе и принялся изо всех сил колотить в дверь.
– Ещё один… – кивнул в его сторону лейтенант. – Десятый сегодня…
Когда мужчина в шляпе, поддерживая жену, скрылся в дверях, Иштуган с лейтенантом юркнули туда же. В вестибюле, кроме только что вошедшего мужчины, никого не было. Увидев вошедших, он приподнял шляпу и, ища сочувствия, заговорил:
– Насилу нашёл машину. Такси нет… «Скорая помощь» рожениц не берёт. А попробуйте-ка найти машину глухой ночью, да вдобавок на окраине. Я однажды уже был за повивальную бабку… – Он махнул рукой. – Безобразие! Мало того, что женщина девять месяцев носит в утробе ребёнка, мало ей мук во время родов – ещё в таком пустяковом деле не можем создать ей удобств. – Вдруг он прервал свою речь и посмотрел на лейтенанта. – И вы недавно привезли?
Посмотрев на часы, лейтенант тревожно покачал головой:
– Уже четыре часа, как…
– Почему же домой не идёте?
Лейтенант многозначительно хмыкнул и спросил:
– Вы которого ждёте?
– Четвёртого, – ответил мужчина в шляпе.
– А я первого!..
Тёмно-синие стёкла окон начали бледнеть. Донёсся шум первого трамвая, – неподалёку находился трамвайный парк.
Пожилая сестра вынесла ворох одежды, сунула его мужчине в шляпе и, заметив лейтенанта, с грубоватой приветливостью сказала:
– Поздравляю вас с дочкой.
– Не может быть!.. – крикнул лейтенант.
Его сильно покрасневшее лицо отразило такую растерянность и столько недоверия, что Иштуган и мужчина в шляпе не выдержали и расхохотались. Свернув кое-как одежду жены, человек в шляпе попрощался и ушёл.
– А вашей как фамилия?
– Уразметова Марьям. – Язык с трудом слушался Иштугана.
Большие глаза сестры чуть расширились.
– А, так это вы всю ночь не давали нам покою?.. Посмотреть на вас – мужчина вроде как мужчина… – Она хотела ещё что-то добавить, но, увидев, каким нетерпением блестят чёрные глаза Иштугана, оборвала себя на полуслове: – Вас пока ничем порадовать не могу.
Домашние ещё спали, когда Иштуган вернулся домой. Сняв пальто, он прошёл на кухню и поставил на плитку чайник.
Услышав его шаги, поднялась с дивана Нурия. Вскоре и Гульчира была на ногах. Вышел из своей комнаты Сулейман. По всему было ясно – он тоже провёл сегодня беспокойную ночь: лицо помятое, под глазами мешки.
– Сынок, ты уходил куда-то?.. – спросил он Иштугана. – Не к невестке?.. Как её состояние?
– Говорят, без изменений… по-прежнему.
В голосе Иштугана звучало скрытое беспокойство. Сулейману жаль стало сына.
– Ты, сынок, очень не раскисай, – сказал он мягко. – Такой уж наш род уразметовский, – много он трудностей доставляет, рождаясь на свет. Бабушка ваша, покойница, рассказывала – три дня мучилась, прежде чем разродиться мной. Да и ты, сынок, и Ильмурза, и Гульчира много беспокойства доставили, пока свет белый увидели. Одну Нурию ваша мать так родила, что и не почувствовала.
Нурия вся расцвела от радости, точно ребёнок, которому конфетку дали, задорно подняла свой хорошенький носик: «Видели, какая я!»
Прежде чем уехать на вокзал, Иштуган кликнул к себе Нурию.
– Прошу тебя… Почаще наведывайся к Марьям. А когда родится ребёнок, дай мне телеграмму-молнию. Сюенче – велосипед – за мной…
– Слово, абы!.. – подняла разгоревшиеся глаза Нурия.
Иштуган схватил чемодан. Надо было торопиться. Тяжело ему было оставлять в такой момент Марьям одну.
9
Здесь игра слов: мурза – по-татарски «дворянин».