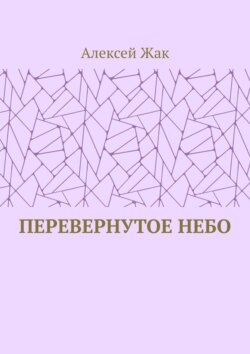Читать книгу Перевернутое небо - Алексей Жак - Страница 3
ЧАСТЬ 3. Перевернутое небо
24. Абигейл
Оглавление1.
– Это уже давно ни для кого не секрет, – поделился новостью с Дикаревым командированный на траулер технолог рыбфабрики. Он впервые вышел в море и очутился в непривычных для себя походных условиях. Говорил он полушепотом, стоя на ступенях перед входом в морозильный отсек («Тут сто процентов никто не застукает»), – разве что для тебя эта новость окажется диковинкой. Всем известно и это факт, что до момента выплат аванса ни у кого не осталось ни копейки, ни одного припасенного цента, – он посмотрел на Дикарева, как бы изучая его, или просматривая через рентген, сканируя, контролируя наличие или отсутствие реакции на замечание. – Ладно, хорошо. Проехали. А что, если я тебе доложу тот факт, что капитан со старпомом – думаю, что здесь не обошлось без участия боцмана, – нехило поживились на продаже выловленной рыбы.
– Что ты говоришь? – Сергей изобразил на лице испуг и удивление, хотя ему было совершенно безразлично, чем в свободное время занимаются другие члены экипажа и насколько далеко они зашли в своих меркантильных интересах.
Он бы и сам туда нырнул, в атмосферу вседозволенности и всемерного (всемирного) обогащения, если б таланты позволили, но, как говорится: если не дано, то и пробовать не нужно, иначе поплатишься. Не головой, так сумой.
Он и молчал, тем более, если речь шла о руководстве; тут вообще получался полный ералаш: кто-кого блюдёт и контролирует на советских (или уже постсоветских) судах было не разобрать. Ему еще памятна была срочная служба на кораблях ВМФ, когда замполит считался заместителем бога и государя на земле – есмь один в двух лицах. И не дай бог ему ослушаться или прекословить, кара не заставит себя ждать – изыдет дьявол и тогда, как говорится, аминь.
Оттого его менее всего интересовала информация: насколь полно и законно использовало свою абсолютную власть начальство их корабля в кавычках для собственного обогащения. И персонально те люди, на которых указал чем-то обиженный и обделенный технолог.
– Ни фига себе, – прибавил Сергей, откровенно потешаясь.
– Да-да, – торопился выговориться невысокого роста и плотного покроя мужичок лет тридцати, ущербной, это было видно по всем показателям, образованности и, надо прямо сказать, обладатель не вполне достоверного, сомнительного диплома.
Он упрямо закрывал глаза на откровенное издевательское начало над выдвинутыми в сторону начальства обвинениями, сильно потел и все время поправлял на лбу намокшую челку, хотя стоял почти напротив парящего из щелей морозильника.
– Поживились. Факт. Я почему это тебе рассказываю?
– Почему?
– Потому что уважаю тебя и ценю. Ты единственный на судне человек, кто в достаточной мере образован и начитан. И знаешь к тому же английский язык. Не бери в счет штурманов и механиков. Да, они имеют образование, но оно специфичное, узкое, и не дает всесторонних знаний. Отними у них их профильные знания и умения, и что останется? Пустое место. Они и ведут себя, как простые мужики, мужланы. Никакой культуры, ни грамма понятий о чистоте отношений, об этике и совести. Другое дело – ты, Сергей. Ты – москвич, и воспитание… воспитанного и культурного человека видно из тысяч.
– Тяжело вам, наверное, живется в их обществе? Вы вроде тоже из Архангельска.
– Да-да. Ты прав, Сергей, во всем прав и в главном тоже. Тоже оттуда, из Архангельска, но я не могу с земляками ужиться, и чувствую себя, как в террариуме среди змей. Это быдло какое-то, другого, подходящего определения не найду, подлое и корыстное, отстой, а не люди. Общение с ними доставляет мне массу неприятных моментов, поверь мне.
– Сочувствую.
– Я здесь ненадолго. Хотелось посмотреть на другие страны, валюту заработать. Но вижу всё это не моё, – у Сергея опять екнуло сердце, – еще от силы один рейс и уйду. Ты не мог бы мне помочь с переводом. Я тут договорился с одним типом из местных. Мы встретимся завтра в баре, ну ты знаешь, в том на горе, «Пайротс кейф» называется, там еще такая большая стоянка для автомобилей и огромный комплекс с танцзалом и игровыми аппаратами.
– Знаю, слышал, но не был ни разу.
– Отлично. Вот и сходишь, развлечешься заодно.
– У меня все равно лишних денег нет.
– Что, бережешь валюту? Чего купить надумал?
– Коплю, – Сергей неопределенно развел руками.
– Хорошее дело, если с умом подойти, и если ради чего стоящего. А я уже, дурак, половину аванса в баре пропил. Не могу без расслабляющего. Я ведь, ты понимаешь мое состояние, теперь, когда я с тобой поделился наболевшим, постоянно в напряжении. Нервы расшатаны.
– В этом я вряд ли вам помогу.
– Смешно.
Технолог опять стер пот со лба.
– Я, ты знаешь, может быть, даже вообще не вернусь домой, обратно в Архангельск. Чего мне терять, чего я там забыл. Эту серость, эти деревянные мостовые и трескучие морозы. Я потому с тобой делюсь и откровенен, что доверяю тебе. На все сто процентов. Ну, может, не на сто, но на девяносто девять точно.
– Зря, наверное, – задумался Сергей, – но можете быть спокойны: не выдам, если решитесь. Меня самого подобные мысли посещали иногда, но в итоге я от них отказался.
– Конечно, если б я жил в Москве, то тогда бы и я не сомневался, на твоем месте. А на моём… Там, где я нахожусь… чего уж там, скажу напрямик: хуже не будет. Мне бы вот деньжат побольше. С деньгами легче начинать новую жизнь. А, как ты считаешь?
– Бесспорно. С деньгами везде фарт. А за границей уж тем более.
– Вот, ты меня понимаешь, как никто. А другие отворачиваются. Слюнтяи.
2.
Культпросветработника звали Серафимом. Подходящее имечко. Нечего сказать.
«Ему тут самое место в этом молитвенном отстойнике, – подумал и прикинул Дикарев. – Достойнее не придумаешь. Да и мое имя, если переиначить буковку одну, и ударение переставить, шлепнуть не туда, где было, не подкачало на этот раз. И фамилия к месту. Обычно она служит предметом издёвок и откровенных насмешек. А тут она, на этом острове отмолила бы все свои грехи. Как только нас обоих угораздило сюда вместе попасть? На пару. В одно время, на одном транспорте прибыли. Не иначе рок постарался. Или путеводная звезда, о которой мечтал всю жизнь, которую искал и не нашел покамест. Но ничего, время еще есть, найду. Time by time. Step by step. By-by, baby».
Серафим тоже знал английский. Лучше Сергея. Perfect, если не идеально по критериям серой, узко образованной когорты внимательных слушателей, восседающих на своих креслах – деревянных скамьях в столовой, – когда приглашенный и добрый пастор из деревни читал лекцию, больше смахивающую на проповедь, а сердобольный ученик переводил за ним, не отступая ни на шаг, ни на фразу от учителя. Казалось, они заранее наизусть выучили урок и теперь демонстрировали облапошенным зрителям навыки синхронного изложения запомнившегося материала.
«Но нет, невозможно, – Сергей поймал себя на предвзятости, – какой еще там мухлёж. Всё естественно и целомудренно, как было при сотворении мира. И теперь происходит тоже, что и тогда, только разница в объекте и объеме творения. Нынче тут рождают кумира. Всего-то».
И то правда его речь была fluent, язык – excellent. Он учил его в рейсе самостоятельно, перечитывая массу литературы на языке первоисточника. И вот теперь здесь, вдалеке от родины, утеряв связь с пенатами, приобрел наставника, не только по духу, но и по своему беззаветному увлечению – заковыристому языку иноверцев.
Пастор из баптистской церкви на утесе подарил ему две коробки брошюр в бумажных переплетах – pocket stile. Но руки Серафима пока до них не дошли, всё свое время он тратил на общение с духовником, а не на штудирование печатных трудов, в основе состоящим из детективной шелухи и сомнительной ценности бульварного чтива. Но, как говорится, дареному коню в зубы не заглядывают. Он и не заглядывал. А пословицы, всякие, как и русские, недолюбливал и обходил своим обостренным постоянным тренингом вниманием стороной. Подальше и понадежнее.
Дикарев сидел со всеми в одном ряду на длинной скамье за таким же бескрайним срубленным столом, укутанном клеенчатой скатертью в пожелтевших кленах так, что свисавшие концы терлись своей сальной бахромой окатышей о колени. А куда же он денется от коллектива? Отщепенцев и инакомыслящих не уважали в любые времена. Тем паче после тех спонтанно зародившихся майских демонстраций, начиненных всеобщим воодушевлением толпы. Каждый человек – выходец из СССР – вынужден был на родине раствориться в потоке масс, как кофейное зернышко в кипятке. Иначе следовало немедленное выдворение из котла, в котором плескалось варево – всеобщее равенство. Как не принятая, не усвояемая, не перевариваемая в продукте щепка. Сор.
Сергей следил и следовал за речью пастора, одетого в подогнанный по фигуре фланелевый пиджак мирянина, не уступал он, казалось, и за переводом Серафима, щеголявшего демонстративно перед опустившейся в его глазах публикой из матросов и командного состава своими обширными познаниями в чужой лингвистике. Наконец-то парень испытал усладу от возвышения и главенства над всеми этими глумливыми ничтожествами. Но не поспевал. Опаздывал. Спотыкался. И досадовал на себя за свое невежество и хромоногость.
– Вот, сука, – злился Дикарев, – надо же, как разошелся, гад. Вот она его минута славы, момент торжества.
С соседнего клеенчатого деревянного аэродрома ему подмигнул расплывшийся в улыбке придурка фабрикант Дима, забывший на время об эмиграции.
– Мы-то с тобой, Сергей, следим, поспеваем за речью англичанина и за искрометным переводом нашего собрата, в отличие от быдла, – говорил его блистающий и трепетавший взгляд. – Знаем о чем она. Не то, что эти недоучи. А Серафим молодец, правда? Как шпарит. Я не подозревал, что среди нас еще один знаток и интеллектуал.
– Он же из другого города, ты думал из Архары? – кинул ему обратку Сергей с издевкой, весь обмен взглядами.
– Да, вот оно как, – поймал его подачу Дима-технолог, – это всё объясняет. И что, он тоже из Москвы?
– Нет, из Подмосковья, – сказал губами Дикарев и отшутился: – Но ты же знаешь, нас с тобой на мякине не проведешь, что яблоко от яблони падает недалеко.
– И я о том же подумал, – обрадовался единению, хотя бы в мыслях, Дима.
3.
В этом месте он подскочил, сорвал со стола рукопись и разорвал на мелкие части. Тысячи частей. Тысяча чертей. На мелкие кусочки изорвал бумагу.
– Какого черта, – кричал он. – Опять нахмурился, опять хмыкнул, плюнул, растер, ухмыльнулся, рассмеялся, как придурочный. Он что, идиот у тебя? – спросил у своего отражения в шкафном зеркале. – Вроде нет, – ответил за себя, – вполне сносный персонаж. Правда, выкаблучивается все время, и бесстыдно врет. Лажает, как бездарь, плохой актеришка. А что с него взять, кроме алиментов (шучу, забегаю вперед)? Да и те – убогие какие-то, курам на смех. Ха-ха-ха.
Дикарев вернулся к своему ноутбуку, уселся в кресло за письменным столом, гораздо меньших размеров, чем тот, что присутствовал в столовой рыбацкой шхуны из его неоконченного романа. Застрявшего на полпути, ни туды, ни сюды, и простывающего, простаивающего… Стуча по пластмассовой игрушке, он опять запнулся.
В кресло. «Так, – говорил он себе. – Сел в кресло». Дикарев поменял со временем сломанный стул с расшатанной ножкой на первоклассный экземпляр из «Эльдорадо» с мягким седалищем и высокой спинкой – боялся упасть. Настолько не по-детски его колбасило на прежнем стуле во время писания.
«Только б не заснуть в нем, – думал иногда о своем приобретении незадачливый писатель.– Настолько мягок сей продукт чьего-то неоспоримо недооцененного творчества, что совершенно отстраняет от действительности, устраняет ее полностью, и в которой раньше я, окунувшись сразу, как сел, плавал и барахтался, словно слепой кутенок».
И не заметил, как сразу стал писать. Напрасны были его опасения насчет убаюкивающих достоинств качалки. Раскачался в два счета.
«– Не поверишь, если скажу, что раньше я думал, что бурбон – это такой напиток. Вроде коньякf (коньяка)». – Дикарев хулиганил с клавиатурой ноутбука, он вдруг изменился в мгновение ока, он уже ликовал. Да, недолго продолжалась апатия и упаднические настроения. – «Или водки», – продолжал он ликовать. – «А это оказывается всего-навсего особый вид виски. Так просто. А ты думаешь об этом, ломаешь голову. А что такое «Блэк хорз»? – перескочил он на другую тему, то есть опять вернулся к выпивке: что, как не обсуждение алкогольных напитков, сближает собутыльников. Разве что конкуренцию ей может составить разговор о бабах, затрагивание интимных подробностей отношений со слабейшей и нежнейшей половиной человечества.
– Сорт пива, – ответил, не моргнув глазом Дима, рыбный технолог. – А зачем тебе об этом думать, тем более ломать голову?»
…Дикарев-писатель забыл напомнить читателю, что его персонаж, если не главный герой всего произведения, Дикарев-моряк-рыбак (в этом момент, на этой странице романа пожалуй что последнее) сидел в баре не один, а с мужиком со шхуны «Гремиха», которая уже давно не гремела, а осыпалась, как тысячелетнее сооружение времен Атлантиды. И тут моргай-не моргай, толку не будет.
«– Долго рассказывать. А почему в баре все эти люди заказывают именно этот сорт?
– Оно самое лучшее. Плюс – имидж. Не думай об этом, если хочешь, если можешь. Это – канадская фишка. Мне тот тип, которого ждем, рассказывал. Ну, не совсем рассказывал, больше показывал на пальцах: мы тогда здорово перебрали, но общий язык, как понимаешь, нашли. Пей БХ, будешь на коне. На черном. Вот такой перевод, понимаешь ли. Что-то вроде этого.
– No. Не понимаю. У нас говорят: когда на высоте положения, тогда на коне. Вышел в ферзи. Поймал удачу за хвост. Коня на скаку остановил. А мы скоро не на высоте, а под столом окажемся. Если не остановимся. Не тормознем. Тпру, жми за удила. Андестенд?
– No, but it unimportant. Ну что, Сергей, всё окей? Дальше пьем, гуляем. Или как? Не надо забивать голову ерундой. Эту глупость парни выдумали, балуются. Давай лучше о бабах.
– Ага, бабахнем, так сказать от души. Вот, наконец-то, оно самое. То, что я ждал, – воскликнул Сергей.
– А что ты ждал? Разве мы не договорились, что встречаемся только с канадцем? И финиш на этом.
– Оно самое ждал. Ту тему.
– Какую еще тему? Я тебе еще даже ничего не сказал, подготовил только, предупредил, намекнул.
– В том то и дело, что намекнул. А я намеки с полуслова, на лету ловлю.
– Что ты несешь? Пьяный уже?
– Не, не совсем еще. Пальцы твои разгляжу, сколько сумеешь показать. Только не фигуру из трех пальцев, фигой не свети. Прибереги для кого другого. Я буйный, если мою индивидуальность задеть.
– Сергей, хорош пылить. Угомонись. Выпил на пятак, а шумишь уже на канадский целковый.
– Ты меня не понял, рыбкин, – Сергей теребил Диму за ворот, – я не шумлю. Я радуюсь, что у меня такой друг имеется. Посреди почти необитаемого острова, внутри пиратской пещеры чего еще пожелать можно, как не отважного и преданного друга. Отважного Пятницу в субботний вечер. Ты же мне друг?
– Ну, вроде того.
– Вот и хорошо, вот и ладненько. Где твой канадец? Зови канадца. Переговоры будем переговаривать.
– А ты сможешь? В таком состоянии.
– Я в любом состоянии смогу, не сомневайся. Почище вашего полиглота-серафимиста… семинариста, то есть, переведу. За ручку и на ту сторону перехода. Спасибо деточка… да что вы, бабушка, не за что, старость уважать надо…
– Ну, понесло. Нет, такой ты мне не нужен, брат.
– Ну вот и породнились, аминь.
4.
От нечего делать рыбаки порой слонялись бестолку часами по раздираемому ветрами берегу. Продрогнув, но не горя желанием вернуться в тепло наскучившего им плавучего жилья – жилья на плаву, топали дальше и как можно дальше от пирса, от вмерзшего в лед железного не парящего парохода – съежившегося до неузнаваемости Союза СэСэ… СэээР. Шли туда, и всё пехом, в том направлении, где все же, несмотря на неистощимость порывов, уставал буйствовать ветер, где он разбивался о редуты скал.
Они углублялись в деревню, куда вела единственная дорога, держа в поле зрения ориентир – казалось, богом и всеми людьми забытую обитель: так там было тихо и безмолвно. Точно в многонаселенном склепе.
На этот раз сопровождать Дикарева вызвался Гришка, напарник по рыбфабрике, упаковщик коробов, а заодно и трюмный по-совместительству. Димка-фабрикант сидел… он сидел в столовой и слушал со всеми остальными свободными от вахт и работ матросами лекцию приглашённого по случаю баптиста. Священнодействие вершилось под аккомпанемент хориста и доморощенного переводчика Серафима, которому легко удалось сблизиться с иностранцем и втереться в доверие к служителю местной церкви, а также наладить постоянный и, судя по всему, взаимовыгодный контакт меж двух держав. С такой легкостью свёл две противоборствующие стороны, что в пору было позавидовать его безудержной прямо-таки молодецкой ухватистости и бойкости.
«И куда делась всемирная история? – думал Дикарев. – Её приобретенный, бесценный, казалось, а выходило на поверку малопригодный на практике тяжкий опыт. Куда подевалась разобщенность масс, та масса, которая только в одном и целом сближалась и собиралась в кучку по интересам: это когда просыпалось классовое неприятие к церковному учению, к этому опиуму для народа? Да и просвещенной части населения страны за период с начала века отвращение к любой вере, к своей родной и другой, пришлой – иновере, было не чуждо! Никак иначе, родившейся солидарности помогла закуска пастора: печенюшки из домашнего теста и совершенно черное кофе, принесенные им в туеске на пикник под сводами плавающего железного… чуть было не подумал, не сказал: гроба. Чур меня. А у баптистов, по-моему, нет привязанности к какому-нибудь помещению как таковому: они не имеют церкви, как здание, и несут добро в люди, где придется. Так сказать, разъездные служки по вызову».
От мыслей о бессмертном Дикарев повернулся к размышлениям о простом смертном, о хлебе насущном, как говорил он в шутку. И вспомнил о топавшем рядом смазливом и забавном парне.
Обычной и в то же время особенной, привилегированной работой Гришки в море было после разбора трала и заморозки улова, как ни есть, в каком ни есть и не шибко благородном, даже непотребном для рандеву (ну да, он же не на свиданку собрался) виде, то есть в повседневной серой одёже: в телогрейке и валенках, в ушанке на два размера больше, забраться поглубже в трюм и там… там-то, поработав мускулами, раскидать по углам еще не остывшие, теплые короба с постукивающими друг о дружку тресковыми брикетами внутри.
Он с явным удовольствием погружался в бездну, как будто спускался в портал, соединяющий его с домом. Вылезал наружу этак через полчасика, не больше – больше, наверное, и не выдюжить, – но взбудораженный и радостный («Радости полные штаны»). Спасенный Челюскин. Не дать, не взять.
«А что?! Может, и впрямь побывал на короткое время на заполярном пике, где случаются частые сияния и иные головокружительные чудеса. Отчего голова идет кругом и много чего просыпается в ней, в бредовой голове, что дремало и наружу не прорывалось. Не просилось до поры до времени, – мечтал Дикарев. – Как будто на куске льда, отколовшегося от северного полюса, на самом пятачке потоптался, как незамерзающая мушка (настолько мал и ничтожен объект). Потоптался на макушке земного шарика».
И оттого, что таким радостным и счастливым, таким, каким еще никто и никогда, в том числе и сам Дикарев, его не знал, выползал на свет этот глупый парнишка – когда возвращался к ним, к людям, – Сергею верилось, будто за время своего отсутствия простофиля и в самом деле набрался там ума-разума. И еще чего-то, что не передать словами, чувственного и высокого, чего не приобрести в обычной жизни, не окунувшись в фантазию и не улетев в один миг в дальние дали своих мыслей. Небо – это перевернувшееся море. И он нашел это там – в этом ледяном подземелье, почти на дне железного корыта, качающегося на волнах безграничного океана.
И еще кое-что, возможно, он прибирал там к рукам. Приклеилось что-то к его багровым и мясистым лапищам сельского увальня-мужичка, молодого еще парня, но уже с повадками хозяина земли, стоящего на своей земле, свыкшегося с грубой и непосильной работой.
«Однако тут не земля, тут железо кругом, – думал Дикарев, – а мускульная память о сотках… а возможно и о гектарах черноземной земли осталась в руках. И еще где-то».
Конечно же, он украл что-то оттуда, настаивал противный мозг Дикарева. Так обычно поберушки-мародеры хозяйничают на поле боя по завершении молниеносного, со скоростью смерча совершенного и победоносного налета («гоп-стопа»), прихватывая по пути всё, что плохо лежит, что, может быть, не нужно, но что может пригодиться потом, ну после войны.
«Набрался того непомерного, избыточного, едва ли не излишнего ума… невероятных, просто академических знаний подчерпнул ладошкой, как экскаваторным ковшом. Куда ему столько… – не останавливал поток сознания Дикарев. – Действительно, зачем останавливаться? Времени предостаточно, девать некуда, хоть с маслом ешь. До выхода в море далеко. Может не один месяц простоим. А может быть, и насовсем тут обоснуемся. Обживемся, как аборигены, женами и семьями обзаведемся, детьми. Новая родина. Чем не житьё-бытьё, живи и радуйся! …для такого неуча, как малограмотный матрос-трюмный, это роскошь, да столько и не унести, – всё же возвращался мыслями Дикарев к персоне трюмного, стараясь как-то конкретизировать свои разросшиеся до невероятных циклопических размеров умозаключения. – Не по размеру Сеньке шапка», – он попытался тут же, без подсказки и не сказать, чтобы безрезультатно, вспомнить любимую поговорку матери.
Сергей помесил мыском накопившийся в канавке снежок. По пустынному шоссе гулял раздуваемый ветром буранчик. Он поднимался и опадал, увлекая с дороги в полет вместе с собой горсти белой пороши, покрывшей и землю и асфальт, как рассыпанная крупа.
«Навестил, наверное, злого волшебника – почему бы нет? – прирученного и прикормленного с руки, преображенного в белого, полярного медведя и посаженного на цепь, дабы не убёг, сокрытого от чужих глаз в горле-горловине бездонного трюма, как в самой глубокой темнице. Кстати, я не видел ни разу, есть ли там свет или его нема?»
А возможно причина заключалась в ином, была проста, как… как оттопыренный средний палец, торчащий из кулака проказника, нацеленный в небо. И его радость объяснялась вполне банально, проще, приземленнее что ли? Так сказать, доходчивее для понимания простачка, рассказанная на двух пальцах. Тем более что кожа трюмного приобретала по возвращении синюшный цвет, нос краснел, а щеки наливались соком, как две спелые сливы. Дикарев отчаянно внюхивался, но уличить тихушника Гришку в алкоголизме не получалось.
– Хорошо, – фыркал Гришка, как морж, после своей вылазки. – Ох, ну и хор-р-ошо же.
С кончиков хохляцких усов свисали и болтались без звона сосульки-колокольчики.
– Хорошо, – повторял он и начинал теперь на глазах рдеть, как красна-девица. Покрываться уже маковым цветом.
«Пигмалион какой-то, а не человек. Завидное кровообращение. Что ему хорошо? – недоумевал Дикарев. – Что ему там хорошо? В этом погребе, напоминающем своей безжизненностью могилу, куда он спускается каждый день и куда никого не пускает. В этот свой, полный неведомых и загадочных сюрпризов-подарочков, которых не ждешь, мир».
Разве что рефмашинист побеспокоит его раз за день своими глупыми осмотрами. Ну а как же, положено по инструкции: обход, регламентные процедуры.
«Как, впрочем, и все его дурацкие занятия: слоняется по судну целыми днями, ни толку от него, ни проку, лишний экземпляр. Агрегаты морозильные и без него холод дадут в нужном объеме и количестве, чего их тормошить. Только от дела отвлекать. Вот Гришка на самом деле, скорей всего и есть тот самый настоящий дед Мороз. Не номинальный, а всамделишный. Он, конечно же он, а не отвечающий за холодильные установки вечно мрачный с леденящим душу надменным взглядом механический специалист. Да именно Гришка – дед Мороз. Дед Мороз, да и только. Он один, в единственном числе, а не как не вместе с рефмашинистом».
– Не понимаешь ты меня, как я погляжу, – разводил плечами разочарованный Григорий. – Это ж так просто. Свежий воздух, физические упражнения. Что еще нужно?
«А действительно, что еще нужно Человеку? – думал Дикарев. – Самый минимум, необходимый, удовлетворяющий жизненные потребности. Не запредельные потребности, а требующиеся для функционирования организма. И только».
Он невольно вспомнил об этом сейчас, вспомнил эту простую житейскую истину, стоя на голой и промерзшей земле далекого каменистого острова, затерянного посреди океана. Хотя почему затерянного? С ним соседствовал огромный материк. Только материк этот был чужой и не грел, как согревала мысль, что скоро домой. Домой. Туда, где вроде бы скука и серость, сковавшая страну надолго, но куда звала и стремилась все равно душа. И сердцем и мыслями.
«Оттого и затерянный, – вздыхал Дикарев, – что океан, как космос, разделяет меня и ту землю, хоть черноземную, хоть нет, зато родную. Вроде вот и на ощупь она такая же, как здесь. И снег тот же и ветер так же гудит в проводах, ан нет, что-то другое в нем, в них, во всем, что окружает, кружится, тихо опадает и ложится. Парсеки расстояния отделяют меня, да и не только меня, от дома… а что я тут забыл? – вдруг нахлынуло на него. – На кой черт меня вообще сюда занесло».