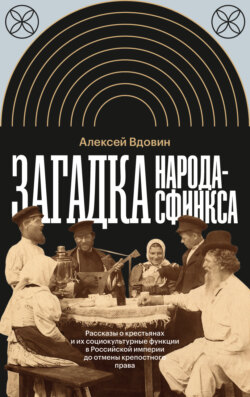Читать книгу Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Вдовин - Страница 29
ЧАСТЬ 2
Крестьянская субъективность как нарративная и эстетическая проблема: каноничные тексты
Глава 4
«Неведомый мир»
Проблема репрезентации крестьянской жизни в критике и эстетике 1840–1850‐х гг
Крестьянин an sich: Анненков и Гегель
ОглавлениеУже первые читатели статьи Анненкова критиковали ее за тяжеловесный и наукообразный язык, изобилующий сложными терминами246. Многие критики, очевидно, сразу же распознали, что некоторые понятия заимствованы из «Лекций по эстетике» Гегеля247, напечатанных впервые в 1835 г. под редакцией Г. Г. Гото и к концу 1840‐х несколько раз переизданных. Так, например, во фразе Анненкова «наслаждаться ими [образами], помимо даже самого существа дела („для них самих“, как сказал бы ученый теоретик)» легко угадывается намек на важнейшее понятие Гегеля für sich («для себя»), означающее рефлексивность, направленность на самое себя, в отличие от противоположного an sich248 («в себе»). Под «ученым теоретиком» здесь, конечно же, подразумевается непопулярный среди русских критиков начала 1850‐х гг. Гегель, считавшийся устаревшим. Или, скажем, такая фраза, как «несущественная черта самой жизни», отсылает к противопоставлению «субстанционального» и «случайного» у Гегеля (возможно, через посредничество статей Белинского). По Анненкову, писатели фиксируют в основном случайные черты простонародного быта, не проникая в его суть.
Определение простонародных рассказов как «обмана», «видимости», «уловки» у Анненкова также явно восходит к гегелевской «Эстетике»: «Если видимость, посредством которой искусство осуществляет свои создания, мы определим как обман [Täuschung249], то этот упрек имеет смысл лишь при сравнении произведений искусства с внешним миром явлений и их непосредственной материальностью. <…> Искусство освобождает истинное содержание явлений от видимости и обмана, присущих этому дурному преходящему миру, и сообщает ему высшую, порожденную духом действительность»250. Здесь Анненков как раз противопоставляет неудачный искусственный литературный обман подлинно одухотворенному, пока еще никому не удававшемуся, поэтическому изображению простонародья.
Утверждая невозможность адекватно изобразить простонародный быт в традиционных литературных формах, выработанных на материале образованного сословия, Анненков мотивирует это тем, что «первые, основные правила изящного здесь не находят приложения целостного, а только допускается приложение их урывками, по кускам и случайное». Логика и смысл этого обоснования восходят к важнейшему постулату эстетической теории Гегеля, согласно которому существует «требование, чтобы идея и ее формообразование как конкретная действительность были доведены до полной адекватности друг другу»251. Это выражается в том, чтобы в искусстве, во-первых, «содержание, которое должно сделаться предметом художественного изображения, обладало бы в самом себе способностью стать предметом этого изображения», а во-вторых, «содержание искусства не должно быть абстрактным в самом себе», т. е. должно быть чувственно-конкретным252. Если эти требования нарушаются, пишет Гегель, то «неудовлетворенность формой» следует искать в «неудовлетворенности содержанием», когда «образ идеи внутри себя самого [не] есть истинный в себе и для себя образ»253. Логика Анненкова сходна: внешне, с формальной точки зрения, рассказы из простонародного быта не удаются потому, что идея, лежащая в их основании, ложна, не истинна, не одухотворена и не освобождена от всего случайного, не возведена еще в перл создания, так как народная жизнь еще не познана. Идея познания и рефлексии в статье Анненкова артикулирована четко («в общем деле уяснения самих себя») и также восходит к Гегелю, для которого истинное искусство всегда свободно и рефлексивно, ведь искусство, как одна из форм объективации абсолютного духа, обладает «мысленным сознанием о себе самом»254, т. е. самопознанием255.
Гегель не ограничился лишь теоретическими рассуждениями о самопознании духа и распространил этот фундаментальный принцип своей философии даже на анализ сословной принадлежности литературных героев. В одном месте «Эстетики» он говорит об отсутствии рефлексии у людей из низших сословий, что это должно заставлять писателя иначе строить характеры256, так как люди из «низшего сословия» в силу своей необразованности при потере цели «не могут найти опору ни для своей внутренней жизни, ни для своей деятельности»257. Такая же мысль возникает и у Анненкова, который утверждает, что «лицо из простого быта чаще всякого другого должно срываться с голоса и чаще переходить на другую сторону»258. Рассмотренный в таком контексте эстетический агностицизм Анненкова может получить более глубокое объяснение. Поскольку крестьяне не обладают развитой рефлексией и не могут познавать себя сами, это означает, что материал произведения искусства уподобляется природе, которая существует «в себе», но не «для себя»259. Это отсутствие «рефлексивности» самого объекта изображения если не полностью блокирует, то существенно затрудняет выработку художественного идеала. Можно предполагать, что глубинная связь феномена самосознания и проблемы рабства/господства представляет собой практическое приложение знаменитой аллегории о господине и рабе из «Феноменологии духа». У Гегеля столкновение и взаимодействие двух сознаний (своего и другого) описываются в сословных понятиях подчинения (рабства) и доминирования (господства). Как комментировал эту параболу А. Кожев, «говорить о происхождении самосознания – значит обязательно вести речь о „самостоятельности или несамостоятельности Самосознания, о Господстве и Рабстве“»260. Истина (истинное самосознание) возникает только в результате взаимного восприятия двух сознаний друг другом и установления симбиотических отношений между ними: «это делание второго сознания есть собственное делание первого, ибо то, что делает раб, есть, собственно, делание господина»261.
Проблема «одухотворенности» и рефлексивности представлена у Гегеля не только в феноменологическом и социальном разрезе (на примере познающего субъекта и объекта его познания, диалектики доминирования и подчинения), но и в политической и исторической плоскости. Здесь появляется еще одно важное гегелевское понятие «идеала», трактовка которого также, по-видимому, отразилась в статье Анненкова. Важное для него противопоставление идиллии и идеализации тоже восходит к «Эстетике» Гегеля. Так, идеализация определяется (через родовое понятие «идеал») как «включение в дух, образование и формирование со стороны духа»262, т. е. как абстрагирование от всего случайного и единичного, одухотворение, освобождение духа и проникновение в самую суть («субстанциальное») феномена, минуя несущественное. Тут мы подходим к наиболее интересному моменту в диалоге Анненкова с Гегелем. Дело в том, что Анненков называет подлинно художественную идеализацию «реализмом», одним из первых в русской критике в конце 1840‐х – начале 1850‐х гг. употребляет это понятие, но настаивает, что это «верно понятая идеализация». Гегель, разумеется, нигде не употребляет термин «реализм», но несколько раз в «Лекциях по эстетике» приводит один и тот же характерный пример, связанный с этим типом искусства.
По мысли Гегеля, великая голландская живопись XVI в. смогла отобразить идеал простонародного быта и не уподобиться «вульгарной натуре» только потому, что народ, у которого никогда не было рабства, «пробудился», избавился путем революции от испанского господства и проявил «национальную гордость», – рабы не могут стать героями произведения искусства263. Ход мысли Гегеля примечателен: только проявление национального духа может одухотворить вульгарную натуру и привести к созданию «национального искусства», как это случилось в Голландии XVI в.264 Так Гегель увязывает миметизм и натурализм (или то, что нередко именуется «реализмом») в искусстве с идеей нации. В такой логике именно миметизм/натурализм служит знаком перехода к стадии национального искусства265.
Можно предполагать, что Анненков именно вслед за Гегелем уравнивает понятия идеализации и натурализма и начинает называть их словом «реализм», всегда при этом подразумевая идеализацию. Думал ли Анненков об отсутствии национальной крестьянской гордости у российских крестьян, сказать трудно, но, скорее всего, будучи западником, он не видел в русской крепостной действительности возможности для проявления такой гордости. Нет свободы – значит, нет и рефлексии – значит, нет крестьянского искусства – значит, нет адекватной литературы о крестьянах.
На этот вывод последовательный гегельянец мог бы возразить, что, согласно логике Гегеля, при отсутствии рефлексивности объекта ее недостаток должен восполнить сам художник. Снимая это противоречие, Гегель видит в современном ему искусстве (1820‐х) разложение романтической формы: повседневная жизнь мещан и крестьян буквально переполняет искусство, тем самым возвращая его к подражанию природе, к изображению случайного и низкого. В такой ситуации гарантом художественности, по Гегелю, становится личность художника, который должен посредством вживания в материал и его одухотворения спасти произведение от пошлости с помощью юмора и повышенной субъективности266. Провозглашая «конец искусства», Гегель, как утверждают современные интерпретаторы этого пресловутого тезиса, имел в виду не столько конец или исчерпанность этого важнейшего института человеческой жизни, сколько существенное изменение его функции в обществе267. В этом смысле споры о расширении сферы изображаемого в искусстве 1830–1850‐х гг. и особенно дискуссия вокруг репрезентации простонародья могут быть сопоставлены с теоретическими дебатами, вызванными к жизни модернистскими и постмодернистскими экспериментами 1960‐х гг. и наиболее выпукло представленными в статьях и книгах А. Данто.
Логика А. Данто, вдохновленная как знаменитым тезисом Гегеля о конце искусства, так и Brillo Boxes Э. Уорхола, при всех различиях напоминает дискуссию вокруг крестьян в литературе или по крайней мере может быть сопоставлена с ней. По сути, Данто описывает положение, в котором оказались критики и теоретики 1850‐х гг. (Анненков, в частности), осознавшие, что современное им искусство и репрезентация крестьянской повседневности идут вразрез с принятыми постулатами кантовской и гегелевской эстетики. Хотя Анненков, конечно же, не решился (да и не собирался) заявить об освобождении авторов простонародных рассказов от эстетических законов, такая идея витала в воздухе 1850‐х, что резонирует с критикой А. Данто философской эстетики XVIII–XIX вв., создавшей «тюрьму для искусства» при помощи жестких догм268.
В 1854 г. критик С. С. Дудышкин включился в обсуждение репрезентации крестьянского быта и резко осудил догматизм Анненкова. Дудышкин полагал, что «русская критика сама себя стеснила тем, чтó она называет действительностью, и не может уже позволить авторской фантазии сделать ни одного свободного шага. На чем же все это основано? На полузнании быта, на хвастливом изучении действительности, как будто прелесть поэтических созданий доказывается статистическим выводами!»269 Дудышкин был уверен, что, пока критика вырабатывает строгий научный подход к новым литературным произведениям, изображенный в них «быт этот очень естественно уйдет дальше, как все живущее, а не мертвое». Критик проницательно указал на изменчивость самого способа описания эстетических принципов, разработанного в философии и насильственно спроецированного на живой литературный процесс:
Критика никогда не задает себе серьезно вопроса: сама-то она откуда взяла свой прочный фундамент и не настолько ли он ложен и непрочен, что заставляет невольно шататься самого критика? <…> Понятие о так называемом реализме, о соответствии идеи и формы, о том, что идея писателя должна жить художественно в лицах и их действии, перенесено в эстетику из философии, и как абстракт, грозный и неприступный, принят всеми критиками. Но рассмотрите ближе этот абстракт и вы найдете в нем много беспощадного, неестественного. Сколько мыслей, сколько чувств приносится ему в жертву; сколько писателей терпят от критики за то, что они умны и голова их хорошо работает… но не по правилам художественной эстетики…270
История жанра рассказов из крестьянского быта и эстетики в XIX в. в целом подтвердила правоту Дудышкина: «трансгрессия» жанра быстро утвердилась, его новые границы и способы создания «эффекта реальности» канонизировались уже к концу века.
246
Так, обозреватель журнала «Пантеон» обвинял Анненкова в заумности и туманности «надут<ого>, тяжел<ого>, неправильн<ого> языка» (Пантеон. 1854. Кн. 3. Петербургский вестник. С. 14–15).
247
Гегельянство Анненкова, особенно в 1840‐е гг., хорошо известно и в общих чертах описано в работе: Ермилова Г. Г., Тихомиров В. В. П. В. Анненков – литературный критик // Русская литература. 1994. № 4. С. 32–33.
248
О центральности понятия «самосознание/самопознание» см. подробнее: Wicks R. Hegel’s Aesthetics: An Overview // The Cambridge Companion to Hegel / Ed. by F. C. Beiser. Cambridge, 1999. P. 360–368; Inwood M. J. A Hegel Dictionary. Oxford, 1993. P. 133–136.
249
В оригинальном издании 1835 г. Анненков мог встретить именно это слово, означающее также «введение в заблуждение», «иллюзию»: Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Ästhetik. Berlin, 1835. Bd. 1. S. 7. О толковании понятия в гегелевской философии см.: Inwood M. J. A Hegel Dictionary. P. 38–40.
250
Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике: В 2 т. / Пер. с нем. Б. Столпнера. СПб.: Наука, 2007. Т. 1–2. C. 85–86. Первый русский перевод «Эстетики» вышел в 1847 г. и был сделан В. Модестовым, как следует из предисловия, с французского вольного и сокращенного перевода К. Бернара. Вот как передается эта мысль в «двойном» переводе: «[искусство] действует обольщением. <…> Искусство снимает с истины обманчивые и лживые формы этого несовершенного и грубого мира и облекает ее в одежду более возвышенную и более чистую, созданную самим духом» (Гегель Г. В. Ф. Курс эстетики, или Наука изящного / Пер. В. Модестова. М., 1847. Ч. 1. С. 3, 5).
251
Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Т. 1. С. 143.
252
Там же. С. 140.
253
Там же. С. 144.
254
Там же. С. 89.
255
Об этом сколь фундаментальном, столь и противоречивом с точки зрения эстетики понятии см. статью: Jaeschke W. Die gedoppelte Schönheit. Idee des Schönen oder Selbstbewusstsein des Geistes? // Gebrochene Schönheit: Hegels Ästhetik – Kontexte und Rezeptionen / Hrsg. von J. Zovko, G. Kruck, A. Arndt. Berlin, 2014. S. 17–29.
256
Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Т. 1. С. 250–251.
257
Там же. С. 593–594.
258
Анненков П. В. По поводу рассказов. С. 365.
259
Там же. С. 197–198.
260
Кожев А. Введение в чтение Гегеля / Пер. с фр. А. Г. Погоняйло. СПб., 2003. С. 17.
261
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. Г. Шпета. М., 2000. С. 102.
262
Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Т. 1. С. 227.
263
Там же. С. 228–230, 605–606; Т. 2. С. 234–235.
264
Эта интерпретация очевидна и фиксируется во многих работах об «Эстетике» Гегеля. А. Гетманн-Зиферт на основе всего корпуса текстов философа показывает, что Гегель понимает произведение искусства не как абстрактное воплощение «духа народа», но как непременное проявление «исторического самосознания целого сообщества», результат интенциональной деятельности которого обнаруживает себя в каждом произведении искусства (Gethmann-Siefert A. Einführung in Hegels Ästhetik. München, 2005. S. 76–79). О трактовке Гегелем духа голландской живописи см.: Bungay S. Beauty and Truth. A Study of Hegel’s Aesthetics. Oxford, 1984. P. 131–134; Sallis J. Carnation and the Eccentricity of Painting // Hegel and the Arts / Ed. by S. Houlgate. Evanston, 2007. P. 107–110.
265
Стоит отметить, что эти рассуждения Гегеля предвосхищают недавние исследования наций и европейского национализма (как идеологии XVIII в.), ср., например, книгу Э. Смита, в которой показывается, в частности, как образный и тематический репертуар, символика и жанризм голландской живописи начала XVII в. формировали новый – националистический – тип солидарности (солидарного воображения) у людей того времени (Smith A. D. The Nation Made Real: Art and National Identity in Western Europe, 1600–1850. Oxford, 2013). В то же время следует оговорить, что в понимании нации (Volk, Volksgeist; а также исторических народов и неисторических) Гегель, как показал еще в 1962 г. Шломо Авинери, дистанцировался от органического романтического национализма в духе Гердера и Шлегеля и понимал Volk в культурно-историческом, а не в этническом смысле. Иными словами, прусским националистом он не был. См. подробнее: Avineri Sh. Hegel and Nationalism [1962] // The Hegel Myths and Legends / Ed. by J. Stewart. Evanston, 1996. P. 109–128.
266
Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Т. 1. С. 604–605.
267
Обзор последних авторитетных толкований этого тезиса в западной науке см.: Корнеева Н. А. Тезис о «конце искусства» в эстетике Гегеля и его трактовка в современной философии: Дис. … канд. филос. наук. М., 2013. С. 94–110.
268
Danto A. C. The End of Art: A Philosophical Defense // History and Theory. 1998. Vol. 37. № 4. P. 135. Историки философии и эстетики также пишут о том, что гегелевская эстетика, по сути, порывала с кантовской теорией эстетического суждения и восприятия и выстраивала теорию художественности исходя из идеи историчности форм искусства, их изменчивости и прогрессивности. См. об этом: Pippin R. The Absence of Aesthetics in Hegel’s Aesthetics // The Cambridge Companion to Hegel and Nineteenth-Century Philosophy / Ed. by F. C. Beiser. Cambridge, 2008. P. 394–418.
269
Дудышкин С. С. Журналистика <Отрывок> [1854] // «Современник» против «Москвитянина»: Литературно-эстетическая полемика первой половины 1850‐х гг. С. 405.
270
Там же. С. 406.