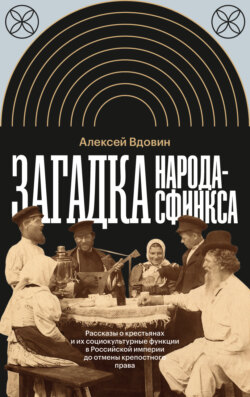Читать книгу Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Вдовин - Страница 30
ЧАСТЬ 2
Крестьянская субъективность как нарративная и эстетическая проблема: каноничные тексты
Глава 4
«Неведомый мир»
Проблема репрезентации крестьянской жизни в критике и эстетике 1840–1850‐х гг
Топосы идентичности и инаковости
ОглавлениеЕще задолго до того, как критика 1850‐х гг. поставила проблему повествовательной репрезентации простонародного и, в частности, крестьянского сознания, проза о крестьянах 1840‐х гг. оказалась на редкость рефлексивной и даже метаописательной – содержала немало рассуждений нарратора о свойствах крестьянского мировосприятия в сравнении с людьми иных сословий. С 1839 по 1861 г. появилось без малого два десятка рассказов и повестей, в которых авторские мысли по этому поводу дают основания увидеть две частотные трактовки крестьянского сознания, упакованные в легко воспроизводимые топосы.
Первый может быть назван топосом идентичности: вослед знаменитой карамзинской максиме крестьяне и их мышление уравниваются с представлениями образованного сословия, постулируется безусловное равенство сословий не только перед Богом и императором, но и с точки зрения прав человека. Берущий начало в философии Просвещения и моральной философии сентиментализма, этот комплекс представлений был прочно связан с гуманистической и демократической мыслью. В посткарамзинской прозе он наиболее развернуто артикулирован в «Мешке с золотом» (1829) Н. А. Полевого (процитирую снова):
Крестьянки русские – не пастушки аркадские, но как часто вы увидите на щеках их розы, в сердце найдете сильные страсти, услышите от них речь умную и смысленную. <…> Нет, друзья мои, я знаю русских крестьян, я живал, говаривал с ними, просиживал вечера в их беседах, в их хороводах, слыхал многое, что западало мне в душу и оставалось в памяти. У них свой мир, свои поверья, свой ум, свои недостатки и добродетели. Дай мне перо Ирвинг, Цшокке, я рассказал бы вам много, много такого, что стоило бы рассказа о наших городских красавицах, швейцарских пастухах и шотландских горцах. И как мне жаль, что я не могу изобразить вам настоящего быта русских крестьян, их жизни, нравов и обычаев! И в деревнях так же горят страсти, так же любят, так же бывают счастливы и тоскуют, как в белокаменной Москве и в позолоченном Петербурге. Там есть свои богачи, свои бедняки…271
Примечательно, что повествователь Полевого, гордящийся собственным демократизмом, в одном абзаце допускает поразительное противоречие: с одной стороны, крестьянам приписываются «свои недостатки и добродетели» (инаковость), а с другой – их сильные чувства ничем не отличаются от переживаний столичных жителей. Двойственность дискурса у Полевого, вероятно, связана с переходностью момента: просвещенческая и сентименталистская уверенность в универсальном характере человеческой натуры уходит в прошлое и ее место пытается заполнить более рационализированное знание. В корпусе выявленных мной текстов топос идентичности оказался абсолютно маргинальным, сходящим на нет к середине 1840‐х гг., если и бытующим, то в специальной дидактической прозе для крестьян или в проникнутых социалистическими идеями физиологических очерках. Так, в знаменитом физиологическом очерке А. П. Башуцкого «Водовоз» нарратор восклицает:
Видали ли вы по крайней мере когда-нибудь вблизи одного из тех низших, необходимых тружеников земли, которые носят одинаковое с вами, родовое всем нам название? Которые, по милости Бога, наделены точно такою же, как мы, душою; в груди которых бьются сердца, столько же, как и наши, способные глубоко и прекрасно чувствовать; но от которых отнята способность красиво изображать свои чувства; картинностью выяснений, лоском и художественною отделкой форм – заслуживать наше внимание? <…> Низшая братия наша тоже люди. B них рукою вечного Делателя вложены чудесные звуки дивной гармонии чувств, общедоступных человеку272.
Помимо Бащуцкого лишь поздний Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» попытался закрепить этот топос, придерживаясь гуманистической его трактовки, восходящей к Карамзину, и рассуждая о первых повестях Григоровича:
Природа – вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе – человек. А разве мужик – не человек? – Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? – Как что? Его душа, ум, сердце, страсти, склонности, – словом, все то же, что и в образованном человеке. Положим, последний выше первого; но разве ботанист интересуется только садовыми, улучшенными искусством растениями, презирая их полевые, дикорастущие первообразы? Разве для анатомика и физиолога организм дикого австралийца не так же интересен, как и организм просвещенного европейца?273
Примечательно, однако, что для доказательства универсальности человеческих свойств простонародья и образованных сословий критик прибегает к аналогии из этнографии, в которой тогда господствовала идея цивилизаторской миссии (см. главу 9). Крестьяне уподобляются «диким австралийцам», т. е. аборигенам, попадающим под пристальный исследовательский взгляд ученых из Европы. Та же фигура возникает в этапной с точки зрения полемики между славянофилами и западниками книге 1840‐х гг. – повести В. А. Соллогуба «Тарантас». Ее герой Иван Васильевич замечает:
Посмотрите-ка на русского мужика: что может быть его красивее и живописнее? Но по предосудительному равнодушию у нас в высшем кругу мало о нем заботятся или смотрят на него как на дикаря Алеутских островов, а в нем-то и таится зародыш русского богатырского духа, начало нашего отечественного величия274.
Как видно, даже у влиятельных сторонников универсализма топос не циркулировал в чистом виде: настолько большой ощущалась дистанция между двумя сословиями в первой половине XIX в.275
Второй топос – инаковости – напротив, вырастал из фигуры расподобления крестьян и образованных высших сословий, но не столько расистского (или колониального), сколько этнографически-«понимающего». В противовес универсализму первого второй выдвигал на передний план конкретные отличия между сословиями в мышлении, религиозных и бытовых представлениях, обычаях и ритуалах, эмоциональных реакциях, телесных жестах и пр. При таком подходе крестьяне описывались как особая страта русских людей, которых нужно попытаться понять с помощью пристального изучения их быта и нравов. Разумеется, второй топос генетически был связан со становлением этнографического знания в России 1840‐х гг. и учреждением Русского императорского географического общества, подъемом жанра физиологии и обостренным вниманием ученого сообщества к маргинальным слоям общества – пауперам и пролетариям. Если первый топос, восходящий к Радищеву и Карамзину, задал общую рамку для развития сюжетики и стиля русской прозы о простонародье, определив, скажем так, ее эпистемологию (гуманистическую и демократическую подкладку), то второй топос оказался более продуктивным для развития местного колорита, этнографически точного бытового фона, детализации – т. е. основных ресурсов бартовского эффекта реальности. По выборке текстов хорошо прослеживается, как уже к концу 1840‐х гг. риторика особого мира крестьян становится настолько частотной, что ее можно обнаружить едва ли не в каждом втором-третьем рассказе из крестьянского быта.
Первым сигналом зарождения и постепенного формирования нового топоса стало возникшее у некоторых литераторов скептическое отношение к широкому пласту актуального фольклора (песням и обрядам), который все больше привлекал внимание первых собирателей и этнографов276. Скепсис раннего Белинского по адресу стихотворных сказок Пушкина памятен многим, однако можно привести пример и из забытых сочинений конца 1830‐х гг., например из простонародного крестьянского романа В. П. Бурнашева «Деревенский староста Мирон Иванов» (1839), в котором рассказчик, в остальном защищающий крестьян от несправедливых упреков дворян, называет свадебные песни «бестолковыми» и «вздорными»277.
Основы топоса инаковости заложил, по моим наблюдениям, В. И. Даль в 1843 г. в повести «Вакх Сидор Чайкин», заглавный герой которой, из мещан, случайно оказывается приписан к крестьянам и рассказывает о своих приключениях. В частности, он приводит размышления Негурова, управляющего имением богатого вельможи, об отличиях крестьянского мышления:
Надобно также уметь совладать с мужиком нашим, надобно для этого научиться не только грамматике и риторике его, то есть языку, но и логике; да у него логика своя: он готов поверить всякую минуту самому бессмысленному вздору, если вы подкрепите болтовню свою его логикой, и, наоборот, не поверит очевидной истине, если не сумеете его убедить. У нас это большое горе, что не умеют говорить с чернью; говорят с нею или свысока, так что она не может ничего понять, или как с животными, со скотом. Мужик не верит предохранительной оспе, не верит пользе от картофеля и других овощей, не верит никакому новому и лучшему порядку в управлении, а готов верить, что предохранительную оспу пустил на свет антихрист, что картофель – порождение сатаны и от него не будет урожая на хлеб…278
Персонаж Даля фиксирует здесь сразу две черты крестьян, которые станут формообразующими для жанра рассказов из крестьянского быта (см. главы 10–11). Во-первых, речь идет об их особой речи, отличной как от литературной нормы, так (в пределе) и от членораздельного языка вообще279. Оставляя до отдельной главы рассмотрение языка и речи крестьян, укажем лишь на один, но характерный пример. В «Поездке в деревню» Е. Новикова приезжающий в полученное по наследству имение в Тамбовской губернии помещик Кольский боится встречи с крестьянами. В его воображении развертываются образы диких людей, говорящих каким-то другим, не русским языком: «у них, я чай, разговор-то нечеловеческий»280. Во-вторых, инаковость может проявляться в специфической логике, управляющей поведением крестьянина. В основе его иррационализма лежит религиозная картина мира, как можно предполагать, помноженная на более древние суеверия. «Странный народ <…> непостижимый народ», – рассуждает про себя Иван Васильевич в «Тарантасе» Соллогуба281.
Помимо речи и мышления в литературе 1840–1850‐х гг. неотъемлемой составляющей обсуждаемого топоса становится и инаковость чувств. Предполагалось, что если крестьяне стоят на низшей ступени цивилизации, то их чувства и эмоции не достигли еще столь рафинированного состояния, как у дворян. Вот, к примеру, как рассуждает образованный нарратор в повести Н. В. Кукольника «Староста Меланья»:
Я вздрогнул. Как, подумал я, неужели в этих полузверях страсть любви может иметь такое байроновское развитие; на краю могилы он тяжко любит женщину, которую полюбил не он, а юноша свежий, полный сил, способный и в дикости своей к нежным ощущениям только по возрасту282.
О предрассудках, не позволяющих распознать глубокие и искренние чувства крестьян, рассуждала и К. А. Авдеева (сестра Н. А. Полевого) в очерке «Солдатка»:
Мы не всегда с настоящей точки зрения смотрим на простой народ, полагая, что в нем нет чувств. Странно было бы искать в простом народе вежливости и приятного обращения; но под глубокой корою в нем есть много хорошего283.
Любопытно отметить, что топос инаковости чувств мог расширяться до целой нации, эмоциональный опыт которой противопоставлялся европейскому. Об этом, в сущности, говорит славянин в споре с европейцами в рамочном разговоре «Сороки-воровки» А. И. Герцена: «Я думаю, у нас оттого нет актрис, что их заставляют представлять такие страсти, которых они никогда не подозревали, а вовсе не от недостатка способностей»284. К подобной риторике в отношении крестьян прибегали не только авторы-западники, но и славянофилы. В «Рассказе из народного быта» князя В. В. Львова, опубликованном в «Москвитянине» (1848), образованный нарратор, возвеличивая разные стороны крестьянской жизни и их характера, несколько снижает пафос, когда речь заходит о чувствах:
Мне сдается, что нелегкое дело предпринял я. Возбудить интерес читателей рассказом о внутренней жизни крестьян наших, в которых все хорошее и дурное так прикрыто наружною пестротой, а иногда даже, пожалуй, неотесанностью, что едва ли не половина на половину из нас сумела подметить настоящий характер их285.
И в другом месте:
Если бы у крестьян все чувства были так же развиты как у нас, ежели бы они были так же внимательны как мы, особенно тогда, когда хотим непременно подметить что-нибудь, то верно те, с которыми говорил пастух (Панфил. – А. В.), уловили бы на нем такую улыбку… улыбку не улыбку, что-то похожее на улыбку, такую сардоническую гримасу, которая и Мефистофелю была бы к лицу286.
Резонно предположить, что преодоление топоса инаковости проще всего должно было происходить при обсуждении именно чувств, с чего, собственно, и началась полноценная репрезентация крестьян в русской прозе у Карамзина. Наиболее открыто и рефлексивно вопрос этот обсуждал Григорович в своих художественных произведениях. Так, в рассказе «В ожидании парома» (1857) собравшиеся дворяне спорят, отличаются ли страсти, переживаемые простолюдинами и людьми из других сословий:
– Я имею основание думать, что страсти вообще, т. е. как благородные, так и неблагородные, одинаково свойственны всему человеческому роду без различия состояний… – сказал собеседник в коричневом пальто: – на мои глаза (думаю я, на ваши точно так же), не существует между людьми другой разницы, как та, которую дают большая или меньшая степень развития и образования; но в деле страстей, мне по крайней мере так кажется, образование и развитие не имеют большого значения; они помогают только страсти иначе выразиться, смягчают форму; действие страсти, сущность нравственного процесса остается все та же…287
Если на уровне рефлексии подобные идеи оказались артикулированы довольно поздно, в конце 1850‐х гг., на уровне художественной репрезентации Григорович интуитивно касался их уже в первой повести «Деревня». Наряду с Тургеневым и Писемским ему суждено было стать одним из реформаторов прозы о крестьянах, существенно расширивших ее повествовательные возможности и, по сути, создавших жанр «рассказа из крестьянского быта».
271
Полевой Н. А. Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 370.
272
Башуцкий А. Водовоз // Наши, списанные с натуры русскими. М., 1841. Вып. 1. С. 2–3.
273
Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 10. М., 1956. С. 300.
274
Соллогуб В. А. Три повести. М., 1978. С. 142.
275
Доходило и до курьезов. Нарратор писателя-демократа М. Л. Михайлова в рассказе «Африкан» иронически замечает, что через протагониста был бы находкой для френолога и в особенности порадовал бы доктора Галля (Михайлов М. Африкан // Современник. 1855. № 7. С. 18).
276
Об этом раннем периоде осмысления крестьянской культуры через призму фольклора см. в статье о репутации А. В. Кольцова и его хрестоматийного стихотворения «Что ты спишь, мужичок?»: Вдовин А. В. Литературный канон и национальная идентичность: «Что ты спишь, мужичок?» А. В. Кольцова и споры о русскости в XIX веке // Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX. / Отв. ред. А. В. Вдовин, Р. Г. Лейбов. Т. 4. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика и литературный канон XIX века. Tartu, 2013. С. 139–162.
277
[Бурнашев В. П.] Деревенский староста Мирон Иванов: Народная быль для русских простолюдинов / Соч. Бориса Волжина. СПб., 1839. С. 242–243.
278
Даль В. И. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1995. Т. 2. С. 88–89.
279
Следует подчеркнуть, что мы говорим сугубо о литературной репрезентации и не касаемся того, как в реальности протекало общение крестьян с помещиками. Несколько ярких примеров, хотя и в постреформенную эпоху, зафиксированы в книге А. Н. Энгельгардта «Из деревни». Ср.: «Я встречал здесь помещиков, – про барынь уж и не говорю, – которые лет 20 живут в деревне, а о быте крестьян, о их нравах, обычаях, положении, нуждах никакого понятия не имеют; более скажу, – я встретил, может быть, всего только трех-четырех человек, которые понимают положение крестьян, которые понимают, что говорят крестьяне, и которые говорят так, что крестьяне их понимают» (Энгельгардт А. Н. Из деревни: 12 писем. СПб., 1999. С. 83. Серия «Литературные памятники»).
280
Даньковский Е. [Е. Новиков] Поездка в деревню // Отечественные записки. 1855. Т. 100. № 6. С. 215.
281
Соллогуб В. А. Три повести. С. 241.
282
Кукольник Н. В. Староста Меланья // Картины русской живописи, изданные под редакцией Н. В. Кукольника. СПб., 1846. С. 118–119.
283
Авдеева К. Русские предания. Солдатка // Отечественные записки. 1847. № 11. Смесь. С. 42.
284
Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 4. Художественные произведения. 1841–1846 / Подгот. текста и ред. В. А. Путинцева. М., 1955. С. 217.
285
Львов В. В. Рассказ из народного быта // Москвитянин. 1848. № 12. С. 75.
286
Там же. С. 87–88.
287
Григорович Д. В. В ожидании парома // Он же. Сочинения: В 3 т. Т. 2. М., 1988. С. 53. Интересный нарратологический анализ рассказа см. в недавней работе: Козлов А. Е. «В ожидании парома» Д. В. Григоровича: рефлексия и нарратив // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2023. № 81. С. 209–224.