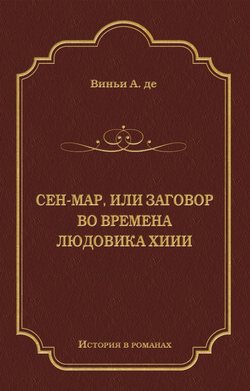Читать книгу Сен-Map, или Заговор во времена Людовика XIII - Альфред де Виньи - Страница 5
Глава III
Добрый пастырь
ОглавлениеТак говорил мне человек, обретший душевный мир.
«Савойский викарий»
Зловещая процессия вошла в здание, предназначенное для готовящегося зрелища, а пока там идут приготовления к кровавому представлению, посмотрим, как вел себя Сен-Мар среди взволнованных зрителей. Он был достаточно сообразителен и сразу же понял, что нелегко будет разыскать аббата в день, когда брожение умов достигло крайней степени. Поэтому он, не слезая с коня, остановился с четырьмя слугами в темном переулке, выходившем на главную улицу; отсюда удобно было наблюдать за тем, что происходит. Сначала никто не обращал на него внимания, но когда у зевак не оказалось иной пищи, все взоры обратились на него. Обыватели, уже уставшие от избытка впечатлений, посматривали на него довольно недружелюбно и вполголоса спрашивали друг у друга, не приехал ли к ним новый заклинатель. Кое-кто из крестьян стал даже роптать, что он своими лошадьми запрудил весь переулок. Сен-Мар понял, что пора что-то предпринять; и, как сделал бы и всякий другой на его месте, он остановил взгляд на людях, одетых получше, и вместе со слугами подъехал к группе горожан в черном, о которой мы уже говорили; сняв шляпу, он обратился к человеку, который показался ему самым привлекательным:
– Сударь, где бы мне найти господина аббата Кийе?
При этом имени все посмотрели на него с ужасом, словно он назвал Люцифера. В то же время никого этот вопрос, по-видимому, не возмутил; наоборот, вопрос его, казалось, вызвал к нему сочувствие. Да и выбор Сен-Мара по счастливой случайности оказался очень удачным. Граф де Люд подошел к его лошади и, поклонившись, сказал:
– Прошу вас, сударь, спешиться; я могу сообщить вам насчет аббата кое-какие полезные сведения.
Они поговорили некоторое время шепотом и расстались, обменявшись, по обычаю того времени, церемонными поклонами. Сен-Мар вновь сел на своего вороного и, проехав со слугами по нескольким узким улочкам, вскоре оказался вдали от толпы.
«Какое счастье, – думал он по пути, – я хоть повидаюсь с добрым, кротким аббатом, который воспитал меня; мне всегда вспоминаются черты его лица, его спокойный облик и голос, полный доброты».
Он с умилением думал о близкой встрече и незаметно очутился в совсем темном переулке, куда его направили; переулок оказался столь узким, что наколенники всадника касались стен. В конце переулка он отыскал одноэтажный деревянный домик и стал нетерпеливо стучаться в дверь.
– Кто там? – сердито откликнулся чей-то голос.
Дверь отворилась, и показался маленький толстый красный человечек в огромных белых брыжах и ботфортах с такими широкими голенищами, что короткие ноги старичка совершенно тонули в них; на голове у него была скуфейка, в руках он держал два седельных пистолета.
– Дешево жизнь свою не отдам! – крикнул он. – И…
– Спокойнее, аббат, спокойнее, – сказал его воспитанник, беря толстяка за руку, – тут ваши друзья.
– Дорогой мой мальчик, это вы! – воскликнул человечек, отбрасывая пистолеты, которые осторожно поднял его слуга, также вооруженный до зубов. – Зачем вы сюда приехали? Здесь воцарилась подлость, и я жду только наступления темноты, чтобы уехать. Входите скорее, друг мой, и пусть ваши слуги тоже войдут. Я принял вас за стражу Лобардемона и, право же, уже готов был выйти из себя. Видите лошадей? Я уезжаю в Италию, к нашему другу герцогу Буйонскому. Жан, Жан, скорее заприте ворота за преданными слугами нашего гостя да скажите им, чтобы они особенно не шумели, хоть тут поблизости и нет жилья.
Граншан немедленно исполнил распоряжение отважного аббата, а тот четырежды поцеловал Сен-Мара, причем для этого ему пришлось встать на цыпочки, ибо он доставал ему только до груди.
Он поспешил отвести юношу в тесную каморку, похожую на заброшенный чердак, и тут, присев вместе с ним на черный кожаный сундук, взволнованно сказал:
– Дитя мое, куда вы едете? Как могла ваша матушка отпустить вас сюда? Разве вы не видите, что здесь чинят с несчастным, которого им надо погубить? Боже мой! Такое ли зрелище должны бы увидеть вы, вступая в жизнь, мой дорогой воспитанник! О небо! Ведь вы в том чудесном возрасте, когда человек не должен знать ничего другого, кроме дружбы, нежной привязанности, сладостного доверия, когда все должно внушать вступающему в свет самое лучшее представление о роде людском. Что за несчастье! Боже мой! Зачем вы приехали!
Так добрый маленький аббат сокрушался, пожимая в своих морщинистых красных руках руки юного путешественника; наконец последнему удалось сказать:
– Но разве вы не догадываетесь, дорогой аббат: я заехал в Луден только ради вас, я знал, что вы здесь. А что касается зрелища, о котором вы говорите, то оно мне показалось просто какой-то нелепостью, и, клянусь вам, я по-прежнему люблю людей; ведь ваши личные достоинства и превосходные наставления внушили мне о людях самое возвышенное мнение. И пусть пять-шесть безумцев…
– Не будем терять времени; я вам расскажу про это безумие, все вам объясню… Но отвечайте: куда вы едете? По каким делам?
– Я еду в Перпиньян; там кардинал-герцог представит меня королю.
При этих словах неугомонный и добрый аббат вскочил с сундука и стал шагать, или, вернее, бегать взад и вперед по комнате, грохоча сапогами. Красный, со слезами на глазах, он говорил, задыхаясь:
– Кардинал! Кардинал! Бедный мальчик! Они погубят его! Боже мой, какую роль они предназначают ему? Что им от него надо? Ах, кто станет оберегать вас, друг мой, там, где на каждом шагу вас будет подстерегать опасность? – воскликнул он, вновь садясь; и, с отеческой заботой взяв руки воспитанника, он пристально смотрел ему в глаза, стараясь прочесть его мысли.
– Но я и сам не знаю, – проронил Сен-Мар, отведя взор в сторону, – думаю, что беречь меня будет кардинал Ришелье; ведь он был другом моего отца.
– Ах, дорогой Анри, вы повергаете меня в трепет! Если вы, дитя мое, не станете его послушным орудием, он погубит вас. Ах, зачем я не могу поехать вместе с вами! Зачем в этом злополучном деле я вел себя как двадцатилетний юнец! Увы! Теперь я вам только опасен. Мне, наоборот, надо скрыться. Но возле вас, дитя мое, будет господин де Ту, не правда ли? – проговорил он, стараясь успокоиться. – Он ваш друг детства, немного постарше вас. Слушайтесь его, дитя мое. Он юноша рассудительный. Он многое обдумал, у него собственный взгляд на вещи.
– Конечно, дорогой аббат, вы можете положиться на мою нежную привязанность к нему. Я не переставал любить его…
– Но давно перестали с ним переписываться, не правда ли? – продолжал добрый аббат, чуть улыбнувшись.
– Простите, дорогой аббат, один раз я ему написал, и именно вчера, чтобы сообщить, что кардинал зовет меня ко двору.
– Как? Кардинал сам пожелал приблизить вас к себе?
Тут Сен-Мар показал письмо кардинала-герцога к его матери, и мало-помалу аббат успокоился и смягчился.
– Ну что ж, – говорил он шепотом, – что ж, это неплохо, начало многообещающее; капитан гвардии в двадцать лет – это неплохо. – И он улыбнулся.
А юноша, в восторге от этой улыбки, которая так отвечала его собственному настроению, бросился аббату на шею и стал обнимать его, словно держал в своих руках все свое будущее – с его радостями, славой и любовью.
Но вот добрый аббат не без труда высвободился из горячих объятий и снова зашагал по комнате, вернувшись к прежним раздумьям. Он то и дело покашливал и качал головой, а Сен-Мар, не смея возобновить разговор, наблюдал за ним, и вид аббата, вновь помрачневшего, наводил на него грусть.
Наконец старик сел и проникновенно произнес:
– Друг мой, дитя мое, я по-отечески увлекся вашими надеждами; должен, однако, сказать, – и отнюдь не для того, чтобы вас огорчить, – что они представляются мне чрезмерно преувеличенными и необоснованными. Если бы кардинал имел в виду только выразить вашей семье чувство привязанности и благодарности, он не пошел бы так далеко в своих милостях; но весьма возможно, что он обратил на вас особое внимание. Основываясь на том, что ему о вас, по-видимому, говорили, он решил, что вы можете сыграть ту или иную роль, предугадать которую сейчас невозможно, роль, которую он наметил в своих тайных помыслах. Он хочет подготовить вас для нее, вышколить вас, – простите мне это выражение ради его точности, – и серьезно подумайте об этом, когда настанет пора. Но ничего. Судя по тому, как складываются обстоятельства, мне кажется, вы поступите правильно, если пойдете по этому пути; так начинаются великие карьеры; главное, не дать ослепить себя и поработить. Постарайтесь, дорогое дитя мое, чтобы милости не одурманили вас и чтобы высокое положение не вскружило вам голову. Не сердитесь на меня за такие опасения; это случалось и с людьми постарше вас. Пишите мне так же, как и матушке, почаще; поддерживайте отношения с господином де Ту, и мы постараемся давать вам добрые советы. А пока, сын мой, будьте любезны – притворите окно, мне дует в голову, и я расскажу вам, что здесь произошло.
Надеясь, что нравоучительная часть речи аббата на этом закончилась и что за ней последует нечто более интересное, Анри поспешно затворил ветхое, затканное паутиной окно и молча вернулся на свое место.
– Теперь, хорошенько все взвесив, я прихожу к выводу, что приезд сюда, пожалуй, окажется для вас небесполезен, хотя опыт и будет горьким. Но он восполнит то, чего я вам в свое время не сказал о людской подлости; надеюсь к тому же, что развязка не будет кровавой и что письмо, с которым мы обратились к королю, поспеет вовремя.
– Я слышал, будто письмо перехватили, – вставил Сен-Мар.
– Тогда все кончено, – сказал аббат Кийе. – Тогда кюре погиб. Но выслушайте меня. Отнюдь не мне, дитя мое, не мне, вашему бывшему наставнику, разрушать мое собственное творение и подрывать вашу веру. Живите с ней всегда и всюду сохраняйте ту чистую веру, образец которой являет вам ваша семья, веру, которая у наших отцов была еще тверже и которой не стыдятся и величайшие полководцы нашего времени. Нося шпагу, не забывайте, что она служит Богу. И в то же время, находясь среди людей, не поддавайтесь обману лицемеров; они обступят вас, сын мой, коснутся слабых струн вашего бесхитростного сердца, затронут ваше благочестие; видя их напускной пыл, вы покажетесь самому себе холодным, вам представится, будто совесть ваша ропщет, но это будет говорить не совесть. Как она восстала бы против вас, как возмутилась бы, если бы вы содействовали гибели невинного человека, призывая само небо в лжесвидетели против него!
– Отец мой! Возможно ли? – воскликнул Анри д’Эффиа, сложив руки.
– Истинно так, – продолжал аббат. – Сегодня утром вы собственными глазами видели подтверждение этому. Дай бог, чтобы вы не стали свидетелем еще более мерзких дел. Но слушайте внимательно; заклинаю вас именем вашей матери и всем, что вам дорого: что бы ни творилось у вас на глазах, какое бы преступление ни осмелились совершить, – не произносите ни слова, ни малейшим жестом не выдавайте своего отношения к этому событию. Я знаю ваш пылкий нрав, вы унаследовали его от вашего батюшки-маршала; умерьте его, иначе вы погибли; мелкие вспышки гнева приносят мало удовлетворения и много невзгод; я знаю, вы им весьма подвержены; если бы вы только знали, какое превосходство над людьми дает невозмутимость! Древние запечатлели ее на челе божества как прекраснейшее его свойство, ибо невозмутимость свидетельствует о чем-то, что выше наших опасений, наших надежд, наших радостей и страданий. Так и вы, дорогое дитя мое, будьте невозмутимы при виде поступков, свидетелем которых вам придется стать; но наблюдайте за ними, так нужно; ступайте на это зловещее судилище. Что касается меня, мне придется расплачиваться за мою школярскую глупость. Сейчас вы убедитесь, что лысый человек может быть таким же безрассудным, как и кудрявый юноша вроде вас. Вот послушайте.
Тут аббат Кийе обхватил руками голову Сен-Мара и продолжал:
– Как и всякому другому, сын мой, мне было любопытно взглянуть на урсулинских чертей. Я знал, что черти хвалились, будто говорят на всех языках, и я имел неосторожность, оставив в стороне латынь, задать им несколько вопросов по-гречески. Настоятельница весьма хороша собою, но по-гречески ответить не смогла. Лекарь Дункан во всеуслышание выразил удивление по поводу того, что бес, обладающий всеобъемлющими знаниями, допускает грамматические ошибки и промахи, а по-гречески и вовсе не говорит. Молодая настоятельница, которая лежала в то время на ложе, повернулась лицом к стене, чтобы скрыть слезы, и прошептала, обращаясь к отцу Барре: «У меня нет больше сил, сударь». Я повторил ее слова вслух, и это привело заклинателей в бешенство: они завопили, что я должен бы знать, что некоторые бесы даже невежественнее крестьян и все же в их могуществе и физической силе никак нельзя сомневаться, – ведь взялись же духи, которых зовут Грезиль из чина Престолов[14], Аман из чина Властей и Асмодей, снять с господина де Лобардемона скуфью. Заклинатели ждали этого зрелища, но тут лекарь Дункан, человек ученый и честный, но изрядный насмешник, вздумал дернуть за веревочку, которую он обнаружил; веревочка эта незаметно шла от колонны к образу и затем опускалась как раз к тому месту, где стоял Лобардемон. На сей раз Дункана только обозвали гугенотом, но, думается мне, не будь его заступником маршал де Брезе, он жестоко поплатился бы за эту выходку. А тут с обычным хладнокровием выступил граф дю Люд и попросил капуцинов произнести заклинание в его присутствии. Отец Лактанс, капуцин с темным лицом и суровым взглядом, приступил к сестре Аньесе и сестре Клер; он воздел руки и, обратив на монахинь взгляд, словно змея на голубок, проревел жутким голосом: Quis te misit, Diabole?[15] Девушки ответили в один голос: Urbanus[16]. Монах собирался продолжить допрос, но господин дю Люд с сосредоточенным видом вынул из кармана золотой ларчик и сказал, что в ларчике хранятся святые мощи, доставшиеся ему от предков, и что, хотя он отнюдь и не сомневается в том, что перед ним одержимые, он все же хотел бы испытать силу мощей. Отец Лактанс с восторгом схватил ларчик, и не успел он коснуться им лба девушек, как они неестественно подпрыгнули и стали корчиться. Лактанс ревел, произнося заклятия, Барре и все старухи бросились на колени, Миньон и судьи всячески выражали одобрение. Лобардемон, не теряя хладнокровия, крестился (и гром не поразил его!).
Когда господин дю Люд взял обратно ларчик, а монахини успокоились, Лактанс торжествующе сказал:
«Полагаю, что вы и не сомневались в истинности этих мощей?»
«Не больше, чем в одержимости этих монахинь», – ответил господин дю Люд и открыл ларчик.
Он был пуст.
«Вы, господа, потешаетесь над нами!» – воскликнул Лактанс.
Я был возмущен всем этим балаганом и возразил:
«Да, сударь, так же, как вы потешаетесь над Богом и людьми».
Поэтому-то, дитя мое, вы и видите меня сейчас в этих тяжелых, толстых семимильных сапогах, от которых у меня ломит ноги, и с длинными пистолетами. Ведь наш друг Лобардемон дал приказ схватить меня, а как моя шкура ни стара, я вовсе не желаю с нею расставаться.
– Неужели он обладает таким могуществом? – вскричал Сен-Мар.
– Большим, чем считают и чем можно считать. Я знаю, что одержимая настоятельница доводится ему племянницей и что у него есть постановление совета, где ему предписывается судить Урбена Грандье, не обращая внимания ни на какие прошения, направленные в парламент, ибо кардинал запретил парламенту вмешиваться в это дело.
– Но в чем же его вина? – спросил молодой человек, любопытство которого было уже сильно возбуждено.
– В том, что он наделен сильным духом и возвышенным умом, непреклонной волей, восстановившей против него власть имущих, и глубокой страстью, которая завладела его сердцем и толкнула на единственный смертный грех, в котором его можно упрекнуть. Но проведать о его любви к красавице Мадлене де Бру и разгласить ее удалось лишь после того, как были прочтены его записки, которые силою изъяли у его восьмидесятилетней матери Жанны д’Эстьевр. Девушка отказывалась выйти замуж и хотела принять постриг. О, если бы монашеское покрывало могло скрыть от ее взоров то, что сейчас происходит! Красноречие Грандье и его ангельская красота не раз воспламеняли женщин; многие приезжали издалека, чтобы послушать его; я был свидетелем того, как во время его проповеди некоторые лишались чувств, другие восклицали, что он ангел, и, когда он спускался с кафедры, касались его одежды, целовали ему руки. И правда, его проповеди, всегда вдохновенные, ни с чем не сравнимы по великолепию, – разве что с его собственной красотой; чистейший мед Евангелия сочетался в его устах со сверкающим пламенем пророчеств, и в звуке его голоса отдавалось сердце, переполненное святым состраданием к людским мукам и слезами, готовыми окропить паству.
Добрый аббат замолк, потому что и у него самого к горлу подступили слезы. Его круглое, обычно веселое лицо, вовсе, казалось, не доступное грусти, было в этот миг особенно трогательно.
Сен-Мар, все более волнуясь, пожал ему руку молча, чтобы не прерывать рассказа. Аббат вынул из кармана красный платок, вытер глаза, высморкался и продолжал:
– Это второе по счету страшное нападение на Урбена его врагов; его уже обвиняли в том, будто он околдовал монахинь; дело рассматривалось благочестивыми прелатами, просвещенными чиновниками, учеными мужами; они не признали за ним вины, были глубоко возмущены клеветой, и всем бесам в образе человеческом пришлось умолкнуть. Добрый и богобоязненный архиепископ Бордоский ограничился тем, что сам назначил уполномоченных для проверки мнимых заклинателей; тогда «праведники» разбежались и бесовское сборище притихло. Пристыженные тем, что результаты разбирательства преданы гласности, и оскорбленные ласковым приемом, какой был оказан Грандье нашим добрым монархом, когда тот в Париже припал к королевским стопам, они поняли, что если Грандье восторжествует, то для них это гибель и они предстанут обманщиками; урсулинская обитель уже стала балаганом, где разыгрывались безобразные комедии; монахини превратились в бесстыжих актерок; больше ста человек, набросившихся на Грандье в надежде погубить его, сами оказались в неприятном положении; поэтому после неудачи заговор не только не распался, но, наоборот, окреп: послушайте, какие приемы пустили в ход беспощадные враги Грандье.
Слыхали ли вы о человеке по прозвищу Серое Преосвященство, о страшном капуцине, которому кардинал доверяет тайные поручения, с которым часто советуется, хоть и презирает его? Именно к нему-то и обратились луденские капуцины. Однажды, когда королева проезжала в этих местах, простой женщине по имени Амон посчастливилось понравиться государыне, и она ее взяла к себе в услужение. Вы знаете, какая вражда разделяет двор королевы и двор кардинала, вы знаете, что Анна Австрийская и господин де Ришелье некоторое время оспаривали друг у друга благосклонность короля, и тогда Франция не ведала с вечера, которое из этих двух светил засияет утром. Однажды, в дни затмения кардинала, по рукам стала ходить сатира, вышедшая из звездной системы королевы; она называлась «Башмачница королевы-матери»; задумана и написана сатира была пошло, но в ней заключались такие обидные вещи касательно происхождения и личности кардинала, что враги Ришелье ухватились за нее и стали усиленно распространять, чем вызвали страшный гнев с его стороны. Там, говорят, разоблачались многие интриги и тайны, которые он полагал никому не известными; он прочел сатиру и пожелал узнать, кто автор. А луденские капуцины тем временем донесли отцу Жозефу, будто Грандье и Амон ведут постоянную переписку, а поэтому нет никакого сомнения в том, что Грандье и является автором этого памфлета. Не помогло и то, что Грандье до этого напечатал несколько богословских трудов, сборников молитв и размышлений, самый слог которых говорил о том, что он не мог участвовать в этом пасквиле, написанном рыночным языком; но кардинал, уже давно настроенный против Урбена, решил, что виноват тут не кто иной, как он; кардиналу напомнили, что, когда он был еще только настоятелем Куссейского монастыря, Грандье соперничал с ним и даже на шаг опередил его. А теперь я опасаюсь, как бы этот шаг не свел Грандье в могилу…
При этих словах на лице доброго аббата промелькнула скорбная улыбка.
– Как? Неужели вы думаете, что дело дойдет до казни?
– Да, дитя мое, именно – до казни; у него уже изъяли все документы и постановления, которые подтверждали его невиновность и могли бы помочь ему оправдаться; их изъяли, несмотря на возражения его несчастной матери, которая бережно хранила их как грамоту, дающую ее сыну право на жизнь; уже подвергнут проверке обнаруженный в его бумагах трактат о безбрачии духовенства, и объявлено, что трактат написан с целью распространения ереси. Конечно, вина Урбена велика, и любовь, толкнувшая его на такие мысли, как бы чиста она ни была, – тяжкий грех для человека, всецело посвятившего себя Богу; но несчастный священник был далек от мысли поощрять ересь и написал свой трактат только для того, чтобы успокоить совесть мадемуазель де Бру. Было настолько очевидно, что его действительных прегрешений недостаточно для вынесения смертного приговора, что вновь извлекли на свет божий уже давно забытое обвинение в колдовстве, а кардинал, делая вид, будто верит этому обвинению, распорядился начать в Лудене новый суд и во главе его поставил Лобардемона; а это говорит о том, что несчастному уготована смерть. О, да будет угодно небу, чтобы вы никогда не узнали того, что на растленном языке правительств зовется государственным переворотом!
В этот миг из-за невысокой стены, окружавшей двор, раздался страшный вопль; аббат и Сен-Мар в ужасе вскочили с мест.
– Это женщина, – сказал старик.
– Душераздирающий вопль! – сказал юноша. – Что там такое? – обратился он к своим слугам, которые сразу же выбежали во двор.
Те ответили, что больше ничего не слышно.
– Тем лучше. А теперь не шумите, – крикнул им аббат.
Он затворил окно и обхватил голову руками.
– О, что за вопль, дитя мое! – Старик сильно побледнел. – Что за вопль! Он пронзил мне душу; случилось что-то ужасное. Боже мой! Этот крик ошеломил меня, я не в силах продолжать беседу. И надо же было, чтобы он раздался как раз в то время, когда я говорил с вами о вашей будущей судьбе! Да благословит вас Бог, дорогое дитя мое! Преклоните колени.
Сен-Мар исполнил желание наставника; старик благословил его, поцеловал в лоб и, помогая подняться, сказал:
– Уезжайте поскорее, дитя мое, уже поздно, вас могут застать у меня, уезжайте; оставьте здесь слуг и лошадей; закутайтесь в плащ и уезжайте. Мне надо еще кое-что написать, прежде чем наступят сумерки, а после этого я смогу отправиться в Италию.
Они вновь обнялись, пообещали писать друг другу, и Анри удалился. Аббат, следивший за ним из окна, крикнул:
– Что бы ни случилось – будьте благоразумны! – И он еще раз по-отечески благословил его, прошептав: – Бедный мальчик!
14
Чины или разряды ангельские и их названия заимствованы из пользовавшегося в Средние века большим авторитетом сочинения Дионисия Ареопагита, или, вернее, Псевдодионисия, так как имя этого писателя-мистика первых веков христианства было псевдонимом. В сочинении об «Иерархии небесных сил» этот автор называет девять чинов ангельских, причем некоторые обозначены отвлеченными понятиями: Престолы, Господства, Власти. Собственные имена здесь обозначают ангелов, отпавших от Бога и превратившихся в демонов.
15
Кто послал тебя, диавол? (лат.)
16
Урбен (лат.).