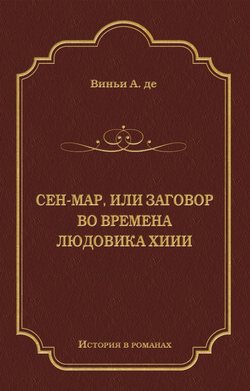Читать книгу Сен-Map, или Заговор во времена Людовика XIII - Альфред де Виньи - Страница 9
Глава VII
Кабинет
ОглавлениеУ людей редко достает мужества быть вполне добрыми или вполне злыми.
Макиавелли
Предоставим нашему юному путнику спать. Вскоре он мирно отправится дальше по прекрасной большой дороге. А мы воспользуемся тем, что можем обозреть весь его путь, и остановим взор на городе Нарбонне.
Посмотрим на Средиземное море, синеватые волны которого набегают здесь неподалеку на песчаные берега. Проникнем в этот город, похожий на Афины. Но чтобы разыскать того, кто властвует тут над всеми, пойдемте вон по той неровной темной улице, поднимемся по ступеням старинного архиепископского дома и вступим в первую, самую большую залу.
Она была очень длинная и освещалась рядом высоких стрельчатых окон, лишь в верхней части которых сохранились синие, желтые и красные стекла, бросавшие в помещение таинственный свет. Со стороны обширного камина залу во всю ширину занимал огромный круглый стол, покрытый пестрой скатертью и загроможденный бумагами и папками; вокруг стола сидели, согнувшись над перьями, восемь писарей, занятых перепиской посланий, которые им передавали со стола поменьше. Другие стоя укладывали бумаги на полки книжного шкафа, отчасти уже заполненного книгами в черных переплетах; эти люди осторожно ступали по ковру, которым был устлан пол.
Несмотря на то что здесь находилось много людей, можно было услышать, как пролетает муха. В зале раздавалось лишь поскрипывание перьев, проворно скользивших по бумаге, да тонкий голосок человека, который диктовал писцам и то и дело умолкал, чтобы откашляться. Голосок исходил из громадного кресла с большими подлокотниками, – оно стояло возле камина, где, несмотря на жаркий климат и время года, горели дрова. Кресло было из числа тех, какие еще можно встретить кое-где в древних замках, – они сделаны словно для того, чтобы человек, сидя в них, легко мог уснуть, какую бы книгу он ни читал, – так предусмотрительно устроена каждая его часть: пуховый валик нежит бока; если голова склонится, щеки оказываются на шелковых подушечках, помещенных у изголовья, а мягкое сиденье настолько выступает из-под подлокотников, что можно подумать, будто дальновидные столяры наших предков позаботились о том, чтобы книга, выпав из рук, не наделала много шума и не разбудила вздремнувшего.
Но оставим это описание и поговорим о человеке, который сидел в этом кресле и отнюдь не спал. У него был широкий лоб и редкие, совершенно белые волосы, большие ласковые глаза, бледное продолговатое лицо, которому острая бородка придавала ту видимость утонченности, которую можно наблюдать на всех портретах эпохи Людовика XIII. Губы у него были на редкость тонкие, и тут нам приходится напомнить, что Лафатер считает это неоспоримым признаком злобности; поджатый, сказали мы, рот окаймляли небольшие седые усики и модная в то время острая бородка, весьма похожая на запятую. На голове у старика была красная скуфейка, а одет он был в широкий шлафрок и пурпурные шелковые чулки, и был это не кто иной, как Арман дю Плесси, кардинал Ришелье.
Рядом с ним, за меньшим столом, о котором мы упоминали, помещалось четверо юношей, лет от пятнадцати до двадцати: то были пажи, или, по выражению того времени, «свои», что означало «приближенные к дому». Обычай держать при себе таких юношей являлся отголоском феодального покровительства. Младшие сыновья знатнейших семей состояли на жалованье у вельмож; они были им преданны в любых обстоятельствах и при малейшем намеке патрона готовы были вызвать на поединок первого встречного. Пажи сочиняли письма в соответствии с указаниями кардинала; патрон бегло просматривал их, затем они передавались писцам для переписки набело. А тем временем кардинал-герцог писал на коленях секретные записочки, которые вкладывал почти во все письма, прежде чем собственноручно запечатать их.
Он уже занимался этим несколько минут, как вдруг заметил в зеркале, висевшем против него, что самый юный из пажей что-то урывками пишет на листке меньшего формата, чем министерские письма; он что-то писал, потом поспешно прятал листок под большую бумагу, которую, к его сожалению, ему поручили заполнить; помещаясь за спиной кардинала, юноша рассчитывал на то, что его высокопреосвященству трудно будет обернуться, и поэтому его привычная плутня останется незамеченной. Вдруг Ришелье обратился к нему и сухо сказал:
– Подойдите, господин Оливье.
В ушах бедного юноши, которому на вид не было и шестнадцати лет, эти слова раздались как удар грома. Все же он мгновенно поднялся и стал перед министром, свесив руки и понурив голову.
Остальные пажи и писцы не дрогнули, подобно тому как солдаты остаются на месте, когда один из них падает, сраженный пулей, – настолько они привыкли к такого рода вызовам. На этот раз, однако, дело обернулось хуже, чем обычно.
– Что вы там пишете?
– Монсеньор… то, что ваше высокопреосвященство диктует.
– Что именно?
– Монсеньор… письмо к дону Хуану Браганскому.
– Прочь уловки, сударь, вы пишете что-то другое.
– Монсеньор, – проговорил тогда паж со слезами на глазах, – это записка к моей кузине.
– Покажите.
Тут молодой человек задрожал с головы до ног, и ему пришлось опереться на камин.
– Не могу, – прошептал он.
– Виконт Оливье д’Антрег, – сказал министр, не обнаруживая ни малейшего волнения, – считайте себя уволенным от службы.
И паж вышел из зала; он знал, что возражать бесполезно; он сунул злополучную записочку в карман и, растворив створки двери ровно настолько, чтобы пройти, выпорхнул, словно птичка из клетки.
Министр продолжал наносить какие-то заметки на лист, лежавший у него на коленях.
Писцы еще более притихли и удвоили рвение, а тем временем дверь порывисто отворилась, и в ней показалась фигура капуцина; вошедший остановился, кланяясь, сложив на груди руки, словно ожидая подаяния или приказа удалиться. У него было темное, изрытое оспой лицо, глаза довольно ласковые, но чуточку косые, нависшие, сросшиеся брови и прямая, рыжеватая к концу борода; губы улыбались хитро, неблагожелательно и зловеще; на нем была францисканская ряса во всем своем безобразии и сандалии, одетые на босу ногу, отнюдь недостойные ступать по коврам.
Как бы то ни было, человек этот произвел, по-видимому, большое впечатление на присутствующих, ибо, не закончив начатой фразы или слова, все писцы поднялись со своих мест и направились к двери, возле которой по-прежнему стоял вошедший; одни, проходя мимо, кланялись ему, другие отворачивались, юные пажи затыкали нос, – но так, чтобы он этого не заметил; по-видимому, они втайне боялись его. Когда все удалились, он наконец вошел, низко кланяясь, ибо дверь была еще отворена; но едва она закрылась, он без церемоний подошел к кардиналу и сел возле него; узнав о его приходе по всеобщему движению, кардинал молча и сухо кивнул ему и обратил на него пристальный взгляд, как бы ожидая новостей; вместе с тем он невольно нахмурился, как то бывает, когда видишь паука или другое отвратительное насекомое.
Кардинал не мог сдержать этого выражения неудовольствия, потому что приход его доверенного принуждал его возобновить серьезные и тягостные разговоры, от которых он несколько дней отдыхал в местности, воздух которой был ему полезен, а покой несколько умерял мучившие его боли; он был подвержен хроническому недугу, но приступы стали реже, так что больной забывал о их неизбежном повторении. Его неутомимая доселе изобретательность могла тут отдохнуть, и теперь он, быть может впервые в жизни, спокойно ожидал возвращения курьеров, разосланных им по всем направлениям, – подобно лучам некоего солнца, которое одно только и придает жизнь и движение всей Франции. Он не ожидал этого визита, и приезд одного из тех, кого он, по его собственному выражению, закалял в преступлении, вновь возвращал его ко всем треволнениям жизни, не рассеивая, однако, той грусти, которая окутала его мысли.
Начало их разговора было тягостным, как и его последние раздумья, но вскоре кардинал обрел всю свою живость и силу, стоило только ему поневоле вернуться в реальный мир.
Его доверенный, чувствуя, что первым должен прервать молчание, сделал это довольно резко:
– О чем вы задумались, монсеньор?
– Да о чем же нам всем и думать, Жозеф, как не о грядущем счастье в ином, лучшем мире? Я уже несколько дней размышляю о том, что земные интересы чересчур отвлекли меня от этой единственной мысли; я раскаиваюсь в том, что потратил кое-какие часы досуга на сочинение мирских произведений вроде трагедий «Европа» и «Мирам», хотя они и прославили меня среди самых утонченных умов, и слава эта еще преумножится в будущем.
Отец Жозеф, всецело занятый тем, что ему предстояло сказать, поначалу удивился такому вступлению; но он слишком хорошо изучил своего хозяина и поэтому и вида не подал; отлично зная, каким путем навести его и на другие мысли, он не колеблясь стал ему вторить.
– Однако достоинства их огромны, – сказал он с притворным сожалением, – и Франция будет сокрушаться, что за этими бессмертными творениями не следуют другие, им подобные.
– Нет, мой дорогой Жозеф, тщетно такие люди, как Буаробер, Клявре, Кольте, Корнель и в особенности знаменитый Мере, провозгласили эти трагедии лучшими из всего, что было создано в прошлом и в наше время; клянусь вам, я все же ставлю их себе в укор, как самый несомненный смертный грех, и теперь в часы досуга занимаюсь только моими «Способами вести спор» и книгой «О совершенном христианине». Я не забываю, что мне пятьдесят шесть лет и что у меня неизлечимый недуг.
– Такие расчеты строят и враги вашего преосвященства, – возразил францисканец; разговор начинал раздражать его, и ему хотелось поскорее переменить тему.
Кардинал покраснел.
– Знаю, отлично знаю, – сказал он, – я не заблуждаюсь на их счет и готов ко всему. Ну а что нового?
– Мы уже решили, монсеньор, заменить мадемуазель д’Отфор; мы удалили ее, как и мадам де Лафайет, – все это превосходно; но место ее вакантно, и король…
– Что?
– У короля появились идеи, чего раньше не бывало.
– Вот как? И эти идеи исходят не от меня? Скажите на милость! – иронически молвил министр.
– Так зачем же, монсеньор, целых шесть дней оставлять вакантным место фаворита? Это неосторожно, позвольте мне заметить.
– У него идеи! Идеи! – повторил Ришелье с каким-то страхом. – А какие именно?
– Он заикнулся о том, что надо вернуть королеву-мать. Вернуть ее из Кельна.
– Вернуть Марию Медичи! – воскликнул кардинал, стукнув руками о подлокотники. – Нет, клянусь небесами! Она не вернется на французскую землю, откуда я ее изгонял дюйм за дюймом! Англия не решилась предоставить ей пристанище, раз я ее изгнал, Голландия побоялась, что погибнет из-за нее, и вдруг мое же королевство ее примет! Нет, нет, эта мысль не могла ему прийти в голову сама собой! Вернуть моего врага, вернуть его мать, какое вероломство! Нет, сам он никогда не посмел бы это придумать…
Он помолчал, потом добавил, устремив на отца Жозефа еще пылающий гневом пронизывающий взгляд:
– А в каких выражениях он изъявил это желание? Повторите слово в слово.
– Он сказал в присутствии своего брата и еще нескольких человек: «Я чувствую, что первый долг христианина – это быть хорошим сыном, и не в силах устоять перед ропотом совести».
– Христианин! Совесть! Это не его выражения! Это меня предает его духовник, отец Коссен, – воскликнул кардинал. – Коварный иезуит! Я простил тебе интригу с Лафайет, но не прощу тайных советов королю! Я добьюсь, чтобы прогнали этого духовника. Жозеф, он враг государства, мне это ясно. Последние дни я пренебрегал делами, я недостаточно торопил прибытие молодого д’Эффиа, а он, видимо, понравится; говорят, он хорош собою, остроумен. Ах, что за оплошность! Мне поделом бы и самому попасть в немилость! Оставить при короле эту лису-иезуита, не дав ему тайных указаний, не имея гарантий, не получив залога его верности! Какой просчет! Жозеф, возьмите перо и поскорее напишите нижеследующее для другого духовника, которого мы выберем удачнее. Не остановиться ли на отце Сирмоне?..
Отец Жозеф сел за большой стол, готовясь писать, и кардинал продиктовал ему новый перечень обязанностей, которые немного спустя кардинал осмелился представить королю, а тот принял их, отнесся к ним с уважением и выучил наизусть как веление церкви. Они дошли до нас и являются страшным памятником той власти, какую человек может мало-помалу присвоить себе при помощи интриг и дерзости:
«I. У монарха должен быть первый министр, а первый министр должен обладать тремя качествами: 1) почитать своего монарха превыше всего на свете, 2) быть искусным и верным, 3) состоять в духовном звании.
II. Монарх должен безраздельно любить своего первого министра.
III. He должен никогда сменять первого министра.
IV. Должен посвящать его во все свои помыслы.
V. Предоставить ему свободный доступ к своей особе.
VI. Предоставить ему неограниченную власть над народом.
VII. Окружить его высокими почестями и жаловать ему богатые дары.
VIII. У монарха нет большего сокровища, чем его первый министр.
IX. Монарх не должен придавать значения тому что ему наговаривают на первого министра, и слушать осуждающих его.
X. Монарх должен поверять первому министру все, что ему говорилось о министре, даже в тех случаях, когда монарха просили сохранить беседу в тайне.
XI. Монарх должен предпочитать всем своим родственникам не только благо государства, но и предпочитать им своего первого министра».
Таковы были предписания «бога» Франции, но еще удивительнее та чудовищная наивность, с какой он сам завещал эти распоряжения потомству, словно и потомство должно верить в него.
В то время как он диктовал свое наставление, записанное им собственноручно на маленьком листке бумаги, его, видимо, охватывала глубокая печаль, а дойдя до конца, он откинулся в глубину кресла, скрестил руки и опустил голову на грудь.
Отец Жозеф отложил написанное, встал и подошел осведомиться, не дурно ли ему; в это время из груди кардинала исторглись следующие мрачные незабываемые слова:
– Что за безысходная тоска! Что за нескончаемые тревоги! Если бы какой-нибудь честолюбец увидел меня сейчас, он сбежал бы в пустыню! Что мое могущество? Жалкий отсвет королевской власти, а каких трудов стоит удержать на своем челе этот беспрерывно отклоняющийся луч! Уже двадцать лет я тщетно стараюсь удержать его! Я ничего не понимаю в этом человеке! Он не смеет бежать от меня; но у меня его похищают, он ускользает из моих рук… Какие дела я мог бы совершить, будь у меня его наследственные права! А тут приходится тратить столько сил, чтобы удержаться в равновесии. Что же остается на дела? В моей руке вся Европа, а сам я вишу на волоске! Зачем мне окидывать взглядом карту мира, когда все мои интересы заключены в моем тесном кабинете? Этими шестью локтями пространства мне труднее управлять, чем всей землей. Вот что такое первый министр! Завидуйте же мне, мои стражи!
Черты лица кардинала настолько изменились, что можно было опасаться несчастья, и у него начался долгий приступ жестокого кашля, закончившийся легким кровохарканьем. Заметив, что отец Жозеф в испуге потянулся к золотому колокольчику, лежавшему на столе, кардинал порывисто, как молодой человек, поднялся с кресла и, останавливая его движение, сказал:
– Пустое, Жозеф! Я иной раз поддаюсь отчаянию; но эти мгновения мимолетны, и после них я становлюсь только сильнее прежнего. Что касается здоровья, я отлично сознаю свое положение; но не об этом речь. Что вы делали в Париже? Я рад, что король, как мне того хотелось, приехал в Беарн: здесь нам легче будет наблюдать за ним. Чем вы его сюда заманили?
– Сражением под Перпиньяном.
– Что ж, неплохо. Сражение можно для него устроить; в настоящее время пусть он лучше займется этим, а не чем-нибудь другим. Ну а молодая королева? Что говорит молодая королева?
– Она все еще негодует на вас. Негодует, что ее переписку перехватывают, что вы учинили ей допрос.
– Пусть! Мадригал, который я ей сочиню, и моя временная покорность заглушат в ней мысль о том, что я разлучил ее с австрийским домом и с родиной ее Букингема. А чем она занимается?
– Новыми интригами с братом короля. Но все ее наперсницы в наших руках, и вот вам донесения день за днем.
– Не стану утруждать себя этим чтением: пока герцог Буйонский в Италии, я не опасаюсь козней с его стороны; предоставим ей сколько угодно мечтать с Гастоном у камелька о мелких заговорах; он всегда ограничивается только добрыми намерениями, которые возникают у него порой, а тщательно подготавливает только свои отлучки из королевства; сейчас это уже третье путешествие. Если захочет, я устрою ему и четвертое; он не заслуживает пистолетного выстрела, это не то что граф де Суассон, которому ты приказал отпустить пулю. А ведь нельзя сказать, чтобы граф был решительнее герцога Буйонского.
Тут кардинал вновь сел в кресло и засмеялся, для государственного деятеля довольно весело.
– Всю жизнь буду потешаться над их амьенской затеей. Я находился у них в руках. Каждый из них был окружен по крайней мере пятьюстами дворянами, которые были вооружены до зубов и готовы расправиться со мной, как с Кончини[23], но великого Витри уже не было среди них; они предоставили мне мирно побеседовать с ними целый час об охоте и о празднике Тела Господня, и ни тот ни другой не решился подать знак своим головорезам. Впоследствии мы узнали от Шавиньи, что столь благоприятный случай они выжидали целых два месяца. А я действительно ничего не замечал, если не считать того, что маленький разбойник аббат де Гонди[24] терся возле меня и, видимо, что-то прятал в рукаве; только из-за этого я и сел в карету.
– Кстати, монсеньор, королева во что бы то ни стало хочет, чтобы он стал коадъютором.
– С ума сошла! Он ее погубит, если она привяжется к нему; это неудавшийся мушкетер, черт в сутане; прочтите его «Историю Фиески» – сами убедитесь. Пока я жив, этому не бывать!
– Вы вполне правы, а в то же время вы вызываете ко двору другого, столь же юного честолюбца.
– Тут большая разница! Молодой Сен-Мар будет, друг мой, всего лишь игрушкой, самой настоящей игрушкой; голова у него будет занята только брыжами да аксельбантами; порукой тому – вся его внешность, а нравом он, я знаю, ласков и податлив. Поэтому-то я его и предпочел его старшему брату; он будет исполнять все, что мы захотим.
– Монсеньор, – возразил монах недоверчиво, – я никогда не полагаюсь на людей с такой невозмутимой внешностью, внутренний пламень у них бывает еще опаснее. Вспомните его родителя, маршала д’Эффиа.
– Но, повторяю, это ребенок, и я воспитаю его. А Гонди уже сейчас законченный заговорщик, это головорез, который не останавливается ни перед чем; он осмелился оспаривать у меня госпожу де Ламейре, – представляете вы себе это? Кто этому поверит – оспаривать у меня! Ничтожный клирик, лишенный каких-либо достоинств, кроме молодцеватой внешности да умения довольно бойко болтать. К счастью, муж сам взял на себя труд его отвадить.
Отец Жозеф, который так же мало интересовался любовными интригами хозяина, как и его стихами, поморщился, стараясь придать гримасе глубокомысленный оттенок, но от этого она стала только отвратительней и неуклюжей; он воображал, что губы его, перекосившиеся, как у обезьяны, беззвучно говорят: «Ах, кому же устоять перед вашим высокопреосвященством!» – но его высокопреосвященство прочел на них только фразу: «Я неуч, ничего не смыслящий в великосветских делах» – и вдруг, взяв со стола донесение, без всякого перехода сказал:
– Герцог де Роган умер, это хорошая весть; теперь гугенотам конец. Ему посчастливилось; я распорядился, чтобы тулузский парламент приговорил его к четвертованию, а он спокойно умер на поле сражения при Рейнфельде. Но какая разница? Еще одна крепкая голова повергнута в прах! Как они посыпались после смерти Монморанси! Теперь, пожалуй, уже не найдешь головы, которая не склонялась бы передо мной! Теперь мы покарали почти всех, кто был нами одурачен в Версале. Упрекнуть меня, конечно, не в чем; я применяю против них закон «око за око, зуб за зуб»; я обращаюсь с ними так же, как они хотели, чтобы со мной обращались в совете королевы-матери. Старый болтун Басомпьер отделается пожизненным тюремным заключением так же, как и разбойник маршал де Витри, ибо они голосовали за применение ко мне только этой кары. Что же касается Марийяка, который предлагал смертную казнь, то я ее припас для него на первый же его промах, а тебе, Жозеф, поручаю напомнить мне об этом; надо быть справедливым ко всем. Итак, не сломлен еще только герцог Буйонский, который весьма горд своим Седаном; но я заставлю его отступить. Ослепление их нечто прямо-таки изумительное, все они воображают, будто могут беспрепятственно замышлять заговоры, и им невдомек, что хоть они и порхают, но привязанные на ниточке, которая у меня в руках, и я ее иной раз отпускаю, чтобы они чувствовали себя чуточку непринужденнее. А очень вопили гугеноты по поводу смерти их дорогого герцога?
– Меньше, чем по поводу луденского дела, которое закончилось, впрочем, вполне благополучно.
– Как это благополучно! Надеюсь, что Грантье уже нет в живых?
– Вот именно; это я и хотел сказать. Ваше высокопреосвященство должны быть удовлетворены; все закончено в двадцать четыре часа; о нем уж и думать перестали. Но Лобардемон допустил небольшую оплошность: устроил гласный суд; это вызвало некоторый шум; однако смутьяны нам известны и за ними ведется наблюдение.
– Хорошо. Отлично. Урбен был человек слишком незаурядный, чтоб дать ему волю; он тяготел к протестанству; я готов был биться об заклад, что он в конце концов отступился бы от истинной веры; я заключаю об этом на основании его трактата против безбрачия духовенства; а в случае сомнения, – запомни это, Жозеф, – всегда лучше срубить дерево, не дожидаясь, пока оно принесет плоды. Гугеноты, знаешь ли, это воистину республика в государстве; получи они во Франции большинство, и монархии конец; они введут народоправство, и оно может оказаться долговечным.
– И какие глубокие огорчения причиняют они изо дня в день нашему святому Папе! – поддакнул Жозеф.
– Понимаю, куда ты клонишь, – прервал его кардинал, – ты хочешь напомнить мне, что он упорно не соглашается пожаловать тебя кардинальской митрой. Не беспокойся – я переговорю сегодня с новым послом, которого мы посылаем в Рим. Маршал д’Эстрэ добьется решения вопроса, которое так затянулось; ведь уже два года как мы прочим тебя в кардиналы; я тоже склонен считать, что пурпур очень пойдет тебе – капли крови на нем не видны.
И собеседники рассмеялись: один как властелин, который глубоко презирает наемного убийцу, другой как раб, решивший терпеливо сносить все унижения, лишь бы они помогли ему возвыситься.
Оба еще смеялись кровавой шутке старого министра, когда дверь отворилась и паж доложил о прибытии курьеров из разных мест; отец Жозеф поднялся с кресла и, прислонившись к стене, замер как египетская мумия, причем лицо его выражало теперь только тупое благоговение. Один за другим стали входить посланцы в разнообразных обличьях: один мог сойти за швейцарского солдата, другой – за маркитанта, третий – за каменщика; их вводили во дворец через потайную лестницу и коридор, а выходили они из кабинета через дверь, противоположную той, через которую их впускали, так что они не могли не только поделиться привезенными новостями, но и встретиться друг с другом. Каждый из двенадцати прибывших клал на большой стол свиток или пачку бумаг, несколько минут разговаривал с кардиналом, стоявшим у окна, и уходил. При появлении первого курьера Ришелье стремительно встал и, как всегда стараясь обходиться без посторонней помощи, сам принял их всех, выслушал и собственноручно затворил за ними дверь. Когда удалился последний, кардинал знаком подозвал отца Жозефа, и они молча стали распечатывать, или, вернее, разрывать, пачки донесений и кратко сообщать друг другу их содержание.
– Герцог Веймарский одерживает победы; герцог Карл потерпел поражение; наш генерал пребывает в отличном настроении; вот остроты, сказанные им за столом. Я доволен.
– Виконт де Тюренн отбил лотарингские крепости; вот мысли, высказанные им в частных беседах…
– Ну, пропустите это, пропустите; тут ничего опасного быть не может. Это славный, честный человек, который никогда не вмешивается в политику; ему бы только иметь небольшую армию, которой он мог бы распоряжаться как шахматными фигурами и пускать их в дело безразлично против кого, – вот он и доволен; с ним мы всегда поладим.
– А в Англии все еще заседает Долгий парламент[25]. Общины настаивают на своих предложениях; в Ирландии кровопролитие… Граф Страффорд[26] приговорен к смертной казни.
– К смертной казни! Какой ужас!
– Читаю: «Его величество Карл Первый не решился подписать приговор, но назначил четырех уполномоченных…»
– Слабый монарх, отрекаюсь от тебя! Денег наших больше не получишь. Пусть тебя свергнут, раз ты такой неблагодарный!.. Несчастный Уентворт!
И на глазах Ришелье появились слезы; человек этот, только что игравший жизнью стольких людей, оплакивал министра, покинутого своим монархом. Кардинал был поражен тем, как схоже положение этого министра с его собственным, и в лице осужденного чужестранца оплакивал самого себя. Он перестал читать вслух донесения, которые распечатывал, и наперсник последовал его примеру. Кардинал с величайшим вниманием просматривал все подробные сообщения о незначительных и самых тайных поступках мало-мальски влиятельных лиц; таких данных, дополнявших обычные донесения, он неуклонно требовал от своих ловких шпионов. Эти тайные сведения прилагались к докладам королю, но доклады всегда проходили через руки кардинала и затем снова запечатывались, а в руки монарха попадали очищенными и приведенными в такой вид, который соответствовал намерениям кардинала. После того как министр ознакомился с приватными сообщениями, все они были тщательно сожжены отцом Жозефом; но кардинал, по-видимому, все же был недоволен; он быстро ходил из угла в угол, тревожно жестикулируя, как вдруг дверь распахнулась и вошел еще один курьер. Этому посланцу на вид не было и четырнадцати лет; под мышкой он держал пакет с черной печатью, предназначенный королю, а кардиналу подал только листок бумаги, на котором Жозефу удалось украдкой различить всего-навсего четыре слова. Кардинал вздрогнул, разорвал листок на мелкие клочки и, склонясь к мальчику, довольно долго говорил ему что-то на ухо, не получая ответа; Жозеф расслышал только, как кардинал, отпуская посланца, сказал: «Смотри же, не раньше как через двенадцать часов».
Во время этого уединенного разговора Жозеф постарался припрятать от кардинала бесчисленные пасквили, доставленные из Фландрии и Германии, с которыми министр желал ознакомиться, как бы ни были они для него горьки. Кардинал делал вид, будто придерживается на этот счет философии, которая в действительности вовсе не была ему свойственна: чтобы ввести в заблуждение окружающих, он иной раз притворялся, будто считает, что его недруги кое в чем и правы, и сам смеялся их шуткам; но люди, лучше знавшие его характер, улавливали под этой напускной терпимостью неистовую злобу и знали, что он бывал вполне удовлетворен только после того, как парламент по его желанию приговаривал направленную против него книгу к сожжению на Гревской площади, как сочинение, которое в лице министра, светлейшего кардинала, наносит оскорбление самому королю (в этом можно убедиться, ознакомясь с многочисленными приговорами того времени); в таких случаях он сожалел только о том, что на месте книги не оказался сам автор; а когда удавалось, он доставлял себе и такого рода удовлетворение – пример тому случай с Урбеном Грандье.
Он мстил таким образом, не признаваясь в этом самому себе, за обиды, нанесенные его чудовищной гордыне, и подолгу, иной раз больше года, убеждал себя в том, что этого требуют интересы государства. Ловко сплетая свои личные дела с делами королевства, он внушил себе, что Франция истекает от ран, которые наносятся ему, кардиналу. Чтобы не испортить его настроение в данную минуту, Жозеф отложил в сторону и спрятал книжку под названием «Политические тайны кардинала Ла-Рошельского», а также другую, которая считалась сочинением некоего мюнхенского монаха и была озаглавлена «Шутовские вопросы, приноровленные к нынешним событиям, с присовокуплением кровавых беззаконий бога Марса». Честный адвокат Обери, оставивший нам одно из самых достоверных жизнеописаний высокопреосвященнейшего кардинала, приходит в ярость от одного названия первой из этих книжек и восклицает, что «великий министр вполне мог гордиться тем, что его враги помимо собственной воли оказались во власти того восторга, который превратил в оракула Валаамову ослицу, Каиафу и прочих, еще менее достойных дара пророчества, и что, воодушевленные этим восторгом, они называли его кардиналом Ла-Рошельским, – ведь три года спустя после выхода их книжек они в самом деле разрушил этот город. Точно так же и Сципиона прозвали Африканским за то, что он покорил эту провинцию». Отец Жозеф, который придерживался, разумеется, того же образа мыслей, что и адвокат Обери, чуть было не выразил своего негодования в тех же выражениях; но он с прискорбием вспомнил нелепую роль, сыгранную им при осаде Ла-Рошели, – крепость эта, хоть и не являлась «провинцией», как Африка, все же осмелилась противостоять высокопреосвященнейшему кардиналу, несмотря на то что отец Жозеф, считая себя знатоком военного искусства, попытался было ввести в город войска через сточные трубы. Поэтому он решил не напоминать о Ла-Рошели и, прежде чем министр проводил юного курьера и вернулся к письменному столу, успел спрятать пасквиль в карман своей коричневой рясы.
– Едем, Жозеф, едем! – сказал министр. – Впусти сюда придворных, которые осаждают меня, и отправимся к королю, он ждет меня в Перпиньяне; теперь он у меня в руках навсегда.
Капуцин удалился, и вскоре пажи, настежь растворив золоченые двери, стали называть одно за другим имена крупнейших вельмож того времени; король отпустил их от себя, чтобы они могли нанести визит министру; а некоторые из них под предлогом болезни или служебных дел сами потихоньку покинули королевский двор, чтобы не последними появиться в прихожей министра; таким образом, бедный монарх оказался почти в одиночестве, что случается с другими королями обычно только на смертном одре; но похоже было на то, что в глазах придворных трон – это смертное ложе короля, царствование его – нескончаемая агония, а его министр – не кто иной, как грозный наследник.
Два пажа из знатнейших французских семей стояли у двери, тут же слуги громко называли имена входящих, которые в соседней приемной уже повстречались с отцом Жозефом. Кардинал, по-прежнему сидевший в кресле, при появлении большинства придворных оставался совершенно неподвижным, наиболее знатным он слегка кивал головой и только ради принцев слегка приподнимался, опираясь на обе руки; каждый подходил к нему, отвешивал глубокий поклон и, остановившись перед ним, возле камина, ждал, когда кардинал обратится к нему; потом по знаку кардинала придворные обходили вокруг приемной и удалялись через ту же дверь, в которую вошли; некоторое время они беседовали с отцом Жозефом, который подражал своему хозяину и этим заслужил прозвище Серого Преосвященства; в конце концов они либо покидали дворец, либо выстраивались за креслом министра, если на то было его соизволение, и это являлось знаком величайшей милости.
Сначала он пропустил несколько ничем не примечательных придворных или таких, чьи достоинства были ему бесполезны, и остановил это шествие только на маршале д’Эстрэ, который приехал попрощаться с ним перед отъездом в Италию; все шедшие позади маршала остановились. В соседней комнате это послужило знаком, что кардинал с кем-то беседует дольше, чем обычно; Жозеф, ожидавший этой минуты, появился в кабинете и обменялся с кардиналом взглядом, который, с одной стороны, говорил: «Не забудьте о данном мне обещании», а с другой: «Не беспокойтесь». В то же время капуцин ловко обратил внимание хозяина на то, что держит под руку одну из своих жертв, которую он собирался превратить в свое послушное орудие: то был молодой дворянин в очень коротком зеленом плаще, камзоле того же цвета и узких красных штанах с великолепными золотыми подвязками, – словом, в костюме пажей из свиты брата короля. Отец Жозеф разговаривал с ним очень конфиденциально, но отнюдь не в интересах своего хозяина; обуреваемый желанием стать кардиналом, он подготавливал запасные ходы на случай отступничества первого министра.
– Передайте его королевскому высочеству, чтобы он не судил обо мне слишком поспешно, ибо у него нет более преданного слуги, нежели я. Здоровье кардинала день ото дня слабеет; и я считаю, что совесть призывает меня предупредить об его ошибках того, кто, быть может, унаследует королевскую власть до совершеннолетия будущего короля. В доказательство моего чистосердечия передайте принцу, что здесь собираются арестовать преданного ему Пюи-Лорана; пусть принц распорядится, чтобы его где-нибудь спрятали, иначе кардинал и его посадит в Бастилию.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
23
Кончини – временщик во времена регентства Марии Медичи (1610–1617) и муж ее фаворитки Леоноры Галигаи, которая купила своему мужу за счет королевы маркизат д’Анкр и несколько губернаторств. Возведенный в звание маршала д’Анкр, Кончини, жадный и невежественный авантюрист, занял пост главы правительства, но его правление вызвало сильную оппозицию как со стороны аристократии, так и со стороны оттесненного от управления короля. В 1617 г. он был убит капитаном королевской гвардии Витри, который позже был возведен в звание маршала.
24
Аббат де Гонди, впоследствии кардинал де Ретц, – политический деятель и писатель. Принимал участие в заговорах против Ришелье. Играл большую роль при Людовике XIV.
25
События, о которых рассказывается в романе, происходят в то время, когда в Англии развертывалась буржуазная революция. Долгий парламент был созван 3 ноября 1640 г.
26
Страффорд Томас, граф, лорд Уентворт (1593–1641) – министр Карла I. По требованию Долгого парламента был предан суду и казнен.