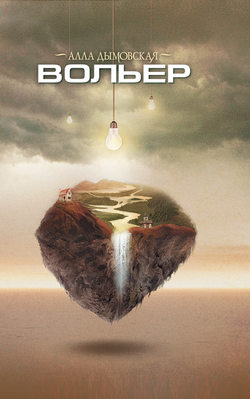Читать книгу Вольер (сборник) - Алла Дымовская - Страница 5
Вольер
Часть первая
Homo Ignoramus
Игнатий Христофорович, Гортензий и Амалия Павловна
ОглавлениеКомната завертелась, соединив стены, словно обрезанные ровно крылья, и отступила на шаг в полутьму. Игнатий Христофорович закрыл глаза – пяток минут у него, во всяком случае, есть. Бессонная ночь в его возрасте уже не проходит бесследно. А здоровый отдых становится неотъемлемой необходимостью. Хотя все это, конечно, сущие пустяки. Психологическое равновесие в его годы уже теряет свой смысл. Устаешь от всего, даже от забот о себе самом, что и вообще-то последнее дело. Да и с пятиминутным погружением затея пустая. Сейчас прибудет Амалия, застанет его в таком виде и начнет пилить: зачем он не щадит свое несчастное тело – всех великих проблем до смерти все равно не решить и все идеи не передумать, а вот как раз преждевременную кончину на свою голову накликать не надо.
Так и есть. Отрывисто прозвучало в полной тишине уснувшего дома хлопотливое воззвание к «лаборанту» – беда с этими суспензионными управляющими! Прежние полимерные были куда лучше! По крайней мере, не в свое дело не лезли. Будто бы он и без «лаборанта» не знает, как ему жить правильно! Ведь был же приказ – отзываться только на его голос, а уж подчиняться безусловно одному хозяину. Так нет, чертов ИК, тоже мне – Искусственный Когитатор, который мыслит, хотя и не существует! Разломать его к печкам-лавочкам! Зачем он Амалию-то слушает? А потому что из всех зол выбирает для своего повелителя наименьшее. В общем-то, «лаборант» прав. Ему давно уже противопоказаны экстренные психокинетические погружения, но предписан полноценный восьмичасовой сон, причем на водяной кровати, отнюдь не на краю опытной тумбы-вивария.
Кабинет засветился неоновым светом плавно, не резко. Хорошо хоть Амалия пощадила его, не стала возвращать к реальному бытию посредством барочной музыки – он Вивальди уже слышать не может. Ни осень, ни лето, ни аллегро, ни престо. Архаика, а до чего же раздражает.
– Игнаша, ну нельзя же так! – раздался с порога недовольный басовитый голосок, странноватый для столь хрупкой и утонченной дамы, но Амалия вся и сплошь состоит из контрастов, ими и дышит, когда не впадает в крайности.
Игнатий Христофорович привел магнитное кресло в вертикальное положение. Вот и погрузился! Отпогружался, можно даже сказать! Да-с!
– Ты присаживайся, милая моя, – почти нежно ответил Игнатий Христофорович, по опыту зная – с Амалией только так и надо. Главное не возражать, говорить покорно и ласково, ни в коем случае не провоцировать ее участливое материнское начало.
– Нас будет всего трое? Или подождем Карлушу? – куда более спокойно спросила Амалия, сбросив тем временем нарядные туфли и вытягиваясь в состояние «полулежа» на его любимой козетке – антикварная вещь, эпоха постоянных форм, а какая красота! И Амалия на ней тоже красива. Огненные янтарные глаза горят на белом, словно кохинхинский рис, продолговатом личике, в противовес волосы черные, как межзвездная пустота, и такие же непроглядно густые.
– Карл не прилетит. Пишет новую вещь, просил ни за что не отвлекать. Говорит, мы маемся ерундой, к тому же вся затея – якобы против моральных установлений. Его, разумеется, не наших. Но в основном он не верит. Ну подумай сама, при чем здесь вера? Как будто молекулярная съемка может обманывать? И потом ни ты, ни я, ни тем более Гортензий никогда не отличались страстью к преувеличениям. Отсюда вывод – разбираться придется нам втроем, – Игнатий Христофорович засопел натужно носом. Вся ситуация в целом его тоже нисколько не радовала.
– О Гортензии ты лучше помолчи. Он от природы потребитель класса экстра. Его вообще радуют такие вещи, которым мы с тобой и значения не придаем! – рассердилась вдруг Амалия. – Я себя чувствую рядом с ним доисторическим экспонатом, старой бабкой в платочке и с кошелкой. Нет, с лукошком. Или с котомкой. Как правильно будет, Игнаша?
– С лукошком. Для тебя, по крайней мере. И потом что ты хочешь? Молодому человеку только пятьдесят один год. Нельзя же требовать, в самом деле, чтобы он перестал изумляться окружающему его миру? – напомнил он Амалии.
– Пусть изумляется сколько хочет! Но зачем же сопровождать сей процесс столь многими разрушениями и неприятностями для людей, ему близких? – в голосе Амалии загрохотали возмущенные басы, но в действительности она нисколько не сердилась. Гортензий ей нравился. – Кстати, а где, собственно, он есть? Впрочем, страсть к опозданиям всегда числилась в его недостатках.
Тут пороговый блок пропустил в сияющий зеленоватым неоном кабинет Игнатия Христофоровича еще одну фигуру. Долговязую и длинноволосую. А если приглядеться повнимательней – то и излишне длинноносую.
– Собственно, он есть тут! Приветствую сию обитель «Пересвет», ее дражайшего хозяина и его не менее дражайших гостей, иначе гостью! – насмешливо сообщила фигура звенящим голосом Гортензия, затем художественно присвистнула и выдала: – Ах, Амалия Павловна, Амалия Павловна! Куртизанка Нинон де Ланкло отдыхает после трудов праведных. Я-то всегда считал вас порядочной женщиной! А тут такой соблазн! Позвольте ручку!
– Негодник, какую вам еще ручку? – возмущенно забасила с антикварной козетки хрупкая Амалия, однако совсем даже не обиделась на злопыхательствующего шутника.
– Тогда дозвольте ножку! Раз уж ручку вам так жалко, – продолжал глумиться Гортензий, косясь одновременно в сторону хозяина дома – не возражает ли? Игнатий Христофорович нимало не возражал.
Шутливая перепалка длилась еще пару минут. И пусть. Рассудил Игнатий Христофорович. Дальше все равно ничего веселого не ожидается. Пока же Гортензий резвился, а огнеглазая Амалия ему нарочито строго отвечала, сам он думал. Не совершают ли они ошибку, пытаясь нынче разрешить задачу за спиной, так сказать, лица, ее поставившего. Но в том-то и дело, что оное лицо наотрез отказалось участвовать в обсуждении как задачи, так и себя самого, что вообще-то было на сей раз равнозначно. И это настораживало еще больше. Нет, даже убеждало, что его, Игнатия Христофоровича тревога основана не на беспочвенной предпосылке.
Наконец Гортензий устроился на осевшем под его весом пухлом, ажурной отливки ковре «сам-хоросан», вечная его манера – разлечься на полу и взирать на окружающих лениво снизу вверх или вообще не смотреть. Красив по-своему, этакий вождь краснокожих, только перьев в прическе не хватает. Вылитый североамериканский индеец эпохи Ирокезского Союза Пяти Племен, игра природы, забавно, откуда такая чистота этнического типа по нынешним-то временам? Теперь он разглядывал противоположный настенный рисунок, важно поводя длинным, грозно очерченным носом из стороны в сторону, словно бы ловил в воздухе неизвестные и неэстетичные ароматы. Пахло в рабочем кабинете Игнатия Христофоровича всегда однообразно – сандаловым деревом и мятой, поэтому можно было предположить, что не в запахах заключалось дело.
– Сколько раз к вам ни захожу, все время одно и то же. На этой стене во всяком случае, – вяло кивнул Гортензий в направлении рисунка. И все трое поняли – разговор, ради которого они здесь собрались, начался. Хотя и своеобразным способом. – Что же, это доставляет вам удовольствие, Игнатий Христофорович? Я без задней мысли, кстати, спросил.
Настенный рисунок, противоположный рабочему месту Игнатия Христофоровича, изображал подопечный ему поселок «Беспечная малиновка» в день празднования Свадьбы Старшего Сына, чьего неизвестно. Да это было и неважно. Совершенно. Фигуры на рисунке неторопливо двигались в замедленном действии, чтобы можно было рассмотреть процессию в подробностях, если кому придет такая охота. Обычно же охотников не находилось, за исключением самого Игнатия Христофоровича. Скучно это. Да и ни к чему. А кое-кому и неприятно. Чтобы не сказать большего.
– Удовольствие, милый Гортензий, здесь совершенно постороннее, – веско заметил хозяин дома и кабинета. – Все дело в ответственности. О коей нужно помнить. И непрестанно. Раз уж взвалил оную на себя. Впрочем, вы сами понимаете, хотя и делаете вид… иначе зачем бы вы… Зачем бы вы обременили себя этой ношей, да еще в столь раннем возрасте?
– Ну, я другое дело, – отмахнулся Гортензий, причем в буквальном смысле – замахал у себя перед носом узкой, приятно-женственной рукой с длинными лиловыми ногтями, будто бы отгоняя назойливое насекомое. – Никак не могу избавиться от визуализации ощущений. Это все Григорян со своими опытами, – пожаловался он.
Амалия не упустила случая ехидно уколоть своего любимца:
– А вы, разумеется, вызвались добровольцем? Имейте в виду, Игнаша затевает эксперимент по нейронной вивисекции. Так, может, предложите свою кандидатуру? Чтобы он, бедняга, не мучился с полимерными симуляторами. Ощущения будут незабываемые, это я вам гарантирую!
– О, моя жрица неопределенного возраста! Почто вы столь жестоки к пытливому уму? – посетовал с пола Гортензий, изображая из себя оскорбленную невинность.
Все трое засмеялись. Но как-то несмело и будто бы опасаясь спугнуть нечто важное, что незримо витало в переливающейся зелеными всплесками, прохладной комнате.
– Викарий, любезный, я бы попросил вас включить. Последний серийный «баскет», с самого начала, – призвал Игнатий Христофорович своего «лаборанта». Зачем он обращался столь выспренно к существу неодушевленному, он и сам не понимал. Наверное, все дело в воспитании. Любое нечто, обладающее высокоразвитым интеллектом, пусть даже не обладающее личностью, его носящей, имеет право на некую долю уважения. – И вот еще что. Сопереживатель не подсоединять! Нам нужна чистая картинка.
Посредине кабинета немедленно вспыхнул столб абсолютно белого света. Все приготовились смотреть. Белоснежный всплеск распался на радужные соцветия, и вот уже по центру развернулось объемное действие, отображающее реальные события в масштабе примерно один к пяти.
– Как называется сие место? – прозвучал высокий голос Гортензия будто бы за кадром.
– «Яблочный чиж». Владение за № 28593875-бис. У Агностика оно единственное. Смотрите внимательно, – ответил ему Игнатий Христофорович. Сам он взирал на происходящее вполглаза. Давно уж знал наизусть, оттого и не спал всю последнюю ночь. Да что пользы?
В четком цилиндрическом луче как раз происходили ключевые события. Какое-то темноволосое, довольно юное существо держало за руку малыша Нафанаила, а тот, выпучив до отказа муаровые глазенки, наблюдал за дурацким поступком Агностика, сходящего вниз с парапета атомного регулятора, на манер архангела Гавриила, слетающего к Пречистой Деве.
– Вот сейчас, будьте внимательны. Это черт знает что! Это вопиющее самодурство! Он чуть не угробил доверчивую особь – подростка! Надо же додуматься, в допотопном «квантокомбе» прикасаться к живому существу! Тоже мне, нашел маскарадный костюм – еще какая-то пара секунд, и энтропия достигла бы критического уровня! – Игнатий Христофорович прокомментировал происходящее чересчур горячо и для себя неуместно, но уж очень возмутило его поведение Агностика. – Я, конечно, все понимаю. Столь огромное несчастье, – сказал он уже куда тише, будто одумался и ощутил неловкость от своей гневной вспышки. – Однако нельзя же так! Ведь есть же общие договоренности! А если это приведет к дестабилизации?
– Да бросьте вы, Игнатий Христофорович! Какая там дестабилизация? Они на следующий день уже все позабыли. А еще через неделю событие обрастет легендами. О статусе Нафанаила никто даже не вспомнит, – Гортензий опять замахал обеими руками перед собой. Визуализация ощущений давала о себе знать.
– О нет! Поверьте мне, вы очень ошибаетесь. Вольер помнит все слишком хорошо и слишком долго. К нашему с вами несчастью. Поэтому никому и не рекомендуется выходить за принятые конвенциональные рамки. Особенно таким вот способом, – Игнатий Христофорович указал проникновенным жестом в сторону цилиндрического изображения.
– Так это же Агностик! Когда это он следовал общепринятым конвенциям? И вообще, его владение находится в таком информативном небрежении и, я бы сказал, в заброшенности, что только диву даешься! Не с чего в нем быть дестабилизации, – самоуверенно хохотнул Гортензий и схватился левой рукой за запястье правой, чтобы на сей раз не допустить беспорядочных взмахов.
До сей поры напряженно молчавшая Амалия вдруг вмешалась, и очень Игнатий Христофорович был ей за это благодарен:
– Господа, одумайтесь! Ну при чем здесь Вольер! Пропади он пропадом, я извинюсь… Ему же плохо! Нашему с вами близкому человеку плохо! Разве вы не понимаете? Вот в чем все дело, – Амалия запрокинула голову – тяжелые косы скользнули с козетки на светящийся пол – и сказала в потолок: – Викарий, голубчик! Выключи эту гадость!
«Лаборант» убрал изображение, белый свет погас. Но и того, что все трое увидели, было куда как достаточно. Игнатий Христофорович заговорил первым, будто бы упрекая, но вполне отеческим тоном. Как ему и полагалось по умудренному старшинству:
– Амалия, милая, пойми меня правильно. Я ни в коем случае не умаляю значения добровольной взаимопомощи. Но когда об этом просят! Понимаешь? Просят! Агностик же ничего подобного не хочет. Не хочет, чтобы ему помогали, и все тут. Он всегда был этически неуравновешенной личностью. Так вот… – Игнатий Христофорович сделал умышленную паузу, чтобы придать значимость следующим своим словам: – Имеем ли мы право вмешаться? Насколько мы имеем это право? И выйдет ли с того хоть какая польза? Если бы дело не шло о Вольере, я бы, собственно, нимало не расстроился. Паламид Оберштейн, которого все так лихо и заглазно называют Агностиком (кстати, попробовали бы сказать ему это в лицо), никогда не был мне симпатичен. Хоть я и сочувствую его бедам.
Игнатий Христофорович не довел до конца свою филиппику, которой уже и стыдился, как его перебил нетерпеливо Гортензий:
– А я вот решительно не понимаю, в чем тут беда? Неприятно, конечно. Но это же обычная вещь. До сих пор относительно редко встречающаяся. Нафанаилу там куда лучше. Даже и не лучше – Вольер единственное место, где он может полноценно жить.
– Дорогой мой, а я не понимаю, как вы не понимаете! – вмешалась со своей козетки Амалия. – Дело не в единственном месте, как вы выражаетесь. Нафанаил – все, что осталось у него после гибели Светланы. Других детей не было. И теперь уже не будет. Агностик – однолюб. Редко, но встречается – по вашим словам. Говорю вам, он словно бы свихнулся, когда его сын не прошел даже простейшего отборочного теста!
– Уж не преувеличиваете ли вы, прекрасная Амалия Павловна? – недоверчиво снизу вверх покосился на нее одновременно и носом и глазом Гортензий. – Были ведь случаи, когда из Вольера возвращались обратно. Не на моей памяти, но были!
– Не на сей раз. У Нафанаила все безнадежно, дальше некуда. Настолько, что бессмысленно было еще ждать положенные два года. В его обстоятельствах чем раньше свершится переход, тем лучше. И отец вряд ли впредь с ним увидится – Агностику совершенно невыносимо лицезреть своего единственного ребенка в Вольере. Тем более ребенка Светланы. Так можем ли мы осуждать его за некоторые нарушения конвенциональных соглашений?
В кабинете повисла напряженная тишина. Каждый из них таил за душой свой ответ, и каждый опасался высказать его первым. Не потому, что поймут неправильно. Такого просто не могло случиться. Но оттого, что мысли, облаченные в слова, имели опасность стать осязаемыми. Не в прямом значении обрасти плотью, однако их уже нельзя будет взять назад. И все последующие действия и решения попадут в зависимость от высказанного нынче вслух.
Первым осмелился нарушить молчание опять-таки Игнатий Христофорович, от него этого ждали, а он не привык обманывать надежды окружавших его людей.
– Я не хотел говорить. Точнее, не хотел напоминать тебе, Амалия. Вы же, Гортензий, понятия о том не имеете за ранней свежестью лет и слишком коротким сроком пребывания в наших местах. Так вот… Владение за № 28593875-бис не обычное рядовое. То есть поселок как поселок. За исключением одного обстоятельства. Именно в «Яблочный чиж» по решению общего голосования среднеевропейской полосы был заключен некий Ромен Драгутин. С полным лишением памяти личности.
Огнеокая Амалия охнула, неловко приподнялась на локте, мрачные ее косы змеями скользнули по обнаженной напружинившейся руке. Гортензий переводил недоуменный взгляд с одного из своих собеседников на другого, и ничегошеньки не понимал и не припоминал. Но и ему стало вдруг тревожно. Ну почему всякий раз, когда дело касается Вольера, от этой проклятой тревоги никак не избавиться? Почему нельзя воспринимать спокойно, вот как заведено у него…
– Не может быть! – выдохнула, наконец, Амалия, словно бы что-то мешало ей произнести это раньше, словно бы холодный и колючий ком запечатал молчаливым удушьем ее нежное горло, и вот теперь лишь звукам удалось пробиться наружу. – Не может быть! – повторила она немного нараспев, будто бы сомневаясь до сих пор, что в состоянии говорить.
– Может, милая, может! – Игнатий Христофорович как бы в раздумье потер рукой плохо выбритый острый подбородок. – Я ведь человек строгих фактов. Я перепроверил, прежде чем стал утверждать. Ромен Драгутин – владение № 28593875-бис. Иначе «Яблочный чиж». Это было еще при жизни матери Светланы. Она и предложила тогда добровольно, святая была женщина. Хотя и знала, что скоро уйдет в дальний поход и что дочь ее не откажется от обязательства. Но, вероятно, никто другой не захотел связываться с таким владением, и девушке пришлось поневоле. Они с матерью очень любили друг друга. И все равно, эта любовь ни одну из них не остановила.
– Как же так? – неподдельно изумилась Амалия. Она закусила прозрачными, как перламутр, зубами конец длинной косы, словно бы опасаясь, что может не сдержаться и перейти на крик. Отдышалась. – Неужели Агностик не знал? И отдал туда сына? Он же мог выбрать какое угодно другое чужое владение.
– Он отдал сына, чтобы тот был хоть немного ближе к нему. Призрачная, неестественная связь, но все-таки связь, – пояснил Игнатий Христофорович, глядя на Амалию в упор. – А что касается заключенного Ромена Драгутина, то очень даже может быть, что не знал. Имя-то ему сменили на иное! В одном Гортензий прав – владение Агностика находится в полном информативном запустении. Мало ли что там у него! Вернее, мало ли кто там живет? Если бы не сын, так он бы и не появился во вверенном его попечению поселке до конца дней своих, и «пропади он пропадом!», как ты выражаешься, моя милая. Паламид Оберштейн ненавидит Вольер. И всегда ненавидел. А теперь будет ненавидеть еще сильнее из-за Нафанаила. Будто бы Вольер нарочно отнял у него ребенка. Он и владение-то принял больше в память о Светлане! Все это мне понятно, хотя и неприятно чертовски. Поэтому я Паламида плохо переношу. Этическая неуравновешенность – еще полбеды. Настоящие беды – они впереди!
Неожиданно Гортензий сел на полу, по-турецки скрестив обе ноги, взгляд он имел обиженный и целеустремленный.
– Дамы и господа! – начал он звеняще и строго, но не удержался от привычной веселости, сострил: – То есть дама и господин! Не угодно ли кому-нибудь просветить меня насчет этого Ромена, иначе я скончаюсь на месте от сенсорного голодания. Что это за персонаж роковой такой? И как он умудрился «заслужить» в кавычках столь редкостную «привилегию» опять же в кавычках, как лишение памяти личности?
Амалия и Игнатий Христофорович украдкой переглянулись, но и только.
– Я настаиваю, – произнес Гортензий уже серьезно. Длинный нос его вздернулся прегордо вверх. – Я не мальчишка какой-то. И право, думаю, имею. Позвольте напомнить также, уважаемый Игнатий Христофорович, что я, как и вы, состою во владении поселком. Не самый он, может, и проблемный, и без заключенных лишенцев. Но мой «Барвинок» заслуженно считается в общем рейтинге образцовым. А за вами, милейшая Амалия Павловна, и вовсе никакого владения не числится.
Жесткий, сухой кулак Игнатия Христофоровича с силой опустился на локтевую магнитную подушку, кресло при этом издало жалобный электрический треск.
– Довольно! – прикрикнул он на Гортензия. – Вы и есть мальчишка! Со своим «Барвинком» возитесь на досуге потому, что у вас счастливое детство еще не отыграло. А здесь и сейчас речь идет о страшных непростых вещах! Слава богу, что досуг у вас весьма редко случается, иначе нагородили бы вы огородов! Давно хотел вам сказать, кстати, – уже куда спокойней продолжил свою речь Игнатий Христофорович, – прекратите вы ваше благоблудие. Насильно никого в рай не тянут. А если бы было так, то, простите за банальность, и самого Вольера бы не было.
– Все же могу ли я узнать? – нахмурившись от выволочки, опять повторил свой вопрос Гортензий, указательный его палец с лиловым ногтем многозначительно нацелился на Игнатия Христофоровича. – Я не настаиваю на подробностях. Хотя бы в общих чертах. Вы ждете от меня участия в принятии решения, но я не могу этого сделать, пока не получу удовлетворительных разъяснений.
Амалия, теперь спокойная как речная заводь в светлый безветренный день, села на козетке, подобрала ночные свои косы и плавно начала, обращаясь сперва к Игнатию Христофоровичу:
– Конечно, требование Гортензия по-своему справедливо, – и потом уже, повернувшись в сторону молодого человека: – Лучше я вам расскажу, чем Игнаша. Его эта история выводит из себя. Хотя рассказывать-то особенно нечего.
И вправду. Что она могла рассказать ему? Такого, что передало бы кромешные дрожь и ужас тех немногих дней, когда шло обсуждение и голосование, и последовавшее за тем осуждение. Хотя нет. Дрожь и ужас случились раньше. Когда узнали и особенно когда поняли, что именно они узнали. Для сегодняшних молодых здесь, может, и нет ничего чересчур выдающегося, никакого подвига, который потребовалось от каждого совершить. От каждого, кто тогда имел причастность к этому неописуемому и вроде бы приватному делу. И не в момент вынесения приговора. Подвиг был в том, чтобы посметь поверить. Чтобы взглянуть всей правде в глаза, не отмахнуться и не спрятаться за убийственным снисходительным всепрощением.
Игнаша был там и Карлуша тоже. И мать Светланы, покойная или ушедшая неизвестно в какие пространства, – всегда она, Амалия, смотрела на эту женщину с восхищением. Невзирая на то, что близко приятельствовала с ее дочерью. Но уж Юлия Сергеевна Аграновская, даже при столь пристальном дружественном, почти каждодневном рассмотрении ничуть не утрачивала своей величественности. Она тогда же заставила ее и дочь свою Светлану принять участие в голосовании по делу Ромена Драгутина. Видит бог, как ей, Амалии, этого не хотелось! Но Юлия сказала, они много потеряют для самих себя, и обе девушки поверили ей, и когда просмотрели внимательно с ее подсказки все доступные немногочисленные документы того дела, то осознали. Старшая Аграновская была честна с ними, и ни Амалия, ни Светлана об этом не пожалели впоследствии. Будто прошли некую проверку на здравый смысл и жизненную прочность.
А само дело, что ж… Он обитал совсем неподалеку. В одиноком большом старом доме посреди полей, скорее, поместье – называлось оно «Кулеврина», – был плохо уживчив, у него, кажется, имелась родня в Варшаве. Он почти ни с кем не общался, и к слову сказать, редко кто настаивал на общении с ним. Этот Ромен Драгутин обладал нелюдимым нравом и не самым лучшим воспитанием. Но никогда и речи не шло, что он не годится для Нового Мира и ему, дескать, лучше выйдет перейти на поселение в Вольер. К последнему он вовсе не имел ни малейшего отношения. Владения за ним ни единого не числилось, да он и не напрашивался, хотя и проживал рядом – кажется, «Веселые цикады» называлось. А может, она и путает. Зато интеллект у него был – будь здоров! Проектировщики моделей «сервов», тогда еще полимерных слуг человеческих, даже с дальних космических станций прибывали по Коридору поглядеть. И все они, между прочим, выдающиеся инженеры. Говорят, встречал он их сухо и неприветливо. Уже одно это должно было насторожить. Но не насторожило. А потом случилось то самое.
Однажды Ромен Драгутин пришел в город. Соседний вольный полис Большое Ковно, хотя в те времена не так уж был он и велик. А сказать точнее, не велик совсем. Это теперь разросся, как на дрожжах, когда однажды патеографики, по большей части молодые ребята, первыми выбрали его для своих выставочных залов и студийных помещений. Этакая художественная община получилась, бывать в ней одно удовольствие. Несмотря на то, что порой явственно чувствуешь – им там не до тебя, но ничего, все равно интересно.
Но о Драгутине. Короче говоря, прибыл он в Большое Ковно. Если Амалия все верно помнит, было это зимой. Говорят, тогдашние обитатели еще решили – снегоуборочные «сервы» испытывает. И немало удивились, зачем? Кому он мешает, снег-то? Ведь не Темное Время, когда на природу и ее явления смотрели как на злобную ведьму в окружении чертенят, кою надо заклинать при помощи небо коптящей, неуклюжей техники. Но никто не возразил и слова не сказал против. Надо человеку, значит надо. Вдруг какой в этом гениальный смысл, а они помешают. Даже занятно стало. Что происходит и особенно – что дальше будет.
А дальше было вот что. «Сервы» не столько снег принялись разгребать, но и плавить жилые дома один за другим. Целая свора их пришла с Драгутиным, да нет, пожалуй, целая армия. И так квартал за кварталом. Пока очухались и сообразили, что к чему, – полгорода как диссипативным протуберанцем слизнуло. Двое погибли, из тех, кто не успел из домов выскочить. Один когерентный филолог, дар божий, замечтался. И еще молоденький оптик по перемещениям не смог вовремя выйти из психокинетического погружения.
Потом на оплавленных руинах Ромен Драгутин объявил, что ныне он единовластный повелитель здешних земель, и кто не захочет ему подчиниться, тому будет плохо. Тому его «сервы» покажут, где кузькина мать. И потребовал статую себе в полный рост и еще, чтобы при взаимных приветствиях все кричали «Хайль!» и непременно добавляли его имя. Где Ромен Драгутин этой ерунды набрался, неизвестно. Но так было. И чем закончилось бы, трудно сказать. Если бы…
Собственно, Карлуша первый спохватился. Он в то время совсем молодой парнишка был. Но единственный, кто не растерялся, пока мудрые старцы в панике мазали скипидаром пятки. Пусть Гортензий так и запомнит. Карлуша, он же Карл Розен, их теперешний сосед, милый и неряшливый Карлуша, а сообразительней всех оказался. Большое счастье Большого Ковно, что он тогда в нем жил. И уже тогда наноимпульсными пушками интересовался для медицинских целей, конечно. В общем, навел он свою лучшую пушечку. Как раз на тех «сервов», что ближе всех к Драгутину держались, вроде охраны или личной гвардии. Надеюсь, не надо объяснять, что именно произойдет с полимерными системами при направленном ударе наноимпульсом? Ах, не вполне уверен? Ну, Гортензию при его любознательности не составит большого труда узнать самому. А после Карлуша поступил предельно просто. Взял и стукнул новоявленного владыку обычным стволовым домкратом по дурной башке. То есть, выражаясь интеллигентно, по теменной части черепа. Сам в руки взял и сам же стукнул. Примитивно, но действенно. Как оказалось. Потом запер в оздоровительной гостинице для неадекватных. Никто, разумеется, Ромена Драгутина лечить не собирался. Назначили общее голосование по среднеевропейской полосе. И, несмотря на благодушие отдельных личностей, которые не видали своими глазами, что сотворил с Большим Ковно самозваный владыка, приговорили. К чему, Гортензий и так уже в курсе.
– Я вроде как краем уха слышал об этом. И правду говоря, прекрасная вы моя, Амалия Павловна, ни на грош не поверил. Определенно городские легенды. Что возникают фантомно в разных местах в разное время. Сами понимаете, придавать значение или принимать на светлом честном слове мне и в голову не пришло, – Гортензий задумчиво смял жесткокрылые уголки губ, похрустел озабоченно сплетенными пальцами. – Но в чем нынешняя-то опасность? Дела давно минувших дней, не так ли?
Вместо Амалии, несколько утомленной воспоминаниями и вновь возникшими переживаниями, ему ответил Игнатий Христофорович. Он не мешал рассказу и теперь не пытался его никак комментировать, а просто грустный пожилой человек излагал суть своих тревог:
– Голубчик мой, Гортензий. Вы не хуже моего знаете, что лишение памяти личности – это процедура, не связанная с глубоким гипнозом, как при переходе в Вольер. Это совсем не то же самое, что проделали, скажем, с малышом Нафанаилом. Это полное стирание при помощи инъекции псевдопротеина, меняющего структуру вплоть до генетического кода. И производили это стирание на моей памяти лишь дважды. Причем второе применение было целиком экспериментально-добровольным. Никто не знает до конца, насколько это эффективно и к чему в случае чего приведет. Если, не дай-то бог, произойдет внешняя дестабилизация. Но именно это проделал по небрежности наш безответственный сосед. За поселком «Яблочный чиж» нужно установить более пристальное наблюдение, я думаю. Хочет того Агностик или нет. Ему, скорее всего, будет безразлично.
– Что же, это решение. Пока наблюдать, не делая поспешных выводов. А там посмотрим, – поддержала его Амалия.
– Ну, если решение в отсрочке самого решения, то я «за»! – опять пришел в нарядное настроение Гортензий. Он вообще не умел подолгу пребывать в печали. Хотя рассказ Амалии произвел на него впечатление. – А как нынче зовут этого Ромена Драгутина? Излишнее любопытство, но может дать пищу к размышлениям. Как человек с полной утратой памяти личности станет позиционировать себя? Учитывая, что он натворил в прошлой жизни.
– Не помню, дорогуша, – словно бы нехотя отозвалась Амалия. Ей вправду не хотелось припоминать, да и давно это было.
– Если я дорогуша, то неугодно ли вам провести нынешнюю ночь со мной, опьяненным вашей черно-златой красой? – игриво всплеснул руками Гортензий, все еще не овладевший до конца контролем над сопроводительной жестикуляцией.
– Вы, молодой человек, нахал! – Амалия будто бы возмущенно запустила в сидящего на полу «молодого человека» и «нахала» туфлей. Но не больно.
Значит, есть шанс. Подумал про себя Гортензий, – иначе ответ был бы вежливо-категорический. Надо написать для нее стихи. Жаль только, что у него не выходят хвалебные оды и любовные сонеты, одно какое-то безобразие вроде скабрезных шаржей. Ну да ничего. Ради Амалии он на что угодно способен.
– Отправлюсь-ка я восвояси, раз уж в моем присутствии нет более нужды. А вы, прекрасная Амалия Павловна, имейте в виду, ближайшие два дня я проведу дома. Это на всякий случай, если передумаете, – Гортензий протянул ей туфлю. – Что же, до встречи и честь имею. Надеюсь, все будет хорошо.
Он уже направился к выходу, когда его остановил негромкий окрик Игнатия Христофоровича:
– Фавн! Он назвался Фавн! – и на худом, небритом лице его отобразилось некоторое удовольствие от превосходного владения собственной памятью даже на незначительные обстоятельства и факты.
Гортензий кивнул, а что еще оставалось. Действительно, чем это могло помочь? Ну, допустим, Фавн, ну и что. Зря они беспокоятся. Стирание, скорее всего, вышло полным.
Он не успел ступить за пороговый, непрозрачный от темноты барьер, как вдруг на левой стене проявилось и замерцало густо-бирюзовое окошко экстренной связи. А еще спустя какой-то миг в том же окошке возникло перепуганное веснушчатое лицо, обрамленное ярко-рыжими вихрами. Выражение на этом лице уже само по себе сообщало о каком-то приключившемся внезапном несчастье. И принадлежало оно, в смысле лицо, да и выражение тоже, Карлу Розену, Карлуше. Человеку, которого вообще мало что на этом свете могло напугать.