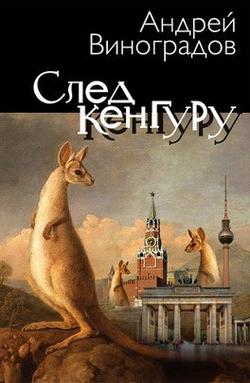Читать книгу След Кенгуру - Андрей Виноградов - Страница 37
Часть первая
Хандра, наваждения и всякое разное
Неужто опоздал?
Оглавление«Неужто опоздал?» – задается Антон Германович вопросом, что давно на очереди, но забитый какой-то – не позвали бы, так бы и затерялся среди других, опасаясь высунуться. Людей с такими качествами руководители любят, да и вопросы «нешумные» собственно тоже мало кого раздражают, поскольку ненавязчивые, и жить не мешают. Гораздо хуже другие, что не никак хотят совпадать с подготовленными ответами. Эти как грипп с осложнениями.
«Ну точно, Манежная уже перекрыта. Наколдовал себе новых трудностей жизни. Нечего было выпендриваться, пердун старый», – ругнул себя Антон Германович.
Это он о предложении «новенького зятька», свежеиспеченного мужа старшей дочери, подобрать где-нибудь тестюшку на машине, домой подбросить. Вроде как не трудно ему, даже вроде как в удовольствие. «Нет же: «Сам доберусь! А понадобится – служебную вызову». И спасибо не выговорил, пожадничал слово. Гордый! Сам с усам. Водителя своего сам же отпустил на день. Где-то там, на Манежной, толкается, активист, а сказал – к матери в Клин срочно надо, дров там нарубить, деньжат подбросить и вообще. навестить. Чего, спрашивается, врал? Ладно, активист он. Знает, что не люблю, вот и таится, балбес. А то, что врать начальству – верный путь вылететь к чертовой матушке на огород картошку окучивать – этого он не боится! Ну получит у меня завтра «на орехи». Врать вздумал. Откуда вообще знает: что мне нравится, а что нет? Слышит много? Длинноухие нам не нужны, менять надо водителя. И чего я вообще сюда потащился? Вот и водителя, считай, выгнал, как будто не знал, что мать его год как перебралась из Клина в Солнечногорск, к дочери. Права была Машка: сиди у телевизора в теплых тапках и смотри. Все и так покажут. По нескольку раз на каждом канале! Еще устанешь повторы смотреть. Подышать дураку вздумалось. Хорошая шутка – в Москве подышать. Атмосферу почувствовать захотелось? Чувствуй теперь. Как же. Прогуляюсь-ка я по Красной площади, а заодно гляну, что там на Манежной! Чего-то нам еще не известно, чего-то нам еще любопытно!» Тот Антон Германович, что про себя произносил эти слова, был ироничен, надменен и вообще – хоть куда. Тот другой, что все это безмолвно слушал. Неприятно ему было все это слушать.
«Хотел воздуха – вот и дыши теперь!» – командует себе зло.
И впрямь пару раз глубоко вдохнул. Осадил: «Вот же в самом деле болван!»
Опоздал.
Подходы к Манежной запружены, где-то там, за спинами – ограждение. Конечно, не препятствие для Антона Германовича с его «корочками» – «вездеходами», но проталкиваться, объясняться. «Да и стоит ли оно того? В самом деле, пройдусьл еще разок по кругу, раз уж притащился, а потом – через Васильевский на набережную, а там, даст бог, где-нибудь и такси словлю. Или битой по башке старой и бестолковой».
Легкий толчок под руку, случайный, «Простите!». Стайка молодых в натянутых поверх одежды майках – или жилетках? – с надписью «НАШИ». Не оглядываются на Антона Германовича, может быть, это вообще не ему.
«Не очень-то пунктуальны. Молекулы мирной гражданской войны, пока мирной… Или все же бациллы? – отвлекается он на новые предметы, это куда интереснее, чем себя, любимого, клеймить почем зря. – А может быть про войну я вообще загнул лишнего? Черт их разберет! Разные, наверное, встречаются в этой организации. «Наши». – и «хотелкины» и «могловы».» Так выразился один знакомый Антона Германовича, ему тогда не понравилось, поморщился, немало смутив собеседника. Теперь вот вспомнилось – и ни следа раздражения. Он еще раз повторил про себя: ««хотелкины», «могловы». А ведь ничего, недурно! «Хотелкиных» все равно больше, как и везде, как обычно. Этим все одно, где размножаться – что на воле, что в неволе».
Если по совести, то Антону Германовичу и движение «Наши» не по душе, и молодогвардейцы-единороссы, и прочие всходы ударной кремлевской посевной, продукты политического земледелия. Не каждый в отдельности, а все разом, в массе. Однако больше всего неспешно вышагивающего по Красной площади видного мужчину с офицерской или актерской выправкой, если в репертуаре наличествует военная тема, о котором при скудном освещении, обычном для этого позднего часа, можно сказать «моложавый», злят-бесят «небожители», что плодят все эти движения, объединения, швыряют им деньги, покупая сиюминутную лояльность юнцов. Те, пыжась от оказанного доверия, с готовностью откликаются на потребности старших товарищей, а заодно и подсматривают у них завидную жизнь, по наивности веря, что еще чуть-чуть, и такой же станет их собственная.
«Слишком много вас, а корытце с каждым днем мельчает и мельчает. Сколько голодных-то набежало! Что будет, когда своим умом допрете до этого, или подскажет кто вовремя, где чужих, не наших искать, что во всем виноваты? Вовремя. Для кого вовремя? И о ком ты все это, старик? Неужто о тех, кому все последние годы с отвращением преданно служишь? Эк развоевался. Гуса-ар! Нечего сказать.»
Антон Германович лезет в карман пальто за сигаретами, но они, как водится именно в таких случаях, преспокойненько поживают в другом.
«А зажигалка, черт ее подери, куда запропастилась?»
– Огоньку, отец?
Еще троица «наших».
– Хорошо бы, сынок. Век буду признателен.
«Вот и «сынок», сэкономленный на азиате, сгодился.
– С праздником тебя, отец!
Мог бы под дурака «закосить», поинтересоваться: «С каким-таким праздником?», но и без того противно. «Тебя.»
– Спасибо. Шустрее давайте, и так уже опоздали.
– Мы теперь все успеем.
«Своего-то понимания жизни – две чаинки на тазик, окрасить водицу и то не хватит, зато гонору хоть отбавляй!» – распаляется он, глядя в удаляющуюся спину «благодетеля» со товарищи.
Умом понимает, старый лис, что не в «наших» причина его нервозности и забившего гейзером обличительного запала. И даже не в их патронах и патронессах, распоряжающихся страной как удачным прикупом за ломберным столиком. В своей собственной тихой, унылой покорности. В том, что отдался целиком стабильно постылому ходу жизни. Жизни, в которой завсегда будет дураков без счета, что живота не щадя непременно порадеют начальству удобно собою повелевать, потому что неприкаянными они совсем уж беспомощны и никчемны. А так, глядишь, «отстегнут» им за заслуги должностенку какую на бедность и, глядишь, не дурак уже, сам начальник.
«Спасибо. Шустрее давайте. – юродствует Антон Германович мысленно над собой, так затягиваясь, что язык жжет. – Чего же поскромничали-то, Антон Германович, ради такой победы вполне можно было и в губы, взасос. Вот это праздник!»
От последней пришедшей в голову шальной идеи он аккуратно, внешне не вызывающе сплевывает. Впрочем, поводом могла стать и крупица табака, чудным образом пробившаяся сквозь все круги фильтра. Табак ох как не прост, с чертом дружит. Случается, одну табакерку на двоих делят. Не думаю, чтобы это Гоголь для кузнеца Вакулы черта в табакерке придумал, так сказать для компактного размещения лукавого. Есть поверье намного старше, что от табака черти силу теряют. И куда, интересно, она девается?
«Все равно какие-то они оголтелые.» – никак не получается у Антона Германовича справиться с собой, избавиться от не желающих отступать мыслей. Это «все равно.» – жалкая, не засчитанная попытка оправдать навязчивость мотива. Жалкая и неудачная. Так шлягеры проникают в мозг и селятся в нем, словно паразиты. Правда, шлягеры оккупирую жизнь не больше, чем на неделю-другую, потом дохнут.
«Родила царица в ночь. – непонятно к чему приходит ему на ум. – Еще одно поколение, пожертвованное. Не идее даже, лучше бы идее! Просто денежке. На говно разменяли. Вот и стала жизнь наша гуще, а народец пожиже. И причем тут царица? Искал бы сейчас зятеву тарантайку – лучше было бы? Кто его здесь парковаться пустит?! Бегай потом.»