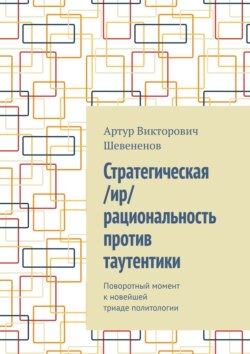Читать книгу Стратегическая /ир/рациональность против таутентики. Поворотный момент к новейшей триаде политологии - Артур Викторович Шевененов - Страница 4
The Strategic /ir/Rationality Cusp versus Tauthenticity: Zeroing in on a Novel PolSci Triality (By Arthur Shevenyonov, KLA)
Деконструируем мифотворчество: град – и мир
Efficientiae Opus (тщание к эффективности)
ОглавлениеЗдесь, видимо, нелишне было бы оговорить применение некоторых, довольно расхожих и удобосмешиваемых терминов, заодно наведя мосты (в значении несколько ином и куда более полном, нежели подразумевается тезоименитым величанием власть предержащих пунктом ниже). Этак, не исключено, именно на полноте сродного обретаема простота – или же красота концептуализации наряду с ясностью всего обсуждаемого.
Итак, упоминалась выше эффективность, которая и впрямь стала во главу угла, видимо в духе протестантской этики, в американскую Прогрессивную эру столетней давности. Эффективность как эквивалент добродетели (наряду с инвестиционной удалью как мерилом аскезы), во многом чуждой не только отдельным общностям (известным «цветным» меньшинствам) внутри страны, но и всяким альтернативным путям-моделям вовне (с их трудовыми подвигами вне офиса). Все это – купно с практиками, не сопряженными с максимизацией эффективности, включая и потребление алкоголя, – объявлялось вне закона либо всячески дискриминировалось, подавлялось, изживалось. В раннюю пору разгула сей мамонопоклонной добродетели под раздачу попал и приснопамятный Эдгар По – возможно, не только за излишне творческий род занятий, едва ли сопряженный с добропорядочной контролируемостью, как не столько и за пристрастие к Бахусу, но где-то за предполагаемую связь того и другого. Тем самым, конец личности был предрешен, дескать, не печальным фактом вытеснения всего выдающего средненькими критериями рыночного фильтра (что обычно приписывается плановой «уравниловке»), словно опасного и не вполне постижимого девианта, но якобы несочетаемостью образа жизни с всепромыслительной «невидимой рукой».
Которая была провозглашена Смитом, уточнена же с оговорками в пользу «слабой» версии (сравнительных, взамен абсолютных, преимуществ) тщаниями Рикардо. Неважно, что за этой последней инициативой стояли вполне своекорыстные лоббистские соображения; впоследствии, как и задним числом, средь прочего и сии мотивы, и печально памятные Опиумные войны (с элементами выколачивания из потенциального торгового партнера податливости канонерками), – все будет изящно обосновано теоретически (за кои выкладки и Нобелевские специально учрежденные премии воспоследуют).
Чем же обосновано, как не пользой «свободной» торговли (шире: «открытого», или уязвимого для хищных игроков да искаженных разменов, общества)? Но теория пошла далее, в сущности вернувшись к истокам поиска эффективности. Причем чаще всего под последней подразумевается в западной литературе именно затратная эффективность (cost efficiency): отчего-то долгое время считалось, что игроки рациональны, а потому непременно станут выжимать все до копейки из каждого проекта в смысле затратных статей, – не столько закупочные цены сбивая (что не всегда возможно, разве влиятельным покупателям-олигопсонистам, остальным же чаще приходится мириться с входными как ограничениями либо извне задаваемыми параметрами), сколько оптимизируя перестановками да комбинациями с учетом данных и зАданных. Обычно, вне производственной фазы, это происходит посредством обменов, что далее микро-уровня вполне связуется с теорией торговли. Итак, торговлю можно представить не чем иным, как эфиром или механизмом действия «невидимой руки» рынка, а именно – оптимального распределения, Парето-оптимизации как выжимания последних («граничных») резервов условно-бесплатного улучшения, т.е. всего, предваряющего упрямый размен.
Здесь непосвященному самое время заплутать; но немного терпения, – и все предстанет в полной простоте! По большому счету, все вышеприведенное (и многое еще нижеследующее) кажет на разные имена и представления одного и того же. Так, торговля естественно обобщается до теории игр, имеющих и военные, и общественно-психологические приложения (вскоре будем применять понятие «смешанной стратегии» родом из этой же языковой области). Мало того, по «гамбургскому» сквозному счету, обобщается торг (как и, шире, расторг или размен) до максимизации эффективности либо ограниченной оптимизации; но это последнее имеет и вероятностные обобщения, так что соотношение риска и ожидаемой отдачи оговаривает и «граничные» выгоды (поведенчески либо утилитарно – полезность). Причем на это указывает как, скажем, модель CAPM (capital asset pricing model, модель оценивания инвестактивов), так и игровые выплаты при соответствующих примененных стратегиях (предположительно близких к оптимальным в случае осуществления рациональными игроками при полной информации, несущей паче стресса от сложности). Причем первая развеивает миф о том, что всякий-де риск оплачивается: сверх «разумно» просчитанного (в т.ч. минимизируемого либо диверсифицируемого) не стоит ожидать выигрыша выше нормального или даже безрискового. Иными словами, за безрассудство медали мамонья легиона не выдадут. Впрочем, на сей счет иного мнения может придерживаться Талеб, считающий себя православным христианином, и на основании своих моделей воспевающий неравенство как оборотную сторону сверхшансов для избранных, пусть сопряженных с вящими рисками, потерями и прозябанием для большинства.
Надо сказать, данная книга придерживается третьей, взмывающей над остальными линией рассуждения: возможности можно и нужно улучшать, создавать, контролировать, – а не просто принимать как данность либо оспаривать соревновательно, на уровне ли «сравнительных конкурентных преимуществ» (в ветхом, докризисном неоклассицизме) или же «квадранта чернолебедности» (в логике посткризисной талебовости).
Дело в том, что мною предложенное обобщение 27-летней давности восходит ко времени начала 90х, когда «азиатские тигры», или «юго-восточные драконы» только начали отыгрываться, делая ставку на то, что позже тихо прогремит как «стратегический протекционизм» с участием государства в роли долгосрочного инвестора и социального плановика не без благонамеренной диктатуры (social planner & benevolent dictator). А чего стесняться плановости либо коллективизма, вдобавок к последним освящаемым в тамошней же академической мейнстрим-литературе понятиям (не считая теорем невозможности вполне демократического выбора), когда с момента крушения осмеянной Страны Запад успел перенять все это на всех уровнях: team work/building, budgeting, SWOT, MVV и пр. – корпоративном и «странновом» (видимо, приходится мириться с давно искажаемым логосом русского языка, испещренного несвойственными ему структурами и парадигмами – одна из печальных «экстерналий» глобализма, или «открытого» общества). Присовокупите сюда же все эти «blue ocean strategies» (подход для компаний, не желающих мириться с насыщенностью рынка и избыточной конкурентностью), в части рожденной кризисом литературы, и выйдет, что ваш покорный вовсе не повторял, но скорее предвосхищал то, что неминуемо вызрело бы как переосмысления давно себя изжившего.
Среди прочего, имел неосторожность подойти во время одной из конференций к Энн Крюгер с вопросом о том, каково ее отношение к докладу от 1996 о стратегическом протекционизме. Ее реакция была ожидаема: критикуем как можем! Оно и понятно: речь ведь о том, что Юговосток уже тогда начинал выбиваться из-под контроля ревнивого хозяина, не привыкшего мириться с альтернативными путями. Но знай она, чтО подразумевала моя парадигма, то ядерный взрыв нравственного негодования оказался бы баллом-другим выше по шкале амплитуд. Ведь не подкопаешься на предмет закрытости конвенциональной, ибо не имел в виду ни тарифных и нетарифных барьеров, ни субсидий отдельным уязвимым секторам – просто и полно, ни больше ни меньше, создание и улучшение возможностей (creating & augmenting the opportunities).
Среди прочего, рациональные игроки (буде таковые имеются в природе, ибо эффективность в смысле ресурсной экономии можно отмести на корню ввиду варварского расходования ископаемых, что сопровождалось и уничтожением большей части биосферы за последние десятилетия), – так вот, как ожидается, если рискуют, то не вместо информационной обработки, но после. Иными словами, Бейес-апдейты как вероятностей, так и распределений в более широком смысле, должны служить, если и не эквивалентом CAPM-конвенции и Парето-улучшения (Pareto-improvement, optimization, slack picking), то всяко неким вспоможением и коррелятом арбитража. Опять же, рациональные инвесторы не рискуют без меры и повода, если только не игроманы, адреналин-зависимые и пр. (Здесь рискуем вступить в серую зону психиатрии сверх психологии наивно-невооруженной, теоретико-игровой). Но и «дармовые» люфты возможностей апроприируются лишь в меру сравнительной бесплатности, когда «трансакционные издержки» не перевешивают их. Последние в расширительном смысле возможно толковать и как «цену изменения/утверждения контракта», и как мета-цену изменения условий игры, в т.ч. обеспечения «институционального сдвига». (Западные визави, говоря о «порядке на основании правил», могли бы указать на институциональное наполнение правил, если только не рискуют под «сдвигом либо разливом», upheaval or spillover, обнаружить революционно-переворотную подоплеку, тем выдав корни и истоки сердобольности вразрез с мотивами, что в их же литературе хорошо изучено как incentive/s/-/in/compatibility, moral hazard, agency cost/gap.)
Но тогда остается сделать последний шажок, замкнув цепь (или – куда ни шло – гештальт): здесь сплошь ведь и сквозит тема улучшения возможностей, изменения природы игры. Причем – помимо создания или возобновления ресурсов. Возвращаясь же к историко-критическому (оказывающемуся апологетическим) экскурсу, большевикам можно приписать не только институциональный сдвиг ценой конфронтации с цивилизационно-экзистенциальными конкурентами, как не единственно и упор на продуктивность в основании мобилизации якобы в ущерб эффективности. Последняя инсинуация без труда отвергается самим фактом вознаграждения Нобелевской премией трудов советского ученого и практика Канторовича именно в области методов оптимизации, доселе применяемых на Западе в самых различных областях знания. Не в последнюю очередь, преследовали Советы именно мета-цель создания и улучшения возможности, откуда и поиск суверенитета действенного в чине протекционного иммунитета к внешнему препятствованию развитию.
Игра и впрямь поменялась и еще поменяется. Пусть – ценой сверхусилий, качественного риска, «затрат» людского капитала (умственных, или «делиберационных», трудов, словно в коннотации избавления от эксцессов и мифов либерализма-как-необязательности вне свободы-как-мышления), – вернее, реализации, а не гробли и худого распределения последнего: что в результате вынужденно-освободительных войн (за самоопределение и самобытность, возможность просто пребыть собою вполне), что прозябания лучших под гнетом тираничной рыночной серости, лишающей Страну даже минимального портфеля секторов. Восстановление и расширение последнего (как изначально и имелось мною в виду, среди прочего), – чем не обобщение, истинное целеполагание диверсификации, мета-рациональности социального плановщика, общества – вдолгую?
Неявно постулируемая новая портфельная теория (которая, если вдуматься, не только предшествует талебовости, но и обобщает, и эндогенизирует таковую, снова являя простоту о полноте) простирается далее торговли и производства, превозмогая и размен как их обобщение, или модус неразличения. (Логика либерализма и прежде подсказывала: «все равно», взаимодействовать ли с собственной экономикой или с внешними поставщиками). А общество как рациональный инвестор, свободное от лукавых и своекорыстных агентов, уж сделает выбор в пользу того или иного отраслевого портфеля, механизмов-каналов реализации. Минуя и сиюминутно-модные, извне навязанные темы «обнуления», непрестанного развития ради развития (ресурсности без/относительно/ плода).
Все же, заключая вставку в манере, не предполагающей пафоса, что иным может показаться недолжно-излишним, а вместе восполняя едва ли не последнее недостающее звено целого, помянем еще такое понятие, как Х-/не/эффективность, также в ходу в англоязычной литературе уж с четверть века. Речь, общо, идет о сравнении имеющихся производственных мощностей, или кривой разменов, с неким отдаленным (либо не весьма) временем и положением вещей, когда таковая была худшей, компрессированной. К примеру, суждения вроде «при тоталитаризме не было интернета и гаджетов» может являть благородный позыв к воспеванию прогресса и прогрессивного, но чаще выдает лукавое неведение понарошку