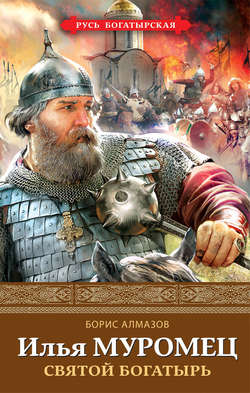Читать книгу Илья Муромец. Святой богатырь - Борис Алмазов - Страница 6
Часть первая
Страна язычников
Глава 5
Язычник Святослав
ОглавлениеДвое монахов прекрасно помнили юного Святослава, который от малых лет так отдалился от матери, что ходили слухи, будто он не сын Игоря, а неизвестно кого. Помнится, киевский раввин, которого охраняли дружинники, провожая его через Дикое поле к хазарским постам на Дону, клялся и божился, что весь мир считает Святослава сыном Свенельда или какого-нибудь еще варяга, потому что при его рождении Игорю было шестьдесят шесть лет.
Смутились тогда дружинники, но старший из них сказал:
– А Ольге сколько было?
– Сорок шесть! – отвечал раввин.
– А сколько было Аврааму, когда он родил сыновей? А Рахили?
– Ну, ты хватил! – засмеялся раввин. – Это были праотцы народа израильского!
– Чудно! – сказал десятник. – Пророкам своим ты веруешь, что они и в девяносто лет детей имели, а князьям нашим – нет… Чудно.
И примолк раввин, понимая, что попал не к варягам, а к дружинникам-христианам, служившим Ольге, и жизнь его висит на ниточке… А ниточка эта – посольская неприкосновенность да славянские заложники, взятые в Тьмутаракани ради его безопасного проезда. Если его убьют, то в Хазарии будут немедленно казнены и проданы в рабство десятки христиан.
Монахи припоминали, что тогда они тоже удивлялись странному отчуждению между Ольгой и Святославом. С каждым годом она становилась все набожнее, а он – все воинственнее. Ольга принимала в Киеве всех христиан, особое же предпочтение отдавала грекам и болгарам, которые не только сами переселялись в ее державу, но везли возами иконы и книги! На новой отчине своей ревностно принимались проповедовать слово Христово, учить грамоте и, особым попечением княгини, возвели небольшую – первую в Киеве – церковь Святого Ильи Пророка. Но чем больше усиливались в Киеве христиане, тем злее ненавидел их Святослав. На дух не переносил! Его дружина хотя и пополнялась христианами – славянами и варягами, а все же была языческой. Когда она возвращалась из походов в Киев, это бывало подобно нашествию иноплеменных! Никто не чувствовал себя в безопасности. Дружинники непрерывно пировали и к жителям мирным, и к дружинникам славянским-христианским относились враждебно, будто к побежденным. Потому и Вышгород, и Киев вздыхали свободно, когда дружина уходила воевать. Слава богу, воевала она постоянно, и постоянно вдали от Киева.
Семнадцати лет Святослав стал сам водить дружину, а Свенельд был у него воеводою. Но Свенельд был шеей, а князь головой: куда шея поворачивала, туда голова и смотрела. А Свенельд был настроен против Ольги и против Киева с его Вышгородом.
Медленно, но неуклонно менялась и Ольга. Все меньше оставалось в ней, даже внешне, черт варяжской воительницы – регины русов, все больше становилась она схожей с иконой Заступницы Богородицы. Постоянно были вокруг нее дети – сначала племянники вроде Улеба, а потом внуки – дети Святослава, среди которых старший был любимцем – Ярополк. Говорили, что, страшась гнева Святославова, Ольга тайно крестила Ярополка. Его готовила она во князья, его учили греческие и болгарские попы, и рос он непохожим на братьев своих: пригожим да веселым, добрым да покладистым. Потому и задирал его постоянно Олег, и дрался с Ярополком. Но это была борьба равных. Как волчонок следил за их драками Владимир-бастард – сын ключницы Малуши, чуть не насильно взятой Святославом. Следил и не смел вмешиваться, памятуя, что они законные сыновья, а он нет! Но Святослав почитал его сыном, хотя на сыновей внимания обращал мало, весь занятый войной.
Двое телохранителей Ольги прекрасно помнили этого князя – варяга истинного. Одевался он просто – от дружинника не отличить. Только оружие у него было дорогое. Дорогое, да не украшенное, как у византийцев или у хазар. Вороненая сталь топора на длинной рукояти, меч длинный у пояса, меч короткий у голени да кольчуга крепкая. Не любил он и шапку княжескую, и дорогое корзно. Самой драгоценной вещью его была серьга с двумя жемчужинами в ухе. Не признавал он ни учения книжного, ни бесед нравоучительных. Не любил пиров долгих и гульбищ веселых. Варягам, своим дружинникам, гулеванить не препятствовал, а сам – сторонился. Пьян бывал, но и этого веселия не любил. Не любил с боярами советоваться, с лучшими людьми киевскими думу думали. И киевлян не любил! Немо и неподвижно стояли дружинники нарочитые в покоях княгини, когда выговаривала она сыну, а тот, как всегда криво ухмыльнувшись, слушал ее…
– Святослав! – говорила Хельги. – Не по правде ты живешь! Не по истине!
– Это по чьей же я правде жить должен? По византийской али по хазарской?
– А ты по какой правде жить хочешь? – ответила она как можно спокойнее.
– По своей! Бить буду и византийцев хитростных, и хазар! Они друг друга стоят!
– И в этом вся правда твоя? – стоя перед сыном, сидящим на лавке на поджатой, как у печенега, ноге, спрашивала его княгиня и глядела ему в душу синими молодыми глазами. – Один против всех? Так вот и не твоя это правда, а Свенельдово наущение! Он тебя этому учит! Он тебя и предаст! Как предал Игоря!
– Меня небось не предаст! За мной – сила! Игорь-князь старый был и дружины дельной не имел! А у меня дружина вся – вот где! – Жилистый изрубленный кулак взлетел перед княгиней, и она невольно отшатнулась. – Я князь и никого не слушаю!
– В том и беда! В том и заблуждение твое! Князь, может, менее всех смертных воли своей имеет, но волю подданных своих исполняет!
– Кого? – засмеялся Святослав. – Дружины? Смердов? Варягов? Славян? Кого?
– Всех, кто тебя князем почитает!
– Попробовали бы не почитать! – белозубо оскалился Святослав.
– В глаза-то почитают, а за глаза злословят и проклинают! Ты чужой отчины ищешь, а свою не блюдешь!
– Не вы ли, – закричал Святослав, – попов в Киев понавезли! Шепчутся за моей спиной, как раки в корзине шуршат! Ужо! Сделаю я их из черных – красными! Как раков, заживо сварю. – Князь вскочил, исходя гневом. – Небось, когда Хазарию сокрушил и город Итиль взял, все меня славили, а теперь за спиной шепчетесь! Погодите, узнаете вы гнев мой!
– На кого тебе, неразумному, гневаться? – грозно сказала мать. – Пока ты землю родную от злодеев-хазар оборонял и жег гнездо их сатанинское, на работорговле разжившееся, весь мир поднебесный за тебя Бога молил! А как пошел ты в державу дальнюю на Дунай, как бросил ты город свой, и княжество, и людей своих, – от кого ты ждешь подданства?.. Киев крещен, народ милосердия жаждет, а ты в язычестве закоснел! Ты жертвы людские сатане приносишь!
– Это вы бога себе выдумали, на дереве распятого! Нищего! Немощного! Вы что? С сим убогим державу сотворить думаете? Бог грозен бысть должен! Гнева его трепетать должны народы! А вы все плачете! А того ты, мать, не понимаешь, что каждый, кто крест на шею навесил, слуга не княжеский! Кто попу грехи свои понес, тот лазутчик византийский! Они хуже хазар-иудеев! Вы из-под одной дани вылезли, а в другую дань скачете!
– Господь нас спасет и державу созиждет! Господь заповедал: «Блаженны кроткие, ибо они наследят землю…» Кроткие, а не воители!
– Старухи болтают, а лодыри да трусы повторяют! – закричал князь. – Я державу новую сотворю! И место ей определю под солнцем! И новую столицу воздвигну посреди владений своих!
– И где же?
– На Дунае!
– Могилу ты себе воздвигнешь! – тихо произнесла княгиня.
И сказано это было так убежденно, что князь сбился с крикливого тона и уже совсем по-другому, но так же недобро сказал:
– И не стой с вороньем своим христианским у меня на дороге! Не сейте за спиною моею крамолы! Всех с пути моего сотру! Али ты не помнишь, что сделал Олег с Аскольдом, когда тот противу него и пращура моего, Рюрика, умыслил?
– Олег был варяг дикий! – сказала Ольга. – А ты – князь! Грызлись они меж собою, Аскольд и Олег, за Киев, как собаки за кость! А тебе Киев – отчина!
– Киев в христианстве вашем сгнил давно! Огнем его чистить надобно! Понавезли чепухи византийской! Скоро в баб все киевляне превратятся! Кого только нет в Киеве! И славяне, и евреи, и печенеги, и византийцы, и хазары, и аланы! Яма выгребная, а не город! И бога привезли, смех сказать, нищего-немощного! Державу сила созиждет! Надобно к варяжской силе возвращаться! С гнилого пути византийского сворачивать! Того дружина хочет, а она мне мать и отец!
– Твоя дружина наполовину христианская! – сказала Ольга.
– В том-то и беда, что зараза ваша прилипчивая! Огнем от нее освобождаться нужно! – Князь резко повернулся и ушел, хлопнув дверью.
Долго стояла посреди горницы старая княгиня. Не шелохнувшись, стояли у дверей дружинники нарочитые – немые, как притолоки.
– Погибель ты себе создал, – услышали они не то шепот, не то вздох старой княгини.
* * *
Не юношами, но мужами сильными пришли двое дружинников, нарочито безымянные (ибо несть у стражника, немо стоящего, имени), на службу к Ольге и, служа ей бестрепетно долгие годы, на службе сей состарились. Сильно их служба переменила. Сопутствуя княгине во всех странствиях заморских и во всех делах киевских, немо стоя за ее спиною, видели они все и понимали много. Может, даже больше, чем бояре думные. Привыкнув к ним за долгие годы, и старая княгиня доверяла им больше, чем боярам да воеводам.
Оба дружинника крестились в Византии, а спустя срок приняли у старцев киево-печорских обет монашеский и службу свою правили теперь, имея на то благословение особое.
После того памятного разговора Святослава с княгиней (которую надобно звать не Ольгой, как произносили славяне варяжское имя «Хельги», а по христианскому имени – Елена, но, страшась козней диавольских, сие имя Божие княгиня таила) и стала она быстро гаснуть. И ее – воительницу победную, княгиню несгибаемую – стала гнуть к земле старость. Все чаще стала она останавливаться на теремных лестницах и переходах – отдыхать, опираясь на посох княжеский. Все меньше стала играть с внуками, да и то сказать – внуки выросли, а до правнуков она еще не дожила… Все длиннее стали ее молитвы. Но Киев, да и вся держава неспокойная – пестрая, разноязыкая и воистая – были в ее воле, хотя и соблюдали покорность Святославу.
Незадолго перед смертью княгиня, сидя в кресле византийском будто на троне малом, вдруг оборотилась к ним – стражам своим многолетним.
– Ухожу я, – сказала она им, коленопреклоненным. – Срок мой близок, и смерть моя при дверях…
Тяжело переводя дыхание, она долго молчала.
– Вам – не стражам, но спутникам моим в странствиях земных – доверяю… Князь Святослав державы не созиждет! Ибо видит власть в силе, а власть – в правде. Правды же он не имеет. Правда его была, когда он на Итиль воев вел, когда державу оборонял. Но воителем сильным быть – не вся служба княжеская. Князь не себе, но народу своему служит… А Святослав дружине служит, да и то не всей, а только варягам. Он – один, и его предадут на погибель, ибо он во мрак язычества державу свою влечет, а держава Киевская к свету православия стремится. Кроткие наследуют землю. Кроткие, а не воистые, – повторила она, – ибо у кротких – правда. Князь ее постоянно искать должен, иначе его ждет погибель.
Она молчала долго, следуя мыслям своим. Потрескивали дорогие восковые свечи, плясали отсветы на иконах в божнице, на беленых стенах шатались тени.
– Блажен князь, егда слышит правду кротких, ибо они глаголют правду Господню. И державу наследует их воля, а не воля княжеская. Ныне князь проливу воли кротких идет…
Коленопреклоненные старые воины жадно слушали каждое ее слово.
– Держава созиждется не силою, но духом единым. Единения в духе искать надобно. И Вавилон разноплеменный пал, и Бог разметал языки по лицу земли; и Хазария богопротивная хоть сильна покуда – время ее сочтено. Ибо не запоры и оковы крепят державу, но дух единый. Князь – что?.. Он и в жизни-то своей не властен, а когда гласа народа своего слышать не хочет, то державе своей опасен. – И, делая над собою усилие – мать ведь Святославу, она сказала, словно сама себе: – Святослав не обратится к истине. Не принимает Господь мои молитвы! Упустила я его. Святослава-князя убьют. Его и сейчас-то не сила дружины держит, но жизнь моя. Кто придет за ним? Хочу князем Ярополка.
И дружинники кивнули, думая, что им поручается новая служба.
– Погодите! – сказала она, кладя им руки на плечи. – Погодите. И Ярополка судьбу я вижу плачевну. Не успеет он собрать дружину верную. Сильны сыны сатаны в державе нашей, и диавол, учитель их, хитростен. Надобно дальше смотреть. Меж народом княжеским и князем дружина стоит. Дружину менять нужно. Новые люди веры Христовой, Господу служащие всем сердцем, всем помышлением, прийти должны… Они щитом князю станут, они, яко стрелы, пронзят все тело державы и скрепят его. Они… Благословляю вас искать для новой державы воинство новое.
Она перекрестила их седые головы, дала приложиться к руке.
– Не плачьте, – сказала она мягко. – Я за службу вашу Бога просить о вас буду. Тяжела она, но во благо служба сия…
* * *
Весной, едва поднялась первая трава из степи, как вал морской надвинулись печенеги. Они легко форсировали Днепр и обложили едва успевший затвориться Киев так плотно, что невозможно было подойти и напоить коней в Лыбеди-реке. Их нашествие было полной неожиданностью для Ольги и для воеводы славянского Претича, что с малой дружиной стал на стены.
Почему пришли с левого берега кочевники? Чего добиваются они? Устоит ли Киев, ежели пойдут они на штурм?
Княгиня старая, но не согбенная и думные бояре ее, седые, будто пеплом подернутые, сели обсуждать происходящее…
А под стенами уже дрожала земля от конского топота. Пылали костры до самого горизонта, и голоса печенегов слышны были на безмолвных стенах киевских.
– Князь с дружиной далеко! – сказал Претич. – С малыми силами нашими в осаде не отстояться.
– Где князь сегодня? – спросила Ольга.
– В месяце езды, ежели со всей дружиной поспешать будет.
– Подайте весть князю, – приказала старуха. И, тяжело повернувшись к воеводе, спросила: – Претич, как думаешь, чью руку печенеги держат?
– Тут и думать нечего! – сказал Претич. – Царьграда. Нонь князь с царем болгарским Калокиром Царьград крушит – вот они со спины и ударили.
– Князь четвертое лето на Царьград походом ходит, что ж печенеги прежде мирны были?
– Видать, договор у них с Византией.
– У них и с нами договор.
В открытые окна терема ветер доносил запахи степи и дымных костров, на которых печенеги жарили конское мясо.
– Лазутчиков с левого берега нет? – спросила в тишине Ольга.
– Нет. Не пройти ко граду.
– Надобно вылазку сделать. Отогнать их маленько… – предложил один из молодых бояр.
– В пустоту ударишь! – сказал Претич. – Они живо от ворот откатятся, за собою в степь тебя утащат, а дорогу назад перекроют. Вот ты и полоняник, а и меча ни с кем не скрестишь…
Княгиня долго молчала, сжимая старческой худой рукою посох.
– Войско за стены выйти не может, а мысль преград не знает! – сказала она непонятную военачальникам фразу. – Кто печенегов подкупил? Царьград? Думайте, бояре да воеводы!
– Ежели и Царьград, – сказал после долгого молчания Претич, – то через хазар.
– Видишь, как ловко. И тем и этим на пользу, – сказала княгиня. – И через Тьмутаракань, не иначе, хазары послов византийских с дарами к печенегам пропустили… – И она вдруг улыбнулась.
– Что, матушка? – вздохнул Претич. – Что веселого ты нашла в нашей беде нонешней? Оборониться-то нечем! Дружины нет!
– Это и есть оборона наша, – сказала княгиня. – Уж коли так Бог судил. С Византией князь воюет, но не Киев…
Воеводы насторожились.
– Хазария недобитая мечтает как можно более воев наших руками печенегов истребить. Дескать, пущай печенеги и славяне с варягами и русами друг друга бьют – глядишь, на их костях и Хазария прежнюю силу вернет. И кинулись бы вы с печенегами драться, потому что князь Византию воюет, а печенеги союзны грекам!
– Никак не уразумею я, к чему ты, княгиня… – начал Претич.
– Так ведь и мы грекам не враги, – сказала княгиня и добавила властно: – Берите дары. Берите попов и послов византийских, пущай во всем облачении к печенегам выходят. И уверяют их в дружестве, и пусть не возвращаются, пока печенеги от стен не отойдут. Они войны хотели, они в крови нас утопить задумали… – сказала она, ни к кому не обращаясь. – Но Господь заповедал: «Кроткие наследуют землю». Кроткие…
Она стояла все время у окна и глядела, как выходило поутру из ворот посольство. Как целый день там, во глубине серых кибиток печенегских, волнами подымались и гасли голоса. И отошла, только когда с гортанными криками печенеги стали откатываться от стен.
Телохранители помогли ей вернуться в княжеский покоец. Чувствуя старчески непослушное и неуклюжее тело свое, едва переставляя ноги, доползла Ольга до подобия трона, будто надломилось в ней что-то. Широко открытыми глазами смотрела она округ, словно впервые видела покои свои и божницу, прикрытую занавеской.
– Отодвиньте, – повела она слабой рукою.
Дружинники-монахи осторожно отвели занавеску. Среди мелких икон одна большая, византийского письма, засияла, как драгоценный камень. Богородица Одигитрия смотрела на княгиню, испуганный ребенок прижимался щекой к щеке ее…
– Вот и я… отдала… – прошептала старуха, и слеза потекла по ее коричневой морщинистой щеке.
Стоящие при дверях монахи-дружинники скорее почувствовали, чем поняли, что думает она о Святославе. А по теремным порогам уже топали мягкими сапогами бритоголовые белозубые печенеги, с одной прядью на лысой голове, как у Святослава…
– Хан Ильдей пришел к тебе, матушка, – доложил Претич.
Княгиня велела пропустить Ильдея. Громадный печенег еле просунул широченные плечи в узкие двери. Увидел икону, заулыбался.
– Царьград! – одобрительно сказал он. – Я Царьграду – друг, я грекам помогаю. Мне Царьград нравится!
– А Итиль-град, Тьмутаракань тебе тоже нравится? – улыбнулась княгиня.
– Чему там нравиться?! – закипятился кочевник. – Хазары злы! Они нас из-за гор выбили, по степям кочевать заставили. Но мы сильны и здесь хазар бьем. А там, где остались слабые печенеги, их хазары ловят и в рабство за море продают! Мы с Царьградом дружим, а хазар – бьем! – Он пристально разглядывал иконы. – Я в Царьграде был! Такое видел! Красиво очень. И поют красиво! Я плакал, как красиво поют. И огни горят – чуть не ослеп.
Ольга старательно обошла молчанием так и просившийся слететь с губ вопрос, кто научил печенегов идти на Киев. Знала – Ильдей не скажет.
– Людей ловить нельзя! – сказала Ольга. – И продавать нельзя!
– Кто сказал?! – повернулся всем корпусом неожиданно гибко Ильдей.
– Мой Бог не велел.
– А кто твой Бог? Перун? Яхве?
– Христос, – сказала княгиня. – Вон образ его. Он заповедовал людям любить друг друга.
– Я знаю, – сказал Ильдей. – У нас греческие попы жили, много говорили, многие наши крестились…
– Ну а ты что же?
– Я мал был…
– Так теперь крестись!
– Теперь у нас другие попы пришли, от арабов – мусульмане. Многие их слушают.
– А ты?
– Не знаю, – сказал печенег. – Мне Царьград по душе. Я красоту люблю. А у мусульман нет красоты…
– Детская у тебя душа, – сказала Ольга Ильдею. – Таких, как ты, мой Господь любит.
Ильдей довольно засмеялся.
– Ты хорошая! – сказал он. – Ты добрая. А Святослав князь – злой! Зачем вам такой князь?
– Он сын мой! – сказала Ольга.
– Если бы мой сын творил неправду, я бы убил его, – сказал печенег.
Ольга вздрогнула.
– Твоя правда, – прошептала она.
– Давай, – сказал, внимательно глядя на нее, Ильдей, – мы с тобой мир сотворим! Не с князем, а с тобой. Тебя наши люди уважают. Ты нам зла не делаешь. Твои слуги с нами торгуют честно, детей не отымают, в полон не берут, хазарам не продают. Давай в мире жить.
– Вот что, – сказала Ольга, – ежели надобен тебе князь добрый, пообещай мне, что служить ему будешь. И вечный мир с ним сотворишь.
– Со Святославом?
– Нет, – твердо сказала старуха. – Святослава не воротишь!
– А с кем?
– С Ярополком. Он князь будет добрый…
Ильдей, который был не так прост, как казался, и когда подходил ближе, то было видно, что и немолод, долго и пристально поглядел на Ольгу и вдруг сказал:
– Ты сильная, как она. Ты сильная, как эта женщина, что родила Бога вашего. Я знаю про нее.
– Поклянись!
– Клянусь, – сразу ответил Ильдей. – Буду служить Ярополку.
– А что ж ты не торговался, никакой с меня клятвы не взял либо выкупа? – спросила Ольга, когда принесли им закуски и яства и стали потчевать.
– Я хан, а не торговец, – сказал Ильдей. – Зачем многословие? Бог мои слова слышит.
– До Бога, сказывают, далеко… – улыбнулась княгиня.
– В степи много ближе, – засмеялся печенег. – Да и стража твоя слышала.
Он кивнул на немо стоящих дружинников.
– Это не стража, это посланцы… – задумчиво сказала Ольга.
* * *
Она умерла вскоре после того, как прискакал с дружиной Святослав. Сражаться ему ни с кем не пришлось – печенеги ушли в левобережную приднепровскую степь. Святослав отпарился в бане, отоспался и собрался было в обратный путь.
– Погоди, – ухватив его птичьей старческой рукой, сказала княгиня-воительница. – Схорони меня, тогда уезжай.
Это произошло быстро. Весь Киев оплакивал Великую Хельги – Ольгу Елену. Голосили все – и славяне, и хазары, и евреи, и ясы…
Святослав глядел на них, опустив длинные усы на грудь. И видел то, чего прежде не замечал, – эти люди были едины потому, что почти все рыдающие у гроба были христиане. Их было много, они шли и шли, теперь уже не таясь: молодые и старые, рабы и дружинники, смерды и беглый люд, горожане и бояре. Они были едины в горе и в молитве. Пришли из степи крещеные печенеги и аланы, приехали греки и православные подданные Хазарин…
Одни варяги да славяне-язычники плотной кучкой окружали Святослава. Во многолюдном Киеве это была горсть…
«Вот они, кроткие! – с ненавистью думал Святослав, глядя на толпы рыдающих и прущих, как бараны, ко гробу Ольги людей. – Здесь ведь и те, кого примучила она. Здесь и древляне, и вятичи, и до сих пор не покоренные северяне. Те самые, что пропустили невозбранно печенегов через свои земли ко граду Киеву. Печенегов! Врагов своих! Или, может, они врагом Киев считают? Скорее и печенегов, и Киев и радуются, когда враги дерутся между собой».
Князь смотрел на море белых славянских рубах, на сермяги, что плыли по улицам за гробом. От его глаз не ускользнуло, что некоторые его дружинники крестятся и что-то шепчут.
И эти – кроткие! Вот куда зараза достигла!
На минуту ему стало страшно. Безоружное многолюдье – неотвратимое, как горный обвал или половодье, более напоминающее стихию, чем людской поток, – было страшнее любого войска. Там, в бою, был враг, были свои, здесь – ни врагов явных, ни своих…
И похороны матери шли как бы без него. Конечно, он стоял на почетном месте, конечно, проходя мимо него, люди наклоняли головы, но делали все сами, никто не слушал ни его распоряжений, ни приказов его воевод. Он понял, что с уходом матери эти люди перестали быть его подданными. Киев его не хотел. Киев его исторгал. Старый, хитрый Свенельд все понял еще раньше Святослава и сказал, как всегда утешая:
– А что тебе в Киеве сейчас? Начнешь тут порядок наводить – восстанут! А у тебя дружина вся на Дунае. Да пропади они пропадом! Сначала нужно там победить, а уж потом, во славе, вернуться и каждому воздать по заслугам – кому кол, кому петлю.
Они сидели в пустой горнице Ольги. Варяги стояли у дверей, и Святослав знал – сей покоец так срублен, что подслушать говоримое в нем невозможно, потому говорили без опаски.
Свенельд сидел, упираясь железными поручами в подлокотники, в том кресле-троне, где сиживала мать.
– Киев, – говорил он, – нужно как вражеский город брать! А для этого надо самим сильным сделаться! Далеко зашла ржавчина христианская – сразу не вытравишь.
Седые прямые волосы космами свисали из-под боярской шапки Свенельда. Из-под мохнатых по-стариковски бровей цепко глядели свинцовые глаза.
– Поставь им князя! Пущай радуются и ведают, что власть здесь – твоя.
– Кого ставить? – спросил Святослав.
– А кого они хотят – Ярополка. Раздели меж сыновьями державу, а сам властвуй над всеми.
– А Олега куда?
– Да все равно! Хоть бы в Овруч! Сыновья не в тебя пошли – слабы!
– А Владимира? И он ведь мне сын!
– Этот другой! Этого нельзя в Киеве оставлять! Этот – волчонок. Ушли его подальше. Вон Новгород князя просит – ушли его туда…
Свенельд потянулся, и старые суставы его затрещали.
– И пусть Ярополку радуются… – сказал он.
– Ярополк руку Византии держать будет! – прохаживаясь по горнице и тяжко ступая по скрипучим половицам, сказал князь. – Я думаю, бабка его крестила тайно.
– Ну и что? Сила-то у тебя.
– А то! – сказал Святослав, придвигаясь к самому его лицу и дыша горячо, по-звериному. – А то, что усилься Ярополк – и ты предашь меня!
– С ума ты сошел! – не сморгнув, ответил старый варяг. – Я с тобой от рождения твоего…
– Ну и что? – сказал Святослав. – Ты и князю Игорю служил с детства, а предал его.
– Хватит болтать! – прихлопнул ладонью по креслу старик. – Сколько можно глупость эту слышать!
– А может, и убил, – все так же глядя ему в самое лицо, сказал Святослав. – Сказывают, князь в полюдье не с мужиками сермяжными, а с дружинниками какими-то ратился! Они его и убили, а уж древляне мертвого разорвали.
У Свенельда задрожал бритый подбородок. Он хотел что-то возразить, но Святослав крикнул:
– Встань! Расселся тут! Это место матери моей! – Став спиной к Свенельду и глядя в растворенное теремное оконце, добавил: – И не мальчонка с тобой говорит, коим вы как хотели вертели! Ступай отсель и помни: кровь неотмщенной не бывает.
Свенельд поднялся и, понимая, что так беседу кончать нельзя – жить ведь и далее вместе, – привел свой довод:
– Ежели я в смерти князя Янгвара повинен, что же боги мне до сих пор не отомстили? Чего они ждут?
– Терпят, пока ты при мне! А предашь, как многих предал, – тут месть и свершится!
Свенельд не нашелся что сказать и вышел, громко топая по половицам. Святослав сел в кресло матери своей и уловил запах византийских благовоний и лекарств, которыми пользовалась немощная старуха. Он поднял глаза. Прямо на него из переднего угла смотрела с иконы женщина с испуганным ребенком на руках.
И князь заскулил, как брошенный щенок…
* * *
Киев не принял Святослава, и, оставив на киевском столе сына, желанного киевлянина – Ярополка, он ускакал по июльской жаре к Дунаю. На бегство был похож его уход. Двое стариков, встреченные им по дороге, остались князем не узнаны. Да и трудно было узнать в двух каликах телохранителей княгини, навсегда снявших воинские доспехи и приобщившихся к братии монахов печорских. А они князя узнали и переглянулись, за долгие годы понимая друг друга без слов: «Либо князь Святослав не вернется больше в Киев, либо придет с такою грозою и мукою, что и Киев не устоит».
Куда гнал коней грозный князь Святослав? Куда, бряцая доспехами, в тучах пыли неслась отборная его малая дружина?
К Дунаю! Туда, где стояло войско князя, где командовали его воеводы Сфенкел, Икмор и Свенельд, сопровождавший князя в Киев, словно желая удостовериться, что Ольга действительно умерла.
Новую державу хотел создать Святослав. Война диктовала свои решения. Святослав фактически покорил всю Болгарию, но после переворота в Византии, где к власти пришел Цимисхий, полководец его Варда Склир разбил соединенные отряды союзников Святослава – венгров и болгар – у Аркадиополя. Разбитые отряды венгров ушли домой, а болгары перестали доверять русам. Святослав направил зимою отряд в Македонию, но болгары восстали против него.
Святослав взял город Переяславец, посадил там Сфенкела, болгарина Колокира и царевича болгарского Бориса, а сам на границах Болгарии и земли славян-уличей в низовьях Дуная укрепился в Доростоле.
Здесь, на окраине земель, подвластных киевским русам, он мог бы основать новое языческое государство, даже если бы Болгария стала независимым государством. Стараясь укрепиться в новой отчизне, князь вел бесконечные переговоры с красавцем и честолюбцем, великим дипломатом и полководцем Иоанном Цимисхием. Где было суровому и простодушному Святославу перехитрить грека! Он говорил с варяжской прямотой и грубостью, требуя дани. Так всегда поступали варяги, так вели себя на переговорах. Но время варягов прошло!
Всю зиму Цимисхий тянул время. То уступал в переговорах, то отказывался от уже данных обещаний, которые, кстати, для него ничего не значили. Он мог обмануть и предать кого угодно. Императором он стал потому, что в него влюбилась жена императора Никифора Фоки – императрица Феофано. Слуги императрицы под руководством Цимисхия проникли во дворец и зверски убили императора. Но первое, что сделал Цимисхий, став императором, – сослал Феофано и всех, кто помогал ему в заговоре. Раздал все свое имущество земледельцам и прокаженным. Завоевал популярность в народе бесконечными праздниками и увеселениями, сместив под шумок всю администрацию императора Фоки.
Чему служил он? Почему так легко расставался с богатством, с любовью, со всем, ради чего готовы были умереть многие его современники? Его единственной, испепеляющей любовью была родина. Цимисхий любил Византию и ей служил всеми силами души, ума и тела. Он ненавидел врагов своей страны и ради победы над ними готов был на все, что угодно.
Весной 971 года, как сообщают греческие хроники, Цимисхий неожиданно для прямодушного и жестокого Святослава начал против него поход. Триста кораблей с огнеметными машинами вошли в устье Дуная, пятнадцать тысяч пехоты и тринадцать тысяч конницы смели отряды русов и варягов, оборонявших проходы на Балканских перевалах, и после трехдневной осады взяли Переяславец. Отчаянный Сфенкел с небольшим отрядом русов пробился к Святославу. Царевич Борис сдался грекам. Пасху, во всем православном торжестве, Цимисхий отпраздновал в отвоеванном у язычников Переяславце. После этого вся Болгария восстала против Святослава. Святослав, не имея конницы, остался в Доростоле.
Варяги и русы дрались с обычной для них храбростью и яростью. Они были так страшны и так умелы, что сам Цимисхий едва не погиб, но греков было больше. Никакие отчаянные подвиги не меняли общего положения. Погиб храбрец Икмор, погибли или умерли с голоду многие воины Святослава. Никогда князь не терпел такого сокрушительного поражения! Его мозг, как губка напитанный кровавыми картинами и местью, не мог примириться с поражением.
После смерти Икмора Святослав сделался как безумный! Опытный полководец, он видел, что гибели не миновать, и тогда он стал приносить жертвы злым варяжским и славянским богам.
В полнолуние русы вышли на берег Дуная. Здесь они собрали тела погибших и сожгли их на погребальном костре. Потом, совершая погребальную тризну, они умертвили множество пленниц и пленников. Особой жертвой было принесение в угоду богам грудных младенцев и черных петухов. Их топили в водах Дуная.
Это были последние дни осады Доростола. Измотанный боями, Цимисхий вступил в переговоры. Греки обязались пропустить русов с ладьями мимо эскадры греческих судов.
Ветреным августовским днем низкосидящие дракары, полные израненными варягами, русами и славянами, прошли мимо высоких бортов греческих кораблей. Достаточно было одной команды, чтобы на головы дружинников Святослава полился кипящий, ослепительный греческий огонь, но Цимисхий на сей раз держал слово.
Поэтому, когда позднейшие историки припишут ему сговор с печенегами, это будет неправдой. О том, что Святослав решит подниматься вверх по Днепру и вытащит у днепровских порогов ладьи на сушу, став, таким образом, совершенно беззащитным, печенеги узнали не от него.
От кого же?
Медленно выгребали дракары к острову Березань. Жадно смотрели на приближающийся берег раненые. Они чаяли в приближающемся острове свое спасение. Но там их ждала гибель!
Святослав обезумел! Все свои беды он приписывал козням христиан. Вернее, свои неудачи язычники объясняли гневом богов на христиан. Поэтому на острове варяжская часть дружины и язычники-русы и славяне принесли в жертву всех христиан. Святослав замучил брата своего Улеба. Зверски запылали всех раненых, в том числе и нехристиан. Но особо изощренные пытки ждали нескольких священников, кои делили все тяготы похода и войны с дружиной… Святослав решил начать поход на Киев! На сына своего Ярополка, ежели он не подчинится его приказу! Сжечь все христианские церкви! И по своем возвращении изгубили всех христиан!
Весть об этом прилетела стрелою. Киев затворил ворота. В церквах собрались христиане, готовясь к мученической смерти…
Немудрено, что известие о точном времени перехода днепровских порогов ратью Святослава стало тут же известно дружественным Киеву печенегам.
Кто донес весть до хана Кури, что кочевал по левому берегу Днепра? Да и нужно ли было таиться, если около Ярополка, держа слово, данное старой княгине, был печенег Ильдей, верно несший пограничную и конную службу? Никто не предавал Святослава – врага нельзя предать, а он давно стал врагом наполовину христианскому Киеву. Люди иных вер – иудеи, мусульмане – да и язычники грозового прихода полубезумного в мракобесии князя боялись…
От огня к огню, от вышки к вышке вдоль Днепра пронеслись неуловимые всадники. И вот уже загудела степь от тысячи копыт… И на перекатах, где тащили беспомощные ладьи по берегу измученные варяги-дружинники, навалилась на них лавина печенегов. Скоротечен и жесток был бой.
Дорвавшиеся до неуязвимых на ладьях, недоступных для стрел в доспехах варягов, что наконец-то оказались слабее плохо вооруженных, но храбрых, ловких и быстрых степняков, тяжелые, колючие арканы валили с ног одетых в железо дружинников. Короткие злые стрелы впивались в любую незащищенную часть тела. Прошивали руки, ноги, впивались во вскипающие под жалами стрел глаза. Печенеги утопили, изрубили и затоптали в конной сече всех.
Среди горы трупов нашли истоптанного и посеченного саблями Святослава. Хан Куря, прекрасно помнивший варягов, что охотились на его родню и продавали на невольничьих рынках, с наслаждением обтесал мечом голову князя, откромсал уши, нос, выколол глаза, а потом приказал греческому мастеру сделать из черепа ритуальную чашу, в которой подносил вино особо почитаемым гостям, в том числе и киевлянам…
Но не все дружинники пали в той сече. Уцелел и увел часть варягов Свенельд. Еще на Березани, после кровавой, отдающей безумием тризны, он просчитал последствия этого страшного пиршества… Ночью, едва ладьи вошли в Днепр, сразу за вестником, поскакавшим в Киев с приказом жечь церкви, он тихо поднял варягов и вывел ладьи к перекатам, успел перетащить их до подхода печенегов. Он предал – в который раз – киевского князя, теперь уже сына Игоря!
Его струги выгребли к высоким киевским стенам, и Свенельд – прямо с пристани – пошел к Ярополку, князю киевскому. Он привык подниматься на высокую кручу к терему княжескому. Он привык к тому, что все встречные снимали перед ним шапки, а рабы падали на колени. Он привык к тому, что весь Киев почитал его не ниже князя. Но странным безмолвием встретил его город. Узкие улицы, по которым шла его немногочисленная дружина, были совершенно пусты. Старый вояка почувствовал, что за каждым забором, за каждым заволочным оконцем стоит вооруженный чем ни попадя киянин. Невольно втягивая голову в плечи, он прямо-таки чувствовал спиною направленные в нее жадные стрелы. Навстречу ему выехал находившийся у князя Ярополка на службе сын Лют. Они обнялись.
– Не узнаю я Киева, – сказал Свенельд сыну.
– Нынче все переменилось. – сказал Лют Свенельдич. – Нынче Киев не тот.