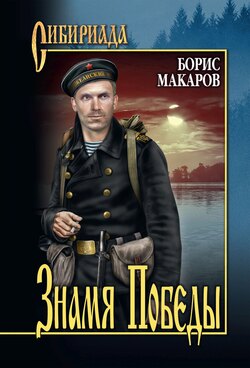Читать книгу Знамя Победы - Борис Макаров - Страница 8
Знамя Победы
Банный день санитарного поезда
ОглавлениеСанитарный поезд пришел на нашу станцию часа в три ночи, а часов в пять утра вокруг него собралось почти все население станции – женщины, старики, дети. «Вокруг» – не оговорка. Поезд состоял из паровоза и двух обшарпанных, закопченных, испещренных осколками и пулями вагонов. Так что для того, чтобы окружить его, хватило бы трех-четырех десятков людей. Нас же было значительно больше.
К поезду в такую рань мы вышли-выбежали не из досужего интереса, не из любопытства. Каждый из нас в каждом идущем мимо нашей станции военном поезде надеялся хотя бы на мгновение увидать своего сына, отца, брата, мужа, которые где-то там, далеко-далеко за Уральскими горами, за рекой Волгой, сражались с фашистской нечистью.
И хотя все мы, тыловики, отлично поднимали: надежды наши наверняка бесплодны и бесполезны, – стоило где-то еще за дальним поворотом появиться струйке паровозного дыма, все население станции неведомо как и откуда узнавало – идет военный поезд – и бежало, шло, семенило, тащилось на вокзал. Надо сказать, что слова «семенило», «тащилось» тоже не случайны. На третьем году войны бегать еще могли мальчишки и девчонки. Взрослые же – женщины и старики, отдающие своим детям и внукам последние крохи хлеба, – от бега воздерживались. Многомесячное недоедание изменило походку многих из них, сделало ее неровной, неустойчивой, зыбкой, тяжелой.
Наши надежды подогревали, скорее всего, сочиненные кем-то из наших станционных фантазеров-оптимистов слухи, что на соседней станции (обязательно – не на нашей, а на соседней!) вот у этого или такого же, как этот, поезда Дарья, Марья, Лукерья (имя для правдоподобности называлось обязательно) встретила мужа, сына, брата…
И его – мужа, сына, брата… – начальник (почему-то всегда это был генерал) на целых два-три-четыре (с каждым добавлением нового часа вера к рассказчику убывала) часа отпустил домой…
Двухвагонный санитарный поезд, как и положено, с двух сторон – по одному с каждой стороны – охраняли совсем молоденькие, бледные, веснушчатые, похожие друг на друга солдатики. На наши вопросы: «Откуда?», «Куда?», «Кто в вагонах?» – они, как и положено, не отвечали. Не много мы узнали и от хмурых, чумазых, безгранично уставших машинистов. Однако кому-то из наших все же удалось выведать, что два вагона – это не поезд, а остатки от разбомбленного фашистскими самолетами большого санитарного поезда. А многие из раненых, находящихся в вагонах, ранены дважды – и на фронте, и на пути с фронта при бомбежке.
Через час-полтора двери одного из вагонов распахнулись и на перрон вышел высокий, седоголовый офицер. Он был чисто выбрит. Пуговицы его, словно маленькие зеркала, отражали яркие лучи утреннего солнца.
Офицер огляделся, увидел ящик с песком, стоящий у щита с пожарными инструментами – лопатами, ломами, двумя красными ведрами, – быстро подошел к ящику и поднялся на него. При этом офицер чуточку поморщился и, уже стоя на ящике, потер правую ногу. Однако он тут же распрямился, расправил плечи и, терпеливо подождав, когда из-за противоположной стороны поезда выйдут все встречающие, сказал:
– Граждане и гражданки! – Но, видимо, внимательнее разглядев граждан и гражданок – стоящих перед ним изнуренных женщин, согбенных стариков и босых грязноногих мальчишек и девчонок, поперхнулся, поправился: – Земляки, бабоньки дорогие, в этих вагонах раненые бойцы, тяжелораненые бойцы. Все они настоящие герои. Все они пролили свою кровь за Родину, за вас. Они не могут вставать, ходить. Мы второй месяц в дороге. Поезд попал под бомбежку. В эти два вагона собрали тех, кто остался живым после нее. Я – врач, и я – начальник этого поезда. Из медиков остались живыми и здоровыми я и две медсестры. Питанием раненые обеспечены. Нам отдавали все, что могли, сибиряки на всех предыдущих станциях. Но сейчас наши раненые очень нуждаются в помывке. Их надо помыть. Хорошо помыть, как в бане. Надо простирать одежду, простыни, бинты. Можем ли мы надеяться на вас?
На какой-то миг все затихли, а потом разом качнулись, шагнули к офицеру:
– Да ты что спрашиваешь, уговариваешь? Конечно!
– Готовы!
– Сделаем все!
– Родные вы наши!
Вперед вышла широкоплечая, осанистая Галина Ивановна Квитковская:
– Я председатель здешнего Совета. Сделаем все, что надо. Истопим бани. Дров наберем. Надо будет – заборы испилим. Воды в реке хватит. Мыла нет, щелока из золы наделаем!
– Ничего этого не надо – ни заборы валить, ни щелок делать! – остановил Галину Ивановну начальник поезда. – Я же сказал – в вагонах тяжелораненые. Не могут вставать. Не могут ходить. Поднимать, переносить их нельзя. Надо просто нагреть побольше воды, собрать побольше чистых полотенец, платков, мочалок и осторожно, очень осторожно, – я буду рядом, – протереть, помыть их. Мыло у нас есть. Немного. Но хватит. Воду, наверное, можно греть здесь, на станции, или действительно в баньках, в ближних домах. И еще – я уже говорил – надо простирать одежду, белье, простыни, бинты. Простирать и просушить. Мне сказали на узловой станции, что здесь наш поезд простоит до завтрашнего утра.
– Фая, Петька, Васька, Андрюшка, Вера, – обратилась Галина Ивановна к стоящим чуть в стороне от взрослых подросткам. – Мигом сбегайте в поселок и позовите сюда всех, кто еще остался дома. Лишних не будет!
Мне было одиннадцать лет. Я оказалась в числе названных посыльных. Мы тут же разбежались-рассыпались по улицам…
Прошло немного времени, и во многих домах и баньках задымили трубы, и вскоре всех нас – мальчишек, и девчонок, и некоторых из взрослых – Галина Ивановна отправила подносить воду. Горячую воду, кипяток к вагонам подносили взрослые. Мы – теплую и холодную. Ведра мы носили вдвоем. Надевали ведро дужкой на палку и несли. Поднять и нести ведро в одиночку многие из нас не могли.
Кроме того, мы разносили по домам груды простыней, белья, бинтов. Белье, бинты и даже простыни были в темных кровавых пятнах. Они издавали тяжелый запах, от которого подташнивало и кружилась голова.
В вагоны нас, подносчиков и относчиков, не пускали.
Как женщины мыли тяжелораненых, что им пришлось увидеть, испытать, почувствовать, я не знаю. Помню, что лица у тех из них, которые выходили из вагонов, чтобы вручить нам кипы белья и простыней, бинтов, гимнастерок и брюк на стирку и принять от нас воду, были бледными и мокрыми, то ли от пота, то ли от слез. С нами, подростками, женщины не разговаривали, да и некогда было разговаривать.
Всю свою работу мы закончили уже на исходе дня. Без отдыха, без обеда, да их и не было в то время – настоящих обедов, – мы носили воду не только к поезду, но и женщинам, стирающим госпитальные принадлежности. К тому же мальчишки собирали дрова, а девочки развешивали выстиранные вещи для сушки.
А потом, наскоро перекусив, все мы – и взрослые, и дети – не сговариваясь, без всякого указания или приглашения собрались у санитарного поезда.
Усталые люди лишь изредка перебрасывались словами. Все смотрели с высокой насыпи вниз, на поселок.
Заходящее солнце вызолотило окна домов, как-то особенно ярко высветило белизну простыней, белья и бинтов, вывешенных на просушку. Простыней, белья и бинтов было так много, что мне показалось, что у каждого дома снова по-весеннему расцвела черемуха…
Из вагона вышел начальник поезда. Он был таким же собранным, подтянутым, красивым, как и утром. Казалось, что минувший трудный и долгий день ничуть не утомил его.
Офицер подошел к нам и стал, как и мы, молча смотреть на поселок, на заходящее солнце.
– Как они там? – кивнул кто-то из взрослых в сторону вагонов.
– Блаженствуют. Спят, – не глядя на спрашивающего, ответил врач.
– Жить будут?
– Будут. Обязательно будут. Они обязаны жить…
И поверьте, я до сих пор помню – тот вечер был теплый, тихий, добрый, такой, каких будет много, много после войны, после Победы.