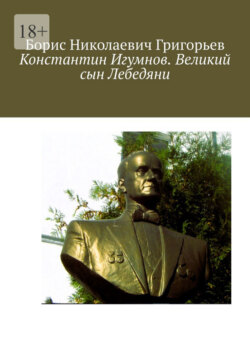Читать книгу Константин Игумнов. Великий сын Лебедяни - Борис Николаевич Григорьев - Страница 7
Часть первая Истоки
Глава 4 Братья и сестра
ОглавлениеНаедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть…
М.Ю.Лермонтов
Ближе брата Николая и сестры Лизы Константину Николаевичу Игумнову был брат Сергей – поэт, публицист, драматург и врач (1864—1942). К нему он был ближе всего и в детстве, и будучи уже взрослым. Их объединял тяга к искусству и общие творческие задатки. Сыграло роль, по всей видимости, также и то, что Сергей из-за своей болезненности поздно пошёл в школу, и сидя дома, он много общался с младшим братом. Средний брат оказал на будущего пианиста и музыканта сильное влияние. Как пишет Я. Мильштейн, человек большого благородства, разносторонних интересов и талантов, средний брат оказал на развитие младшего брата самое сильное и благотворное влияние. Сергей рано выработал в себе идеалы служения народу, которым остался верен до конца жизни.
Сохранилась запись о рождении Сергея Николаевича:
СВИДЕТЕЛЬСТВО
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, в Тамбовской Духовной Консистории по метрическим книгам, хранящимся в архиве оной, города Лебедяни Казанской церкви за тысяча восемьсот шестьдесят четвёртый год, под №27, значится так:
«Потомственный почётный гражданин Николай Иванов Игумнов и законная жена его Клавдия Васильевна, оба православные, у них родился сын Сергий двадцать четвёртого, а крещён тридцатого сентября священником Михаилом Добротворцевым с причтом».
Член Консистории
Секретарь (Печать)
За столоначальника
На обороте свидетельства есть надпись, почему-то касающаяся брака старшего брата Николая: «Сего 1891 года 28-м июнем свидетельство Лебедянской городской управы от 18 июня за №340 с надписью о браке получил обратно кандидат права Николай Николаевич Игумнов». Благодаря этому мы знаем о времени женитьбы Николая Николаевича.
У всех детей были кормилицы. У Сергея их было даже две, причём, как он пишет, одна из них его чуть не уморила: у неё пропало молоко, и, не желая терять место, она скрывала это. Рос он и без того исключительно болезненным и тихим мальчиком. Болел в детстве корью, краснухой, дизентерией, ветрянкой. На втором году едва не умер от крупозного воспаления лёгких. Спасли методом рвоты: изо рта выскочили крупозные плёнки с бронхов, и мальчик пошёл на поправку. Из-за болезней он довольно поздно – в 12-летнем возрасте – поступил в Лебедянскую прогимназию, где открыл для себя Некрасова и Тургенева – писателей, которых отец не одобрял за либеральные «китайские» идеи.
Из-за экземы на теле и голове в виде шлема Сергей, по собственным словам, имел очень жалкий вид, но выглядел весьма сурово. Однажды его показали товарищу военного министра и севастопольскому герою князю Виктору Илларионовичу Васильчикову, имевшему в Лебедянском уезде имение. Тот взглянул на насупившуюся физиономию мальчика и сказал:
– О, какой строгий! Далеко пойдёшь, но не желал бы служить под твоим начальством.
Экзема мучила Сергея Николаевича в течение всей взрослой жизни.
Болел он и ангиной, пока не решился вырезать гланды по примеру дяди Ивана Ивановича. Сергей учился тогда уже в 5-м классе московской гимназии, когда дядя приехал в Москву, чтобы вырезать себе гланды у известного ларинголога Беляева. Удачный опыт дяди вдохновил на подвиг и племянника, и он тоже пошёл к Беляеву. Тот сразу вооружился тонзилотом и без всякой анестезии в два приёма вырвал злосчастные гланды. «Раза два что-то щёлкнуло, хрустнуло, жгучая боль, слёзы градом, потемнение в глазах, несколько кровавых плевков и опять – раз-два, и снова боль, слёзы… вырезаны другие гланды. Вышел на улицу, сел на извозчика и ничего дальше не помню, очнулся уже около квартиры…, не вывалившись из пролётки и даже не потеряв фуражки. Вошёл в комнату козырем и изумил всех своим подвигом. С тех пор ангин не знаю», – вспоминал несчастный пациент.
Болел Сергей ещё бронхитами и бронхиальной астмой, брюшным тифом и ещё чем-то – всего не перечислить. И чем только его не лечили: отвары, ингаляции, компрессы, мышьяк в каплях, железистые пилюли, минеральная вода, визиты к знаменитому Захарьину в Москве – ничего не помогало.
Сергей Константинович вспоминал: когда Игумновы появились у Захарьина, перед их взорами в приёмной разыгрались душераздирающие сцены. Во-первых, нужно было дождаться приёма после длиннющей очереди. Ждать приходилось до 2 часов ночи! Захарьин к этому времени ввёл новшество – плату за консультацию и лечение в размере 5 рублей, чем вызвал большое недовольство публики. Одна дама выскочила из его кабинета, как ошпаренная, потому что положила гонорар не на столик, а сунула его в руку врачу, чем вызвала гнев негодования у холерика-врача.
Сергей пришёл на приём с родителями. Захарьин стал задавать матери вопросы об условиях жизни в Лебедяни и симптомах болезни, но отвечал на них отец, поскольку мать мешкала с ответами.
– Я не вас спрашиваю, – взорвался врач, – вы спутали мои мысли, опять придётся всё сначала!
Врач закрыл глаза рукой и несколько минут сидел в полной тишине. Все – и пациенты, и его ассистенты – боялись пошевелиться. Потом допрос продолжился и даже в полне ласковой манере. Никакого толку от визита не было, заключает свои воспоминания пациент14.
Сохранилась «китайская» записка Серёжи, написанная матери в связи с днём ангела младшего брата Костика, отправленная вместе с запиской отца из Москвы:
«Яалим амам!
Юялвардзоп ябет с мокиннинями и юалеж огесв огешорох. Юулец ябет окперк и ьсюатсо йищябюлогонм ныс йовт Йегрес Вонмуги.
Авксом, 1881 адог, яам 71, еьнесерксов, 01 восач».
Надеемся, читатель легко расшифрует текст этой «хитрой» записки. К «такой «китайской» грамоте, как мы увидим, будет потом прибегать и Константин Николаевич.
В 1881 году, окончив в 17 лет прогимназию, Сергей поступил в 5-й класс 1-й Московской гимназии, одной из лучших среди казённых. Жил вместе со старшим братом Николаем в меблированных комнатах, они вместе ходили в театр и на симфонические концерты. В гимназии Сергей увлекался художниками-передвижниками, приверженность к которым сохранил на всю жизнь. В эти годы он стал симпатизировать народникам, много читал Н. Добролюбова, но близко с ними не сошёлся. «Зовы народников» его отталкивали, опрощение и «толстовство» тоже не привлекали своей надуманностью, не соответствующей действительности.
В 1884 году Сергей поступает в Московский университет на медицинский факультет. Дух времени, стремление приносить пользу людям определили выбор профессии. Медицинский факультет университета был богат знаменитостями: тот же Захарьин, Остроумов, Склифосовский, Филатов, Эрисман… Из их лекций Игумнов вынес идею о том, что лечить в России надо было не больных, а условия, в которых они находятся. Эту идею Сергей Константинович пронёс через всю свою жизнь.
Во время учёбы в университете Сергей попадает на съезд земских врачей Московской губернии и заражается земскими идеями. Он формулирует для себя вывод о том, что путь в земскую медицину был единственным приемлемым для него путём. Поэтому по окончании учёбы он решил вернуться в родной Лебедянский уезд и работать там земским врачом. Вместе с ним поехали зять Д.П.Леонов и А.И.Вигрен, тоже выпускники медицинского факультета Московского университета.
Вот текст документа, полученного Сергеем Константиновичем по окончании учёбы:
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
От Совета ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Университета Сергею Игумнову дано сие свидетельство в том, что он, при надлежащем испытании в Медицинском факультете, определением Университетскаго Совета, 31 мая 1889 года состоявшимся, утверждён в звании Уездного Врача. Дано в Москве, Октября 27 дня 1889 года.
Ректор Университета Гавриил Иванов
Декан Медицинскаго Факультета (подпись неразборчива)
Секретарь по студенческим делам (подпись неразборчива)
№4232 (Печать университета)
Вот так: было такое звание «уездного врача».
Во время работы в Лебедяни С. Н. Игумнов занимал прогрессивную позицию, направленную на улучшение медицинского обслуживания бедной части населения уезда.
В 1890—92 гг. он принимал деятельное участие в борьбе с эпидемиями холеры, тифа, с голодом. Вопреки полному бездействию губернских и уездных властей, а иногда и в противостоянии с властями, Игумнов совершал акты истинного героизма. Во время одной из эпидемий он заразился сыпным тифом, долго и тяжело преодолевал болезнь, но от последствий её так и не избавился: он стал быстро глохнуть. Это заставило его потом бросить активную медицину и стать врачом санитарным.
Как член городской думы он с 8 по 12 октября 1895 года принимал участие в очередной сессии Лебедянского земского собрания (см. отчёт ТГВ от 2.12.1895 г.), на которой выступал за увеличение жалованья учителям и выделение дополнительных средств на приобретение учебников и учебных пособий в уездных школах. Характерно, что, выступая за учреждение в городе общественной библиотеки, он шёл против большинства земства, упорно не желавшего выделять на это деньги. Он же резко выступил против предложения установить за врачебную помощь плату, поскольку, по его мнению, это отвратило бы бедную часть населения от компетентной врачебной помощи и толкнуло бы её обратно в руки знахарей, бабок и колдунов.
Кстати, уже в Лебедяни С. Н. Игумнов написал работу «Краткие сведения о холере и мерах предохранения от неё»
В 1899 г. С. Н. Игумнов покинул Лебедянь.
В архиве ЛКМ имеется лицевой лист «Формулярного списка о службе» «Лебедянскаго Земскаго врача городского участка, потомственнаго почётнаго гражданина Сергия Николаевича Игумнова. Составлен 5 января 1900 г.» На обратной стороне листа рукописный текст, скреплённый соответствующими подписями и печатью: «Настоящая копия выдана Сергию Николаевичу Игумнову вследствие его личной просьбы на предмет представления в Херсонскую губернскую Земскую управу января 7-го дня 1906 года».
Очевидно, при выезде из Лебедяни Сергей Николаевич проявил беспечность и был вынужден запрашивать формулярный список уже в 1906 г.
На лицевой стороне листа есть (харьковский) штамп: «Паспорт выдан 1933 г.»
«Конец прошлого и начало нынешнего года местное общество жило под впечатлением тяжёлой утраты», – писали ТГВ 6.5.1899 г. – «Оба земские врача, Д.Н.Леонов и С.Н.Игумнов… оставили службу Лебедянскому земству». Газета отмечала их «неизменно внимательное отношение к больным» и бескорыстную помощь всем нуждающимся, что ставило их «неизмеримо выше обыкновенного уровня врача-ремесленника». Оба врача были деятельными членами благотворительного общества, в котором Леонов, муж сестры Елизаветы Игумнова, был председателем, а Игумнов – делопроизводителем. Кроме того, Игумнов оставил по себе память устройством в Лебедяни бесплатной народной библиотеки-читальни. В таких же скорбных и выражающих сожаление выражениях по поводу ухода врачей из Лебедянского земства была выдержана заметка в «Листках заразных заболеваний в Тамбовской губернии (№3, 1900).
Возможно, с С.Н.Игумновым всё произошло так, как это было с героем повести В. Вересаева «Без дороги»: «Почти против воли я стал в земстве каким-то enfant terrible председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф; я проработал на эпидемии четыре месяца и …свалился сам, а когда поправился… то оказалось, что во мне больше не нуждаются. Дело сложилось так, что я должен был уйти, если не хотел, чтоб мне плевали в лицо…»
Весной 1899 года родители буквально прогнали Сергея Николаевича в Рязань на т. н. Пироговский съезд. Сравнивая эту поездку с выездом девицы на первый бал, Сергей Николаевич вспоминал потом, что съезд «вскружил ему голову», там его заметили и предложили занять место земского санитарного врача по Александровскому уезду Херсонской губернии. В январе 1900 года он приступил к работе.
Через полтора года его пригласили в Звенигородский и Верейский уезды Московской губернии на более самостоятельную работу, на которой он проработал почти три года и считал этот период самым счастливым в своей жизни15. С.Н.Игумнов окончательно становится признанным представителем общественной медицины и завоёвывает в ней всё больший авторитет.
С марта 1904 года он работает заведующим санитарным бюро Харьковского губернского земства. Больше из Харькова он не выедет до самой своей смерти. Здесь, как и ранее в Лебедяни, Херсоне и Звенигороде, он занимается активной общественной деятельностью, он член различных обществ, комитетов и комиссий, в 1908—1913 гг. преподавал санитарную статистику и организацию медпомощи в Фельдшерской школе. Он становится поэтом и ярким публицистом, сотрудничает с многими газетами и журналами, в частности, с «Врачебной хроникой» Харьковской губернии, пишет статьи на медицинскую тематику, пьесы (1917—1918) и художественную прозу. По своим взглядам он становится крайним либералом, противником всякого насилия. Отвергая непротивление злу насилием, он отвергал насилие тоже. Критикуя власти за тупую «зубодробительную политику», он одновременно умолял Господа Бога «избавить Россию от зажигателей ужасной революции» и проявлять милость по отношению к революционерам. Выход для страны он видел один – «в создании прочного общественного мнения с необходимыми для него либеральными основами общежития, надо поднять культурность населения».
Стихи С. Н. Игумнов писал всю жизнь, но выпустил всего два сборника (1911, 1915). Социальная направленность стихов та же, что и в публицистических статьях. В 1917 же году он в типографии Харьковского губернского земства опубликовал известную брошюру «Земство и его реформы».
Революцию 1917 года С.Н.Игумнов не принял, но в эмиграцию не ушёл, а проработал на медицинском поприще ещё 20 лет. Он был человеком дела, и дел у него всегда было много. Писал статьи к датам и юбилеям, вспоминал историю земства. 5 апреля 1921 года он был избран профессором института народного хозяйства на правовом отделении при кафедре «Правовая основа общественной санитарии». Там же читал санитарную статистику. В 1940 году в Киеве на правах рукописи вышла его книга «Очерк развития земской медицины в губерниях, вошедших в состав У. С. С.Р., в Бессарабии и в Крыму». К сожалению, не были напечатаны многочисленные его рассказы и повести (после него остались 10 толстых тетрадей с их рукописями), а также автобиография на более чем 300 рукописных листах. Всего им написано более 400 произведений, в том числе статьи о творчестве Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, И.С.Тургенева и В.Г.Короленко.
25 октября 1942 года С.Н.Игумнов трагически погиб в оккупированном немцами Харькове. Переходя улицу, он не услышал гудка и попал под автомашину оккупантов. Вероятно, по этой причине он не успел дописать свои воспоминания о себе и других членах семьи Игумновых.
Жена С. Н. Игумнова – Ольга Львовна, урождённая Гельфрейх и уроженка Ельца. Отец её отставной штаб-ротмистр, надворный советник Лев Егорович фон Гельфрейх (1832—1907) был представителем эстляндского дворянства с австрийскими корнями. Мать Ольги Львовны, Ольга Николаевна (умерла в 1907 году) происходила из купеческого рода Хренниковых, с которыми Игумновы уже были в родстве16. Ольга Львовна была профессиональной певицей и принимала самое активное участие в деятельности музыкально-драматического общества Лебедяни. При отъезде из Лебедяни с мужем общество преподнесло ей адрес, в котором отмечался её вклад в культурно-просветительскую деятельность общества: «Общество с особым удовольствием вспоминает, что при первом Вашем появлении на Лебедянской сцене, в декабре 1890 года, в роли Любы в комедии „Сорванец“ Вы сразу приобрели себе симпатии всей местной публики. Впоследствии, вступив уже в число членов местного драматического кружка, Вы исполнили ряд ответственных ролей … (идёт их перечисление) в пьесах…»
Отметив несомненное музыкально-драматическое дарование Ольги Львовны и искренние симпатии публики, «Лебедянское Музыкально-Драматическое Общество, в общем своём собрании 9 января 1900 года, избрало Вас своим Почётным членом».
Адрес подписан 33-мя членами общества.
«На память от искренно любящих и уважающих» её двадцати лебедянцев был преподнесён отдельный адрес.
В Харькове, на ул. Бассейная, 41, Ольга Львовна до революции вела класс пения, организовывала концерты своих учеников, а при советской власти преподавала пение в местной консерватории. В архивах сохранилась афиша за 1930 год с объявлением концерта членов вокальной студии О.Л.Игумновой.
Дочь С. Н. Игумнова – Татьяна Сергеевна Игумнова, (1892—1983), известная советская писательница (романы «Шаги времени», «Маркизетовый поход» и др.), училась в Харькове, потом перевелась в Москву, где поступила на женские курсы, но занималась в театральных кружках и студиях. Во время гражданской войны она оказалась в Ростове и как артистка была мобилизована в Красную Армию, где и познакомилась с Яковом Моисеевичем Ромом.
Узнав о смерти отца, Татьяна Сергеевна добилась места в двухместном истребителе и прилетела во временно освобождённый Харьков, чтобы успеть там побывать на его похоронах.
У Татьяны Сергеевны и Якова Моисеевича родилось двое сыновей: Радомир (1921) и Витольд (1928). В 1948 году Я.М.Рома репрессировали, он вернулся из лагерей только в 1957 году и в этом же году скончался.
Общение Кости Игумнова со старшим братом Николаем, 1859 г.р., затруднялось 15-летней разницей в возрасте. Кстати, Николай Николаевич тоже обладал хорошим музыкальным слухом и памятью, музыку понимал и любил, был большим любителем итальянского пения. Из «старых» композиторов он выше всех ставил венских классиков – Моцарта, Бетховена и Шуберта. «Этих композиторов он любил потому, что находил в их музыке идейное начало, настоящие чувства и мысли», – вспоминал потом К.Н.Игумнов. Интересовался Николай Николаевич также творчеством Шопена и Листа. Впрочем, Шопена он любил меньше, в его сочинениях ему не нравилось любовное начало, «тяготение к женщине». Он говорил: «Пахнет духами».
Позже Николай Николаевич стал увлекался юриспруденцией, с отличием окончил Московский университет и по окончании был оставлен там же на кафедре по истории западноевропейских конституций. Константин Николаевич вспоминал по этому поводу: «Был оставлен у Максима Ковалевского по истории западноевропейских конституций. Но дальше из этого ничего не вышло. Ковалевский должен был уйти из университета. Предмет его был, по новому уставу, вычеркнут из учебного плана, а переходить на общее государственное право брат не пожелал – он не ладил с Алексеевым. В результате он бросил университет – ушёл в судебное ведомство, где и служил до своей смерти».
Дата смерти брата не известна (скончался он, по некоторым данным в 20-х годах прошлого столетия), мы можем лишь предположить, что Николаю Николаевичу пришлось работать и в советской судебной системе, например, при Крыленко. Других сведений о нём и его судьбе пока не обнаружено
Сохранилось его письмо 12-летнему брату Косте из Москвы в Лебедянь:
«Милый Костя!
Неправда ли, какой безсовестный твой брат, сиречь я? Только что собрался тебе написать, да и теперь-то ещё не напишу, потому что сию минуту отправляюсь в театр, так что докончить придётся уже завтра.
Теперь я оказываюсь ещё безсовестнее, чем тогда, когда начал писать тебе это послание: обещал дописать «завтра», т.е. в среду, а дописываю вот в пятницу. Ты завидуешь, что я слышал игру Рубинштейна, которой ты не слыхал. Но, во-первых, зависть вещь очень непохвальная, во-вторых, и завидовать нечего, потому что если ты и не слыхал Руб., то это дело ещё поправимое и поправимое потому, что я могу тебе описать, как он играл. Правда, моё описание будет касаться более внешности, но и это не беда, так как при необходимой доле воображения можно представить себе игру лучше Рубинштейновской: ведь появился же здесь некий Фельдман, который в тёплой комнате вообразит по чистому произволу, когда вздумается, что его рука во льду, и она, его рука, действительно озябнет, т.е. по ней забегают мурашки.
Так вот и ты неполноту моего описания дополни воображением, и будет всё отлично, и завидовать тебе не придётся.
Руб. сидит за роялью на стуле не особенно близко к ней, но и не особенно далеко от нея; приблизительно разстояние его живота в области, лежащей выше пупка и прямо над ним, выражаясь анатомически, regionis epigastrical до ближайшей части клавиатуры равнялось 15—15½ дюймам. Ноги обязательно вытянуты вперёд и обе покоятся на обеих педалях, так как, по его мнению, душа рояля в педали. Это его мнение понятно: всегда ведь говорят, что у испуганного душа в пятки убегает, а так как Руб. не щадит рояля, то последняя, когда за ней сидит Руб., и пугается, вследствие чего ея душа улепётывает в педаль, т.е. в пятки рояля.
Далее. Руки Руб. поднимает невысоко, голову немного свешивает на грудь и чуть-чуть едва заметно набок, закрывает глаза (далее неразборчиво) … так как несмотря на то, что я ему хлопал из желания, испугав его, заставить его раскрыть рот, но, к сожалению, мне это не удалось); прибавь к этому, что он сопит так, что сап его слышен хорошо на разстоянии 5¾ аршин, порядочно на разстоянии 5—7½, плохо – на разстоянии до 10 аршин, и далее аршин на 11—12 – с величайшим трудом, впрочем, но можно услыхать.
Ты пишешь, что мне больше понравился Шопен, но ты не знаешь, что до самого последнего времени я его считал за весьма легкомысленного композитора, писавшего одни польки. В последнее время я узнал, что это мнение неверно. Точно так же я изменил мнение и о Моцарте, прежде я считал его великим, но теперь потерял к нему уважение, так как он, несчастный, писал преимущественно фугами (!!!!) Душевно сокрушаюсь безграмотностью ваших музыкантов (об училище!)
До свиданья! Будь здоров. У вас скоро конец четверти? Целую тебя (далее неразборчиво). Поцелуй папу, маму, няню, всем поклон. Всего хорошего».
Мы чувствует в тексте и взрослую снисходительность к младшему, и рисование собой, умным и остроумным человеком, и равнодушие к великим мира сего, претензию на оригинальность суждений и мнений, но и тёплую искреннюю любовь к брату. Отличное письмо, дышащее воздухом искренних заблуждений и исканий давно ушедшей эпохи!
Мало сведений сохранилось и о сестре К.Н.Игумнова Елизавете Николаевне (1866—1927). Она скончалась и похоронена в Воронеже, не достигнув полных 62 лет. Как мы уже писали выше, она вышла замуж за Дмитрия Николаевича Леонова (1858—1943), уроженца Ельца, получившего медицинское образование в московском университете в 1886 году. Брак Елизаветы Николаевны с Дмитрием Николаевичем Леоновым зарегистрирован 19 мая 1893 г. за №8 в Новоказанском соборе Лебедяни. Ей было 26, ему – 35 лет, Свидетелями со стороны жениха выступали брат Сергей и Николай Петрович Игумнов, а со стороны невесты – старший брат Николай и Иван Петрович Калашников.
По выражению коллеги, родственника и друга Леонова – Сергея Николаевича Игумнова, Дмитрий Николаевич «был типичным земским врачом, тянувшим его подвижническую лямку и ухитрявшимся порою, что называется, на обухе рожь молотить, и в тоже время значительно возвышался над общим уровнем земско-врачебной среды…» Он ещё студентом сблизился с народническим кружком Н.Н.Златовратского и пронёс идеи народничества через всю свою жизнь.
После университета он некоторое время поработал волонтёром в земской больнице родного Ельца, а в начале 1887 года вместе со своим товарищем А.И.Вигреном, окончившим курс университета годом раньше его, поступили вдвоём на одно место в Лебедянское земство, где терпя лишения, холодное, а иногда враждебное отношение к себе со стороны власть предержащих, не бунтуя, не протестуя, тихо и спокойно делали своё дело и буквально в короткое время резко изменили к лучшему климат и состояние дел в земской больнице.
После Лебедяни Леонов работал в Воронеже – сначала в амбулатории Красного Креста, потом городским врачом. Там под его руководством была выстроена городская больница для заразных больных, но в благополучные годы функционировавшая как родильный дом и терапевтическая больница. Так он продолжал трудиться на почве воронежского здравоохранения и в советские годы. «И вот ему 68 лет», – писал С.Н.Игумнов, – «у него 40-летний блестящий стаж, работает и теперь, как вол, и на работе заткнёт за пояс многих молодых».
В предвоенные годы Леонов работал главным врачом воронежской тюремной больницы им. Гааза, а до эвакуации в октябре 1941 года в Ташкент – её консультантом.
В 30-е годы Леоновы проживали в здании Воронежского краеведческого музея на ул. ул Бехтерева, 36. Это явствует из письма Ушаковой Н. Д., отправленного в 1937 г. из Москвы, Сивцев Вражек 38 кв. 1. Она пишет Леоновым о том, как К.Н.Игумнов с ней и своими учениками возлагали цветы на могиле Танеева.
В ташкентскую эвакуацию Д.Н.Леонов отправился с детьми Верой и Еленой и внучкой (дочерью Елены). Там в 1943 году бывший земский врач и умер.
О Д.Н.Леонове и семерых детях Леоновых. рассказала нам проживающая в Воронеже их внучка Е.А.Рагозина: Сергей, 1896 г.р., без вести пропал в 1918 году; Николай (1897—1958), биолог, выпускник МГУ, уехал в Ташкент на укрепление национальных кадров Среднеазиатского университета, полиглот, со знаниями во многих областях науки, в звании майора служил военным переводчиком в Иране, дружил со Львом Николаевичем Гумилёвым; дочь Елизавета умерла в возрасте 15 лет от перитонита; сын Дмитрий (1903—1983) снискал себе уважение и почёт на краеведческой и археологической ниве; дочь Ольга, 1906г.р., умерла в младенческом возрасте; дочь Вера (1908—1983) нашла себя в библиотекарском деле; а дочь Елена (1908—1995), в замужестве Рагозина, прожила трудную и честную жизнь, работала учителем физкультуры, но главным образом была домохозяйкой.
Вот таким беспощадным образом судьба распорядилась со всеми родными и близкими К.Н.Игумнова.
14
На этом воспоминания С.Н.Игумнова обрываются вообще.
15
Кстати, в Звенигородской больнице в 1884 г., замещая уездного приятеля, работал А.П.Чехов.
16
Женой П. И. Игумнова была Мария Николаевна Хренникова, вероятно сестра Ольги Николаевны.