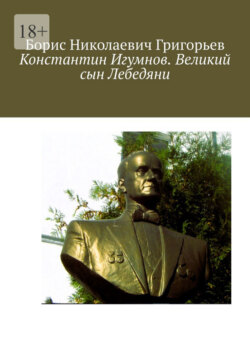Читать книгу Константин Игумнов. Великий сын Лебедяни - Борис Николаевич Григорьев - Страница 8
Часть первая Истоки
Глава 5 Жули-Мули
ОглавлениеСама ты знала свой удел,
Но до конца, как прежде,
Твой голос, погасая, пел
О счастье, о надежде.
Н.А.Некрасов «Памяти Асенковой»
Яркой представительницей рода Игумновых была кузина К.Н.Игумнова – Юлия Ивановна Игумнова (5 марта 1871 – 15 февраля 1940), тоже уроженка Лебедяни и наперсница его детских лет. Дома их родителей, родных братьев Николая Ивановича и Ивана Ивановича-мл. (1835—1874), стояли неподалёку друг от друга, так что они часто играли вместе во дворах на Дворянской и на Христорождественской улицах, гуляли по крутому берегу Дона, совершали экскурсии в Троицкий монастырь за ландышами и подснежниками.
Родители её – Иван Иванович (младший) и Елизавета Николаевна Игумновы – рано ушли в мир иной. К концу века семья обеднела, и члены её навсегда покинули Лебедянь и рассеялись по всей России. Ю.И.Игумнова получила известность как человек, входивший в окружение Л.Н.Толстого, но и как талантливая художница, специализировавшаяся в жанре портрета и анималистики, она вполне заслуживает самостоятельную известность. Родная сестра Юлии – Варвара – была пианисткой.
В метрической книги Старособорной Казанской церкви г. Лебедяни за 1871 год в разделе родившихся за №6 записано:
«Коренного Лебедянского жителя потомственного почётного гражданина Ивана Ивановича Игумнова и его законной жены Елизаветы Николаевны родилась 5 марта, крещена 6 марта дочь Юлия.
Воспреемники: Лебедянский житель потомственный почётный гражданин Николай Иванович Игумнов и вдова Марья Васильевна Проскурина.
Совершал таинство крещения священник Михаил Добротворцев»17.
Как мы видим, крёстным отцом Юлии стал будущий отец Кости Игумнова.
В 1889 году Юлия начала самостоятельную жизнь в Москве, поступив в качестве «вольной посетительницы фигурного класса» в Училище живописи, ваяния и зодчества (УЖВЗ). В РГАЛИ хранится её личное дело, в котором, к сожалению, процесс и результаты её учёбы в училище не отражены. Оно было заведено в 1889 году и дополнено документами в связи с её переездом в 1896 году в Петербург и поступлением там на живописное отделение Императорской Академии художеств.
В начале 1889 года мать Юлии Ивановны, Елизавета Николаевна, обратилась в Совет Московского Художественного Общества (СМХО) с просьбой принять её дочь в УЖВЗ и приложила к прошению метрическое свидетельство дочери и её же свидетельство о звании потомственного и почётного гражданина города Лебедяни. Вот текст этого свидетельства, в копии хранящегося в указанном личном деле:
Дано сие из Лебедянской Городской Управы Тамбовской губернии потомственной гражданке Юлии Ивановне Игумновой, имеющей от роду семнадцать лет, девице, для свободного пребывания во всех местах Российской империи, что Городская Управа подписом и приложением печати удостоверяет. Января 14 дня 1889 года.
Подлинно подписали: Городская Голова Проскурин
Секретарь Тимофеев
и приложена печать Городской Управы.
Автор не ошибся: именно «подписом» Городская Управа удостоверила факт её почётного гражданства Лебедяни.
На заявлении матери внизу сделана две приписки: одна о том, что Юлия Ивановна свидетельство о почётном потомственном гражданстве получила на руки, и о том, что метрическое свидетельство выслано в Императорскую Академию художеств за письмом №1002.
В связи с переездом в Петербург Игумнова запросила у Московского обер-полицеймейстера свидетельство о благонадёжности. Канцелярия высшего полицейского начальства Москвы письмом №16758 от 15 июня 1896 года сообщила СМХО о выдаче просительнице такового за №6187 и при этом же письме переслала его по назначению в Совет общества.
После этого вольная слушательница фигурного класса Ю.И.Игумнова обратилась в Контору СМХО с прошением следующего содержания:
«Имею честь просить переслать мои бумаги: свидетельство метрическое, о звании, о моём пребывании в фигурном классе училища, о благонадёжности и три фотографии, заверенные нотариусом, в Высшее художественное училище Императорской академии художеств. Выслать прошу не замедляя».
Резолюция в верхнем правом углу прошения гласит: «Исполнено», а внизу сделана надпись карандашом: «Свидетельство о пребывании в фигурном классе». Это напоминание чиновникам УЖВЗ о том, чтобы они подготовили этот вид аттестата. Все другие документы для отсылки в Петербург были уже готовы.
Историю с переездом в Петербург завершает отношение М. И. Д. Императорской Академии Художеств от 9 сентября 1896 года. В нём контора СМХО уведомляется, «что присланные при отношении от 24 августа сего года за №1002 документы Юлии Ивановны Игумновой в канцелярии Академии получены».
Теперь, как нам кажется, вопрос с учёбой Ю.И.Игумновой в УЖВЗ окончательно прояснён. Для получения информации о её учёбе в Петербурге необходимо познакомиться с её личным делом ИАХ за 1896—1898 гг.
Появившись в 1898 году снова в Москве, Юлия Ивановна входит в круг семьи Толстых и становится известной как лицо из окружения великого писателя.
В 1899—1910 г.г. она де-факто была неустанным и бескорыстным секретарём и переписчицей произведений писателя. Толстой оставил отзыв о «добродушной и усердной» помощи» Жули Игумновой (так на французский лад звали её Толстые). Дружеские связи у неё были со всеми дочерьми писателя – с А.Л.Толстой, Т.Л.Толстой-Сухотиной, М.Л.Толстой-Оболенской. Игумнова переписывалась с Толстыми и после выезда из Ясной Поляны. Знакомство с семьёй писателя началось, по-видимому, в 1891 году через Татьяну Львовну, обучавшуюся, как и Юлия Ивановна, в Училище живописи, ваяния и зодчества. Зимой 1895 года между ними началась переписка, продлившаяся целых 23 года и, к сожалению, не отразившаяся в известной книге Т.Л.Сухотиной-Толстой.
В Ясной Поляне Юлия Ивановна появится в 1898 году, а с 1899 года она фактически становится помощницей Софьи Андреевны по дому и секретарём и переписчицей Льва Николаевича. В своих воспоминаниях Александра Львовна Толстая пишет, как шла работа над «Воскресением» в 1899 году: вся столовая московского дома в Хамовниках была завалена рукописями и корректурами, и переписыванием занимались все – дочь Татьяна, Софья Андреевна, гости. Юлия Игумнова подключилась к переписке уже в Ясной Поляне, о чём писатель в письме в Москву дочери Татьяне сообщает: «Серёжа с Жули переписывают в гостиной, теперь 12 ч. ночи. Она диктует, он пишет, я им принёс карты для кабалы в награду».
О пребывании Юлии Ивановны в Ясной Поляне Александра Львовна сообщает так:
«Она была чрезвычайно полезна нам в то время, когда сёстры вышли замуж, а я ещё недостаточно подросла, чтобы помогать отцу. Юлия Ивановна не была товаркой Тани и Суллера по школе живописи. Она гостила в Ясной Поляне с подругой, писала портреты. Подруга уехала, а Юлия Ивановна так и осталась у нас на долгие годы. Таня звала её Жули, но французское имя так мало шло к ней, что мы сейчас же переделали …в Жули-Мули».
Из вышеприведенной цитаты дочери Толстого всё-таки не ясно, на каких основаниях Игумнова с подругой оказалась в Ясной Поляне, да ещё осталась там на долгие годы, если она не была «товаркой», т.е. знакомой или подругой Татьяны Львовны. По-видимому, Александра Львовна или ошибалась, или имела в виду, что Юлия Игумнова не была близкой подругой Татьяны Львовны.
Откуда появилось прозвище «Мули»? А вот откуда: Юлия Ивановна имела обыкновение, кому-то в подражание, заменять первую согласную букву на букву «м»: «мобака» («собака»), «марелка» (тарелка» и т. п. Французское имя «Жули» превратилось таким образом в «Мули».
Создаётся впечатление, что Александра Львовна недолюбливала Игумнову. «Жули-Мули была спокойная, добродушная, но с сознанием собственного достоинства девица», – продолжает Александра Львовна. – «Она беспрестанно хохотала, причём скалила свои большие лошадиные зубы, обнажая дёсны и встряхивая короткими волосами. Она любила острить, мягким баском пела частушки, любила масляными красками писать лошадей. Часами полулежа на кожаной кушетке в зале, она могла с тягучей ленью разговаривать неизвестно о чём. Иногда я приставала к ней:
– Жули, нарисуйте мой портрет.
– Твой портрет? Здравствуйте, пожалуйста! Кому же это интересно?».
Не слишком доброжелательные интонации этого высказывания очевидны, замечает биограф Игумновой Л. Галахова. Да и сама автор этих строк признавалась в ревнивом отношении к помощникам отца: «Особенно я ревновала к Жули. Она была много старше меня и в её обращении со мной звучала вполне естественная покровительственно-насмешливая нотка. В такие минуты меня раздражали и её низкий голос, и стриженые, гладкие волосы, её плоские шуточки и бесконечные разговоры с Колей Оболенским о политике, которые Жули обычно вела, растянувшись в зале на кушетке. Я ревновала даже отцовскую собаку Белку…, которую Жули приучила с ней гулять… Но Жули была милым и очень полезным в нашем доме человеком, всегда готовым помочь там, где нужно было».
Сама Юлия Ивановна в письме к Татьяне Львовне в 1899 году увязывает своё присутствие в доме с болезнью Льва Николаевича: «Я ведь и осталась, чтобы помогать Софье Андреевне. На моих руках вся еда».
Из дневника Софьи Андреевны явствует, что она тоже не особенно жаловала Игумнову, но была вынуждена терпеть её, потому что в вечно переполненном гостями доме нуждалась в её помощи. Супруга писателя сперва отнеслась к Игумновой с некоторым недоверием, но скоро убедилась в её аккуратности и усердии и с её присутствием скоро смирилась. А спустя годы Юлия Игумнова станет не только помощницей, но и весьма близким человеком и другом семьи Толстых. Многолетняя дружба связала её, вопреки вышеприведенному мнению Александры Львовны, именно с Татьяной Львовной Толстой-Сухотиной и Марией Львовной Оболенской. Она помогала им в 1902 году ухаживать за больным отцом в Гаспре, о чём свидетельствуют слишком скупые пометки в дневнике Софьи Андреевны и сохранившиеся фотографии. Живущая в Англии О. К. Толстая все яснополянские новости узнавала из писем Игумновой.
Писала Игумнова письма торопливым и неразборчивым почерком, они полны доброты, участия и ненавязчивого юмора. Писала она обо всём: о литературных делах Льва Николаевича, о его здоровье и семейных событиях Софье Андреевне – в Москву, Татьяне – в Кочеты, Марии – в Пирогово (а также в Рим, Париж и Баден, когда М.Л.Оболенская выезжала за границу).
11 марта 1904 года Юлия Ивановна пишет Софье Андреевне: «Вчера вечером Лев Николаевич изгонял из своей комнаты Шекспира, теперь придётся мне заниматься рассылкой этих уже ненужных ему книг»18. Или 13 марта 1905 года сообщает О.К.Толстой о Льве Николаевиче: «Пишет теперь рассказы для „Круга чтения“ и просматривает, и поправляет, и дополняет корректуры».
С 1899 по 1910 гг. Юлия Ивановна помогает Толстому в копировании черновиков и правке корректур к «Воскресению» (1899), «Хаджи-Мурату» (1901), «К политическим деятелям» (1901), «Одумайтесь» (1904), «Об общественном движении в России» (1904), «Единому на потребу», «Кругу чтения», предисловиям к сборникам «Путь жизни» и «На каждый день». Работала она, по словам друга семьи Толстого, врача Душана Петровича Маковицкого, не по принуждению, а по доброй воле: «Это в высшей степени справедливо по отношению к Игумновой. В.Г.Черткову на предложение оплачивать её труд… она отвечает: ˮЯ считаю это своей обязанностью… ˮ»
При этом Юлия Ивановна отнюдь не обладала достаточными материальными средствами, чтобы зарабатывать на жизнь, а потому часто отлучалась из Ясной Поляны, чтобы по заказу московских и петербургских магазинов писать картины и рисунки лошадей и других животных, а также птиц. В конце столетия Игумнова работала у И.Е.Репина в его частной мастерской, выполняя, очевидно, черновую работу подмастерья и тем самым зарабатывая себе на жизнь. Роль приживалки Толстых вряд ли её устраивала.
Впрочем, и в Ясной Поляне она не оставляла своих занятий живописью.
А.Л.Толстая нехотя свидетельствует: «Иногда Жули-Мули преодолевала свою лень, вспоминала, что она художница, и писала очень недурные этюды отца верхом на лошади». А Д.П.Маковицкий писал: «Художница Ю. И. заговорила о своей картине: Лев Николаевич верхом на Тарпане. Намеревается кончить её и повесить у себя. Ю.И. пишет по памяти. Л.Н. ей не позировал. На выставку её не пошлёт. Нет самолюбия: что ей было дорого – сделала».
Честолюбия у Игумновой, как и у многих других представителей этого рода, и в самом деле не было: несмотря на уговоры Маковицкого, она так и не написала собственных мемуаров, а между тем она могла бы поведать много интересного и о жизни в Ясной Поляне, и о Л.Н.Толстом как человеке и писателе. Она не искала выгоды от своего многолетнего знакомства с великим писателем. Жаль, конечно, потому что Юлии Ивановне было что рассказать о нём. Зато она в письме к Татьяне Львовне хвалит записки Душана Петровича: «Они так напомнили мне Льва Николаевича, что я точно слышу его голос».
Толстой высоко ценил помощь Игумновой и отзывался о ней с уважением и благодарностью: «Юлия Ивановна так же добродушно и усердно мне помогает», «Юлия Ивановна много переписывает, и мне совестно за то, что так плохо то, что она так хорошо воспроизводит», «Саша, Душан, Юлия Ивановна – все милые помощники и такие хорошие люди».
Характеризуя «полезную и приятную» Жули, Толстой заносит в свою записную книжку следующее наблюдение: «У каждого человека есть высшее для него миросозерцание, то, во имя чего он живёт…» Касаясь Юлии Ивановны, он заносит её в ряд своих домочадцев и пишет, что у неё миросозерцание эпикурейца – честное и правдивое.
С отцом в оценке Игумновой соглашаются и его дочери:
Т.Л.Сухотина пишет Юлии Ивановне 1 апреля 1902 г.: «Нежно благодарю за заботу о моём папеньке». В своих воспоминаниях Т.Л.Сухотина-Толстая, однако, незаслуженно скупо – всего один раз – упоминает подругу молодости: «3 ноября. Кочеты (имение мужа Т.Л., Б.Г.). Вчера уехал отсюда папá с Юлией Ивановной Игумновой. Прожил от 18 октября до вчерашнего дня (1900 г., Б.Г.)».
М.Л.Толстая (Оболенская) в письме Игумновой от 3 декабря 1900 года пишет: «…думаю по тону твоего энергичного письма, что ты всё так же бодра и энергична и тебе хорошо, потому что ты всё так же умеешь быть всякому полезна и приятна», а в письме от 13 мая 1906 года сообщает Игумновой: «Я тебе уже говорила и повторяю, что всегда, думая о папа, о его болезнях, о его делах – всегда радуюсь, вспоминая, что ты внимательно и с любовью всегда о нём помнишь и за ним следишь. И я знаю, что и ему это приятно, и он очень тебе за это благодарен».
Высоко ценил Толстой и художественный талант Игумновой. Л.Н.Толстой писал дочери Татьяне 1 апреля 1903 года: «Юлия Ивановна (я не люблю ваших кличек – Жули и т.п.) пишет портрет доктора (Гедгофа), заменяющего Никитина, и так хорошо, что тебе завидно будет». Особенно нравился писателю портрет дочери Марии, написанный в конце 90-х годов, вероятно, уже после смерти Марии Львовны. 30 января 1907 года Маковицкий записал слова Льва Николаевича: «Машин портрет её мне лучше нравится, чем Н.Н.Ге, и главное, так похож на неё в последнее время»19.
В своей книге о Толстом В. Ф. Булгаков пишет о том, что портрет Льва Николаевича, выполненный Игумновой после крымской болезни писателя, очень похож на оригинал. Он же упоминает о висевшем в одной из комнат в Ясной Поляне портрете Татьяны Львовны той же руки. Художницу он называет «малоизвестной, но хорошо знавшей семью Л.Н.Толстого».
Софья Андреевна, в противовес мужу, не очень ценила талант Юлии Ивановны – видно, у неё сразу сложилось не совсем благоприятное представление о ней. В её дневнике есть такая запись: «От 12 до 2 позирую для моего портрета, который очень грубо и плохо пишет Игумнова» (11 октября 1899 года, Ясная Поляна).
Тем не менее, имя Игумновой время от времени встречается на страницах её дневника: «Дом весь полон: приехала невестка Соня с двумя мальчиками, живёт Таня с мужем и пасынком. Юлия Ивановна Игумнова, Серёжа, Миша…» (20 ноября 1900 года); «Приехала поздно Соня, болтали с Таней, Жули (Игумновой) и Соней и легли около 2 часов ночи» (22 ноября). 7 ноября Софья Андреевна записывает, что Юлия Ивановна помогала ей и Александре Львовне проверить с приказчиком книжного магазина ход реализации книг Толстого.
Но от чувства внутренней неприязни к Игумновой Софья Андреевна избавиться не может. Дочь Татьяна сделал ей как-то упрёк о том, что дом в Хамовниках содержится в беспорядке. Уязвлённая родительница 12 февраля 1901 года пишет: как же можно навести порядок, «когда в доме вечно живут и гостят разные лица, за собой влекущие каждый ещё ряд посетителей… Живут и Миша Сухотин, и Количка Ге, и Юлия Ивановна Игумнова, и сама Таня…» Вряд ли было справедливо включать в список людей, способствующих беспорядку в доме, Игумнову Ю. И., помогавшую хозяйке именно по дому. Запись от 30 марта истерично гласит: «Дома сегодня опять тяжело: песни Суллержицкого под громкий аккомпанемент Серёжи, крикливый мучительный голос Булыгина, хохот бессмысленный Саши, Юлии Ивановны и Марии Васильевны. Всё это ужасно!» Впрочем, Софью Андреевну тоже можно было понять: она в это время сильно нервничала и переживала из-за отчуждения, возникшего у неё с мужем, так что любые громкие занятия молодёжи в доме её сильно раздражали.
Как бы Софья Андреевна ни относилась к Юлии Ивановне, она, переезжая весной в Ясную Поляну, берёт с собой Игумнову. Дочь Татьяна, сын Сергей и Юлия Ивановна ехали из Москвы со всеми удобствами в директорском вагоне поезда. С декабря 1901 года по июнь 1901 года включительно тяжело больной Толстой находился в Гаспре. Всё это время Юлия Ивановна самоотверженно ухаживала за больным. Дневник Софьи Андреевны в этот период полон тревоги, отчаяния и даже истерики, но в нём нет ни одного слова о присутствии Игумновой. Только уже при отъезде домой она вскользь пишет, что «уехали из Гаспры, Юлия Ивановна тоже».
Дома в Ясной Поляне она снова и снова жалуется на поведение мужа: «С чужими – Юлией Ивановной, доктором и прочими – он учтив и благодарен, а со мной только раздражителен» (запись 23 июля 1902 года). 27 июля она сухо пишет: «Ходили сегодня гулять с Л.Н., Зосей, внуками и Юлией Ивановной до конца деревни». «Гольденвейзер противен своим вторжением в нашу интимную жизнь», – записывает она 19 января 1903 года. Александр Борисович и в самом деле стал бывать у Толстых часто – даже очень часто. Он почти не играл на фортепиано, а играл только в шахматы20. В феврале и марте 1903 года Софья Андреевна в последний раз в своём дневнике упоминает о присутствии в доме Юлии Ивановны.
В списке гостей Ясной Поляны по случаю 80-летия Л.Н.Толстого, составленном Софьей Андреевной, Игумнова уже не фигурирует. Впрочем, в 1908 году Юлия Ивановна отлучалась из Ясной Поляны и гостила в поместье у своей родственницы Неонилы Анненковой в городе Льгове Курской губернии, где продолжала работать над портретами Л.Н.Толстого.
Писатель, философ, литературовед и журналист Н.Н.Гусев (1882—1967), проживший в семье Толстых в 1907—1909 г.г., неоднократно упоминает в своих дневниках о Юлии Ивановне. Из дневника явствует, что она чувствовала себя полноправным членом семьи писателя, присутствуя на общих с Гусевым беседах и постоянно сопровождая Софью Андреевну. Автор дневника описывает эпизод заболевания Льва Толстого гриппом. Лев Николаевич спрашивает у жены и у присутствующей рядом Юлии Ивановны, что это за болезнь такая странная, которой он заболел. Юлия Ивановна со знанием дела поясняет, что появилась новая болезнь – инфлуенца. Писатель удивляется. В другом эпизоде Юлия Ивановна обсуждает с Софьей Андреевной не совсем этичное по отношению к Льву Николаевичу поведение местного архиерея и способы реагирования на него.
Талант Юлии Ивановны как художника-анималиста в полной мере раскрылся уже в Аскании-Нова, куда она уехала в 1914 году. После смерти Толстого она ещё несколько лет оставалась компаньонкой Софьи Андреевны, принимала вместе с ней посетителей Ясной Поляны, сопровождала её в Гаспру летом 1913 года, создала проект ограды вокруг захоронения писателя. В 1911 году она писала Татьяне Львовне: «Мне пришла в голову мысль …оградить не могилу, а место с могилой. Мне кажется, что необходимо, насколько возможно, сохранить всё это место в его первоначальном виде…» В письме прилагался и рисунок ограды, но Софья Андреевна проект отвергла.
Решение о переезде в Асканию-Нова не было случайным. В 1901 году Ясную Поляну посетил таврический дворянин Николай Эдуардович Фальц-Фейн, младший брат основателя и владельца заповедника. Софья Андреевна 3 марта отметила в дневнике: «Приехал чужой посетитель Фальц-Фейн… Л.Н. пошёл с ним походить и поговорить21». Старший брат Фальц-Фейн – Фридрих Эдуардович – в 1910 году тоже хотел приехать в Ясную Поляну, но состоялся ли этот визит или нет, данных на этот счёт не сохранилось. По всей видимости, Н.Э.Фальц-Фейн знал также и кузена Юлии Ивановны, пианиста Константина Игумнова. Игумнова поехала в Асканию-Нова предположительно по приглашению обоих братьев и, судя по некоторым косвенным данным, не желая больше быть в тягость Софье Андреевне.
Заповедник произвёл на Юлию Ивановну сильное впечатление, которым она поделилась с Софьей Андреевной. Кенгуру, ручные газели, страусы, фазаны всех пород, журавли… И ей захотелось там остаться и поработать. Конечно, она скучала по Ясной Поляне и писала, что если бы её дела как-то устроились (вероятно, материальные), она непременно вернулась бы обратно. Впрочем, мечта о возвращении в Поляну исполнилась, но только 20 лет спустя и при слишком неблагоприятных для неё обстоятельствах. А пока она, засучив рукава, принимается за работу в заповеднике Фальц-Фейнов, сочетая занятия художника с работой по уходу за животными – она никогда не чуралась никакой работы. «Под моим наблюдением находятся все птицы, всё, что их касается, всё это мне очень интересно», – сообщает она Софье Андреевне.
Нам не известно, как Юлия Ивановна пережила гражданскую войну – ведь заповедник Аскания-Нова был театром военных действий с участием Конной армии С.М.Будённого, батек Махно, Григорьева и многих других. Известно только, что на 27 июля 1920 года Юлия Ивановна продолжала состоять служителем заповедника при диких птицах. Как всегда, она бралась за дело со всех сторон, а когда в заповеднике не стало рабочих и специалистов, она взяла на себя роль смотрителя. Во время революции и гражданской войны она оставалась в заповеднике и оберегала животных и птиц от полного истребления. Дочь орнитолога А.А.Шуммера – Людмила – вспоминала, что Игумнова была крупной женщиной «всегда в мужской куртке, в фуражке, а за ней хвостом ходил степной журавль. Жила она в маленькой комнатке на территории зоопарка рядом с Сиянко»22.
20 лет службы в заповеднике не спасут художницу от «госаппаратных чисток» 30-х годов. Её-таки выжили из заповедника как «чужеродный элемент», и в 1935 году, оставшись без средств существования, она ходатайствует о назначении персональной пенсии, а в 1937 году, тяжело больная, возвращается в Ясную Поляну23.
Поселилась она в доме потомков старого своего знакомого, Филиппа Родионовича Егорова, бывшего кучера Л.Н.Толстого, уже умершего к этому времени. Потомки современника писателя были людьми иного склада и, кажется, встретили её не очень тепло. Это видно из её катастрофически тяжёлого положения, в котором она оказалась в Ясной Поляне.
В её архиве сохранились письма к Софье Андреевне Толстой-Есениной, учёному секретарю Государственного музея Л.Н.Толстого в Москве и внучке великого писателя, которую знала ещё ребёнком. Письма эти просты и глубоко трагичны, пишет Галахова. Вот одно из них, отправленное 20 апреля 1938 года: «Милая Соничка! У меня к тебе большая просьба: купи, пожалуйста, мне керосинку… Хозяева мои у меня уже перестали топить… Как поживает Ольга Константиновна? Я вообще стала мало подвижна. Я уже совсем не переношу холод… Я, наверное, уже никогда не поправлюсь…»
С дровами в достаточно лесистой Тульской области всё ещё обстояло плохо.
Она скончалась 15 февраля 1940 года в Москве. Вероятно, Толстая-Есенина всё-таки взяла её в Москву на своё попечение. Как бы то ни было, похоронена она на фамильном кладбище Толстых в Николо-Кочаковском некрополе, что в 17 км южнее Тулы. Старая могильная плита расположена между могилами внуков писателя. Надписи на ней нет24.
По словам старейшего работника яснополянского музея Н.П.Пузина, ряд эскизов и рисунков, привезенных Ю.И.Игумновой из Аскании-Нова, пошли на растопку печей в Ясной Поляне в самом начале войны. Сохранившиеся работы Ю.И.Игумновой хранятся в Государственном музее Л.Н.Толстого (ГМТ), в частности, её рисунки и несколько работ маслом: портреты Л.Н.Толстого и Т.Л.Сухотиной, картина «Л.Н.Толстой верхом на Делире» и некоторые др.
Есть сведения о том, что учёный секретарь Украинского комитета охраны памятников культуры некто по фамилии Тихий в записке Наркомзему от 11 марта 1930 года предлагал вывезти из Аскании-Нова очень ценные картины и передать их в Харьковский художественно-исторический музей, но из этого ничего не вышло. Картины, судя по всему, «разбрелись» по свету, поскольку хранились якобы в частных квартирах сотрудников заповедника.
В книге «Кочаковский некрополь» Н.П.Пузин приводит слова Юлии Ивановны, своего рода итог пережитого: «Я хотела бы умереть только в Ясной, с которой у меня связаны самые хорошие и светлые воспоминания моей жизни».
Ах, Жули, Жули… Хоть эта её мечта нашла своё воплощение. Тульская земля приняла её многострадальное тело в свои объятья.
Жизнь Юлии Ивановны Игумновой ещё ждёт своих исследователей.
17
ГАЛО ф. 273 опись 5 дело 36 лист 247/об. – 248.
18
Как известно, Л.Н.Толстой не любил произведения У. Шекспира.
19
Картина была подарена мужу Марии Н. Л. Оболенскому и ныне хранится в ГМТ.
20
В последние годы жизни Гольденвейзер вместе с В. Чертковым станет одним из близких к Толстому человеком и примет участие в составлении последнего завещания писателя.
21
Н.Э.Фальц-Фейн после тяжёлой болезни потерял молодую жену и остался с двумя детьми.
22
Климентий Евдокимович Сиянко, ближайший помощник Ф. Э. Фальц-Фейна.
23
Подробности её жизни в этот период получить не удалось – архивы не сохранились.
24
Сведения о смерти Ю.И.Игумновой в г. Льгове Курской области кажутся нам ошибочными.