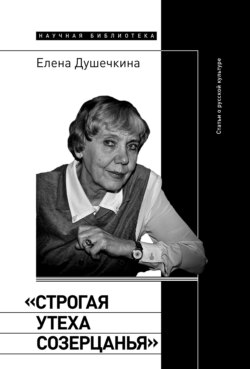Читать книгу «Строгая утеха созерцанья»: Статьи о русской культуре - Елена Душечкина - Страница 5
1. Древнерусская литература
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЧУЖОЙ РЕЧИ В РУССКОМ ЛЕТОПИСАНИИ
ОглавлениеБольшинство исследований, предметом которых является русское летописание, посвящено изучению летописи в основном с двух точек зрения. Одни из них подходят к ней как к источнику, который предоставляет материал для истории самых разнообразных сторон бытия восточнославянских племен и русского государства соответствующего времени. При этом непосредственными объектами изучения могут служить быт, экономика, религия, история отдельных княжеств, биографии князей, политические формы существования и т. п. Работы этого типа подходят к фактам, встречаемым в летописи, как к верному или неверному отображению реально бывшего. Они либо пользуются ими как достоверными данными, либо отвергают их на основании более достоверных источников, если таковые имеются. Работы второго типа изучают историю летописного текста – редакции, изводы, списки, пытаясь восстановить первоначальный текст летописи и историю движения этого текста. Мы имеем в виду, в первую очередь, работы А. А. Шахматова и ученых его школы. Оба эти подхода не только закономерны, но и доказали многочисленными работами свою плодотворность и необходимость. Но при взгляде на летопись как на явление литературы, факт словесного творчества, работы этих двух типов мало что могут дать, так как для этого, последнего, подхода летописный факт представляет интерес не со стороны его соответствия действительности, а со стороны его изображения в летописи.
Первым и чуть ли не единственным дореволюционным исследованием, посвященным литературной природе русских летописей, является работа М. И. Сухомлинова «О древней русской летописи как памятнике литературном»42. Определяя литературоведческие задачи изучения летописи, автор пишет:
Особенности древней летописи, как произведения литературного, могут быть наблюдаемы в двух отношениях: во-первых, в самом содержании летописи – в тех данных, из коих она составлена; во-вторых, в способе сообщения данных, излагаемых в определенном порядке. Упоминание одних происшествий и опущение других, большее или меньшее сочувствие при передаче событий, случайность или обдуманность в приведении известий, и т. п. – вот предметы, рассмотрение коих знакомит с отличительными свойствами литературного труда. Разнообразие подобных предметов приводится к двум главным отделам – к обозрению того, что и как передано потомству писателем43 (курсив автора. – Е. Д.).
Таким образом, М. И. Сухомлинов ставит для исследователя литературы два вопроса – что выбирается для изображения из всего разнообразного множества событий и явлений и как это выбранное изображается.
Целью настоящей работы является рассмотрение природы такого летописного факта, как чужая речь. Правомерность этой темы обосновывается тем, что летопись необычайно широко приводит речи одних действующих лиц, ссылается на речи и высказывания других; при чтении летописи создается впечатление постоянного обмена мнениями, сведениями, многократно сообщаются намерения, высказываются отношения к тому или иному факту и т. п. Ни один другой жанр в древнерусской литературе не предоставляет этот материал (т. е. материал чужой речи) в таком неограниченном количестве при самых разнообразных способах его выражения. Прежде чем перейти к постановке проблемы, мы предлагаем обзор исследований, которые разрабатывали данную тему или же в той или иной мере касались ее.
Работы, посвященные изучению литературной природы русских летописей, неизбежно затрагивают вопрос о прямой речи. Не раз уже отмечалось, что обилие прямой речи в русских летописях является одной из характерных особенностей, которая не свойственна ни византийским, ни западноевропейским хроникам. В связи с этим был поставлен и решен ряд вопросов, касающихся данной темы. В упомянутой нами работе М. И. Сухомлинова намечается тот подход к летописным «речам», который характерен и для более поздних работ. М. И. Сухомлинов считает, что «форма разговора (т. е. прямая речь. – Е. Д.) составляет одну из главнейших особенностей летописного изложения»44. Для этого подхода характерны поиски источников «разговорной формы», которая нашла отражение в летописи. Один из этих источников М. И. Сухомлинов видит, вслед за А. Шлецером45, в библейских книгах и объясняет их влиянием библейского способа повествования; другим источником, по его мнению, является живая народная речь, следы которой видны «преимущественно в разговоре лиц, упоминаемых в летописи»46. Почему именно на летописные разговоры «живая народная речь» имела такое влияние? На этот вопрос М. И. Сухомлинов дает следующий ответ: синтаксическая основа письменного древнерусского языка была очень проста. Простота эта приближала его к разговорной форме, т. е. к устной речи. А поскольку летописцу очень часто приходилось передавать живую речь, то естественно, что именно в «речах» эта форма нашла свое наиболее яркое отражение. Однако при этом М. И. Сухомлинов не дает ответа на вопрос, почему летописцу необходимо было так часто приводить эти «речи», почему форма «речей» стала столь распространенной в русской летописи (в отличие, например, от западных или же византийских хроник).
Далее автор констатирует, что в форме прямой речи (или, как он пишет, в форме разговора) в летописи всегда выражалось решение или обдумывание – «единственно в силу той неоспоримой истины, что мысль и слово связаны друг с другом неразрывно»47. В дальнейшем многие из подобного рода «речей» начинают передаваться «в обыкновенной форме повествования», т. е. в авторской речи.
И наконец, М. И. Сухомлинов пишет о существе передаваемых в летописи «разговоров». Они, по его мнению, «сообразны духу времени», просты и естественны. «В способе сообщения их не видно ни малейшего желания придавать искусственную обделку словам собеседников, просто и прекрасно выражающим мысли, вполне соответствующие быту тогдашнего времени»48.
Среди работ последнего времени в первую очередь заслуживают внимания исследования Д. С. Лихачева49, в которых дается генетическая классификация типов прямой речи. При этом называются три возможные источника их – действительность, фольклорные произведения и письменные памятники, в частности, житийного характера:
<…> в летописи мы можем встретить следующие типы прямой речи:
1. Чаще всего летописец вносит в свою летопись жизненно-реальную речь, воспроизводит действительно произнесенную речь как документ, по возможности не изменяя ее.
2. С другой стороны, прямая речь в летопись вносится на основании фольклорного произведения; в этом случае она отражает особенности фольклорной прямой речи.
3. Наконец, прямая речь вставлена в летопись вместе с отрывком житийного произведения (например, «Сказание о Борисе и Глебе»), в такой прямой речи может ощущаться сильный налет книжности: речи святого пересыпаны цитатами из молитв и псалмов – они по большей части не воспроизводят действительно произнесенные речи, а служат религиозно-нравственным целям50.
Анализируя первый тип летописных речей, Д. С. Лихачев отмечает, что «речи» эти выделяются «своим жизненно-конкретным, а не вымышленным характером», что читатель имеет дело не с книжной речью, а с живой, устной, «с речью, которая близка к действительно произнесенным словам»51. «Русские летописи с поразительной точностью заносили сказанные в исторических обстоятельствах слова, они верно сохраняли все формулировки»52, – пишет по этому поводу Д. С. Лихачев. Для того чтобы показать, каким образом летописец мог достаточно верно воспроизводить «речи», которых он сам не слышал, Д. С. Лихачев обращается к опыту дипломатических, воинских и вечевых «речей». Описывая характер древнерусского посольского обычая, исследователь отмечает, что переговоры между князьями в XI–XIII вв. на Руси велись устно через послов, что послы передавали порученные им «речи» в точном виде. Посол при исполнении своих обязанностей становился как бы заместителем князя, так что оскорбление, нанесенное послу, приравнивалось оскорблению, нанесенному князю, от лица которого этот посол выступал. Причем посол не мог изменять по-своему порученные ему «речи» и передавал их, «соблюдая грамматические формы первого лица – от лица пославшего»53.
Посольские речи от лица князей, – пишет Д. С. Лихачев, – настолько вошли в практику русской жизни, что летописец нередко, говоря о посольских речах, не упоминал о после, который эти речи передавал. Отсюда очень часто при чтении русской летописи создается впечатление, что князья, разделенные огромными расстояниями, свободно переговариваются друг с другом54.
Д. С. Лихачев считает тесно связанными два вопроса – вопрос о точности передачи порученных послам «речей» и о точности занесения их в летопись.
Если «речи» передавались послами в более или менее законченных формулировках, то и в отчетах послов <…>, и в записях самих летописцев формулировки эти, конечно, сохранялись не менее бережно55.
Практика посольского обычая не могла не выработать таким образом готовых формулировок, которые, благодаря лаконизму и выразительности, облегчали запоминание и передачу речи.
Итак, говоря о первом типе летописных «речей», Д. С. Лихачев указывает на их документальность и историчность.
При анализе второго типа прямой речи в летописи исследователь показывает, каким образом фольклорный источник повлиял на передачу некоторых диалогов и «речей» – например, на диалог Ольги с древлянами.
Что же касается чисто литературных функций прямой речи, то они, по мнению Д. С. Лихачева, «были неизвестны летописцам до конца XV века»56. «Летопись прежде всего историческое произведение, и прямая речь в ней также исторична»57.
И. П. Еремин развивает и в некоторых случаях уточняет вопросы, затронутые Д. С. Лихачевым58. И. П. Еремин различает три типа оформления летописного материала – погодная запись, рассказ и повесть. Речи действующих лиц повествования, по его мнению, являются характерной особенностью летописного рассказа и повести. В погодных записях «речи» встречаются очень редко, там «они не получили широкого развития»59. Летописный рассказ, напротив, «иногда целиком состоит из одних речей и обмен ими и составляет все содержание его»60. Указывая вслед за Д. С. Лихачевым на документальный характер «речей» в летописи, И. П. Еремин вносит поправку в тезис о буквальности внесения в летопись некоторых высказываний действующих лиц. В качестве доказательства в статье приводятся примеры летописной переработки, следы которой «иногда проступают весьма отчетливо»61. Цитируется, например, речь, которую летописец-киевлянин вкладывает в уста черниговцев и в которой четко проступает позиция киевлян.
Таким образом, ставя вопрос о происхождении летописных «речей», И. П. Еремин признает их переработку. Иными словами, «речи» персонажей не только воспроизводят подлинные слова, но и представляют собой факт литературы: «…рассказ по самой своей природе тяготеет к прямой речи; она для рассказчика и проще и легче»62, – пишет И. П. Еремин. Значит «речи» не только отражают реальность, но и являются для летописца наиболее удобной формой передачи ее, в то время как «речи античных историков – „литературная фикция“, часто прием, украшающий повествование»63. Документальность летописных «речей» состоит не только в конкретности, деловитости, фактичности, правдивости, но и в передаче интонаций некоторых из них.
Охарактеризовав документальность прямой речи в летописи, И. П. Еремин пишет о той же документальности языка летописи в целом: «Документален, наконец, самый язык летописи, ее удивительный словарь, весь насыщенный терминами своего времени, ходячими в феодальной среде XII в. словами и оборотами речи»64. Таким образом, оказывается, что основные черты «речей» не являются специфическими при сопоставлении с авторским текстом.
В последнее время вышел коллективный труд «Истоки русской беллетристики», авторы которого ставят перед собой задачу анализа элементов сюжетного повествования в древнерусской литературе65. В главе «Сюжетное повествование в летописи в XI–XIII вв.»66 вместе с рядом других вопросов вновь ставится вопрос о прямой речи в летописи. Общее направление труда определило и подход к данной проблеме – прямая речь в «Повести временных лет» является, по мнению автора главы, «основным приемом сюжетного повествования»67. О. В. Творогов предлагает разделение прямой речи на документальную, иллюстративную и сюжетную.
Документальная речь исторична (или считается таковой по преданию), она значительна по содержанию, существенна для понимания исторических событий68.
Отличительной чертой второй разновидности прямой речи
является «иллюстрация» фабулы, «оживление» описываемых событий. При введении в текст этого типа прямой речи ничего нового не добавляется, хотя ей и свойственны порою разговорные интонации. Летописец еще не решается отойти от требования документальности, поэтому иллюстративная речь в основном пересказывает то, что происходит, она легко воссоздается на основе ситуации69.
Третья разновидность прямой речи (сюжетная) встречается при передаче частных бесед, внутренней речи персонажей, вводится как средство их характеристики. Это эмоциональная, психологическая речь, и она «является одним из важнейших компонентов сюжетного повествования»70. Далее автор иллюстрирует свои положения на примерах, показывая, в чем сказывается необходимость включения в текст летописных «речей», различных психологических деталей, которые не могли быть вызваны лишь одним стремлением к документальной передаче событий.
Как уже было сказано, задачи труда в целом подсказали автору именно такой подход к проблеме прямой речи, поскольку целью его является история сюжетного повествования. Авторы книги отмечают, что деловые памятники, в том числе и летописи, в меньшей мере обладают сюжетными элементами, чем чисто художественные тексты, однако, по их мнению, в некоторые части летописного текста, в частности в летописные повести, уже начинают с самого начала проникать элементы сюжетного повествования, одним из которых и является прямая речь.
Таким образом, вопрос о зависимости летописных «речей» от действительности можно считать в достаточной степени решенным. В этом убеждают нас и работы, посвященные изучению прямой речи в летописи с лексической точки зрения. Так, Т. Н. Кандаурова в статье «Полногласная и неполногласная лексика в прямой речи летописи»71 ставит своей задачей проследить разницу в употреблении полногласной и неполногласной лексики в «речах» различных представителей древнерусского общества. Автор исходит из представления о том, что летописные «речи» дают материал именно для изучения разговорной речи Древней Руси в наиболее полном для нас виде.
Поскольку воспроизводимая летописцем прямая речь <…> дает некоторый, пусть незначительный и требующий дальнейших корректив, но тем не менее единственный возможный материал для суждения об особенностях живой речи соответствующего времени, мы, по мере возможности, попытаемся сравнить (в интересующем нас плане) встречающиеся в летописи «речи» князей, духовенства и представителей народа, «речи», вкладываемые в уста «людей русских», и речи греков, половцев и т. п.72
Выводы, к которым приходит Т. Н. Кандаурова, позволяют
убедиться в наличии явных следов языковой дифференциации воспроизводимых в «Повести временных лет» «речах» представителей различных культурных слоев населения73.
Аналогичный подход характерен и для ряда других лексикографических работ74.
Подводя итоги исследованиям по проблеме прямой речи в русском летописании, следует сказать, что они были посвящены решению двух вопросов – вопросу генезиса прямой речи в летописи и вопросу места прямой речи в построении летописного сюжета. Первый вопрос при этом решается следующим образом. Летопись в целом произведение документальное, отсюда и «речи» как один из объектов летописного изображения – документальны и историчны. Поэтому они, с одной стороны, представляют собой факт истории (как высказывания исторических личностей), и с другой стороны – факт разговорного языка, ибо именно в речах он отражается наиболее точно. Отсюда следует, что летописные «речи» могут служить более или менее достоверным источником для истории тех или иных отношений древнерусского общества и, кроме того, предоставляют материал для изучения разнообразных сторон разговорного языка.
«Выдуманности», «литературности» в этих «речах» почти нет. Однако в летописных повестях «речи» эти являются одновременно одним из приемов сюжетного повествования.
В предлагаемой нами работе мы уже не будем касаться решенных вопросов. Подход к этой теме у нас иной.
Определение предмета исследования: чужая речь в древнерусских текстах
В разобранных нами литературоведческих исследованиях одно и то же понятие обозначено порою различными терминами. Интересующее нас явление называют иногда прямой речью, т. е. понятием из области синтаксиса, в котором прямая речь понимается как один из способов передачи чужой речи. Иногда его называют «речью», применяя при этом чисто риторический термин и ставя его в кавычки, желая подчеркнуть отличное от риторики значение этого термина. Однако значительное количество форм высказываний, встречающихся в летописи, можно назвать «речами» только с большой натяжкой. Или же, наконец, используются такие расплывчатые термины, как «разговорная форма» или просто «разговорность». Это последнее определение относится скорее к сфере бытования языка (устного или письменного). При этом исследователи нередко имеют в виду одно и то же явление, а именно способы и принципы отражения в летописи речевой деятельности, чужого высказывания. Поэтому прежде всего необходимо определить границы прямой речи в древнерусском тексте. Что же собственно можно отнести к прямой речи, а что – к речи собственной (или авторской)? Обычно этот вопрос решается интуитивно. Однако специфика древнерусской книги, пунктуации и письма не делали его столь очевидным. При рассмотрении вопроса о прямой речи следует учитывать особенности древнерусской пунктуации, в которой не существовало знаков выделения прямой речи. В то время как современная пунктуация обладает особыми сигналами прямой речи (кавычки, красная строка, тире), в древнерусских текстах такие сигналы отсутствовали. Тем не менее читатель почти всегда безошибочно может определить, чья речь приводится в тексте. Прямая речь вводится словами автора, которые, как правило, заключают в себе ответ на вопросы, кто является адресатом и адресантом речи. «Включение прямой речи в текст повествования непосредственно без авторского контекста очень редкое явление. Чем древнее памятники, тем реже оно наблюдается»75, – пишет А. И. Молотков. Слова автора содержат в себе глагол говорения, стоящий перед речью говорящего персонажа. Таких глаголов два – «речи» и «глаголати»76. По данным, приведенным в работе А. И. Молоткова, 98% конструкций с прямой речью вводится этими глаголами77. Это по смыслу самые общие глаголы говорения, не содержащие в себе никакого другого признака, кроме самого говорения. Многочисленные адекваты, использующиеся в современной литературе, начинают употребляться в более поздних текстах. Мы имеем в виду заменители типа оплакивать, отвечать, возражать, шептать, кричать, произносить и т. п.78 Помимо подобных глаголов возможны заменители, не несущие в себе семантики говорения, но в данной ситуации имеющие кроме своего основного значения и значение говорения, например засмеяться, заплакать и т. д.79 Они характеризуют прямую речь и одновременно выполняют функцию глаголов говорения. Поскольку эти глаголы могут употребляться в качестве описания поведения какого-либо лица и не вводя прямую речь, то они сами по себе не могут служить ее сигналом. Поэтому в древнерусских текстах при наличии подобных глаголов обязательно присутствует глагол говорения и употребляются конструкции типа: «засмеяся и рече», «отвечаше и рече», «моляше Бога всегда глаголя» и т. п. Например:
«…и нача молитися Богу со слезами, глаголя…» (105);
«отвещавши Ольга, и рече к слом…» (45);
«Отвещавше же дружина, рекоша Володимеру…» (148).
«Такое двойное указание на передачу речи в авторском контексте в древнерусском языке можно проследить в самых различных формах», – пишет А. И. Молотков80. Обязательным условием введения в текст прямой речи является употребление слов автора только перед прямой речью81.
Так что общий синтаксис конструкции с прямой речью выглядит следующим образом: характеристика говорящего в момент говорения, глагол говорения («рече», «глагола»), адресат речи, прямая речь82. Первый компонент очень редок, третий не обязателен, если из контекста ясно, к кому обращается говорящий83. В тех же ситуациях, когда речь произносится для себя, он, естественно, не приводится. В последнем случае употребляются конструкции типа: «рече в себе», «рече в сердце своем», «помышлявше в себе, рече», «глаголя в сердце своем, яко» и т. п. Если прямая речь прервана авторским рассуждением, все начинается сначала, опять вводится речевая ситуация. Например:
Рече ему Волга: «Видиши мя болну сущу; камо хощеши от мене ити?» Бе бо разболела уже; рече же ему: «Погреб мя, иди, ямо же хощеши» (48).
Такая форма введения прямой речи в древнерусской литературе при специфических формах бытования письменного текста является средством достижения понятности. Она не является необходимой в современном тексте, пунктуация которого обладает другими чертами, отчего и формы прямой речи более разнообразны и подвижны, вплоть до полного отсутствия слов автора при передаче диалога, состоящего из целого ряда реплик84.
Иначе обстоит дело и в фольклоре, где также не обязательны конструкции, вводящие прямую речь, что обусловлено устным бытованием текста, а значит – возможностью интонирования.
Общеизвестным фактом является наличие в языке нескольких форм передачи чужой речи в языке: косвенная, прямая и несобственно-прямая речь. «Каждая форма передачи чужой речи по-своему воспринимает чужое слово и активно его перерабатывает», – пишет В. П. Волошинов85. Тем не менее по ряду причин древнерусскому языку свойственна по преимуществу лишь одна из этих форм, а именно – прямая речь. В. П. Волошинов, разрабатывая проблему усвоения чужого слова авторским контекстом, считает, что
основная ошибка прежних исследований форм передачи чужой речи заключается в почти полном отрыве ее от передающего контекста <…> Истинным предметом исследования должно быть именно динамическое взаимоотношение этих двух величин – передаваемой («чужой») и передающей («авторской») речи86.
Взаимоотношения эти могут быть самыми разнообразными – от почти полного слияния авторского контекста с передаваемым высказыванием до почти полной аутентичности чужого слова. В последнем случае усвоение чужого высказывания тоже может быть двояким. Чужое слово может передавать не только «что» речи, но и «как», то есть помимо чисто содержательного момента оказывается важной индивидуальная манера произнесения речи. Но в памятниках древнерусской письменности мы встречаем особую форму усвоения чужого слова авторским контекстом. Границы прямой речи при этом оказываются строго очерченными, но индивидуальные особенности речи не передаются. Становится важным передать именно «что» передаваемой речи. Такой стиль передачи чужой речи В. П. Волошинов называет линейным:
Такой предметно-смысловой и в языковом отношении обезличивающий тип восприятия и передачи чужой речи господствует в старо- и средне-французском языке <…> Тот же тип мы встречаем в памятниках древнерусской письменности, однако при почти полном отсутствии шаблона косвенной речи. Господствующий здесь тип – обезличенная (в языковом смысле) прямая речь87.
Частое использование при передаче чужой речи союза «яко» ни о чем не говорит. После этого союза речь вводится не в косвенной, а в прямой форме. Так что чисто формального разделения между прямой и косвенной речью нет88. Введение этого союза не влечет за собой необходимых для косвенной речи сочетаний времен глаголов и местоимений со словами, вводящими чужую речь89. Например:
В си же времена мнози человеци умираху различными недугы, яко же глаголаху продающе и корсты, яко «Продахом корсты от Филипова дне до мясопуста 7 тысячь (141).
Се слышавше новгородци, реша Ярославу, яко: «Заутра перевеземъся на ня; аще кто не поидеть с нами, сами потнем его» (96).
И реша ему, яко: «Даве скочил есть со столпья по заутрени» (127).
Характерно, что в историях нового времени авторы при передаче чужой речи часто меняют летописную форму прямой речи на косвенную. Это, например, наблюдается у В. Н. Татищева в «Истории Российской», которая представляет собой переложение русских летописей с сохранением многих стилистических особенностей летописных текстов. Так, в летописном изложении легенды о смерти Олега читается: «Бе бо въпрошал волъхвов и кудесник: „От чего ми есть умрети“» (29). У В. Н. Татищева это предложение дается в измененном виде: «…Зане преже похода на грекы спрошал Волхвов, от чего ему смерть быть имеет»90. И далее в летописи читается: «Он же (старейшина конюхов. – Е. Д.) рече: „Умерл есть“» (29). У Татищева в соответствующем месте: «Он же отвещал, что умер давно»91.
Думается, что древнерусским памятникам не свойственна и форма несобственно-прямой речи. Существует мнение, что формой несобственно-прямой речи в этих памятниках является форма введения чужой речи с помощью союза «яко», при отсутствии необходимого для этого согласования времен глаголов и изменения личных местоимений на третье лицо.
<…> в этих случаях, – пишет Б. А. Успенский, – наблюдается как бы скольжение авторской позиции, когда говорящий в процессе речи незаметно меняет свою позицию92.
Введение прямой речи в древнерусских текстах с помощью союза «яко» в такой же мере распространено, как и его отсутствие, и никакой смысловой разницы при этом обнаружить не удается. В данном случае мы, видимо, имеем дело с двумя равноправными формами введения чужой речи93.
Кроме того, не раз отмечавшийся и очевидный факт, что в ранних древнерусских текстах не существует индивидуализации прямой речи, делает несущественным вопрос о разделении ее на прямую и косвенную, так как обе формы дают ответ на вопрос, чтó говорит персонаж. Вопрос «как» является при этом незначимым – персонаж говорит так же, как и автор94.
Поэтому все эмоционально-аффективные элементы, свойственные авторскому тексту, будут характеризовать и речь персонажей:
Действующие лица русской литературы XI–XIII вв. говорили обычно языком автора, его стилем, его словами95.
Исходя из этого, в дальнейшем мы будем говорить не о прямой речи, а о чужой. Это уточнение терминов позволит нам расширить проблему в целом, так как наше исследование будет опираться не на лингвистическое понятие прямой речи, а на более емкое, включающее в себя понятие чужого слова, чужого высказывания, иногда чужого мировоззрения. К проблеме усвоения чужого слова авторским текстом, его восприятия и адаптации мы и обращаемся. Все дальнейшие наблюдения проводятся на тексте «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку.
Чужая речь и проблема истинности летописного текста
Если применительно к тексту нового времени конструкция чужой речи в основном относится к сфере выражения, то в средневековом тексте она зачастую воспринималась как относящаяся к проблеме истинности сообщения, то есть к сфере содержания. В современной культуре она может быть сопоставлена не с полифонизмом художественной речи, а с системой ссылок научного текста, что и соответствует функциональному месту летописи как памятника нехудожественной (для Средневековья) письменности. Обращаясь в данной главе к чужой речи в «Повести временных лет», мы будем исследовать проблему истинности и ложности чужого высказывания, проблему доверия к нему.
В целевую установку летописи входит сохранение для потомства истинных сведений о настоящем и прошлом. Осмысление этих событий также происходит, но играет подчиненную роль. Однако подлинность (истина) имеет для летописца бóльшую ценность, чем осмысленность. Современный историк сообщает о факте, если важны его последствия, летописец же – в том случае, если он имел место и достоин памяти.
Говоря о понятии истинности, следует определить, что значило оно для средневекового сознания. С одной стороны, это было наивно-реалистическое представление. Истина – это то, что было. Факт – то, что можно увидеть: «самовидець бо есмь» (ср.: «…аз грешный первое самовидець, еже скажю, не слухом бо слышав, но сам о семь началник», 138). Но, с другой стороны, имелось и иное представление об истинности – христианское: истина (и существует) то, что вечно. В этом смысле слово изначальнее, чем вещь – «в начале было слово». Превращение событий в текст, в слова – возведение их к вечности и истине. Но чужое авторитетное слово, с точки зрения истинности, стоит иерархически выше, чем сам текст, то есть рассказ летописца. Существует факт, о котором рассказывает летописец. Однако летописец лишь исполнитель воли божьей. Поэтому заведомо то, о чем он пишет, истинно. Но, исходя из первого представления об истинном (которое тоже присутствует), иногда следует подкрепить текст чужим словом, которое по тем или иным причинам оказывается авторитетнее.
В «Повести временных лет» действительность предстает в виде набора событий и фактов, расположенных во временной последовательности. Описываемые события и факты касаются истоков и начала русской земли, это память о прошлом, организованная временнóй погодовой канвой. Цель автора изобразить в слове определенный отрезок жизни. Автор дает не конструкцию жизни, не свою концепцию ее, а саму жизнь как она есть. Это не вымысел, это описание истинных событий, которые, с точки зрения автора, имели место в действительности. Само соответствие описываемых событий реальности нас сейчас не интересует, важна лишь эта авторская установка на фактическую правду. Поэтому события чудесного, легендарного и других планов приравниваются: автор к ним подходит одинаково – как к событиям, действительно имевшим место96. Следует отметить, что хотя «Повесть временных лет», как известно, написана не одним, а несколькими авторами, отношение к цели своего труда у них не меняется. Поэтому в интересующем нас плане можно говорить об едином авторском сознании. О правомерности такого подхода к летописи убедительно говорит А. С. Орлов:
Дошедший до нас текст начальной русской летописи испытал много изменений, наслоений и т. п., в результате которых получилась очень сложная постройка, далекая от первой композиции летописного изложения. В дошедшем до нас тексте ощущается творчество многих летописцев, последовательно сменявших друг друга. Но так как эти летописцы, продолжая работу предшественника и местами редактируя ее, все же находились под ее влиянием, получилась некоторая общность их манеры, общность отношения к изображению событий, которая дает впечатление единства всей этой сложной летописи. А это и позволяет характеризовать ее как нечто единое97.
В «Повести временных лет» нет отношения к описываемому как к вымышленному, так как в сознании автора не существует представления о вымысле (о том, что можно словесно сконструировать какую-нибудь вымышленную жизнь), что проистекает из отношения христианского средневекового сознания к письменному слову вообще. Письменное слово, исходя из этого представления, не обладает той же самой природой, что и устное слово98. Это прежде всего выражается в письменных же ссылках на другие письменные источники – «писано бо есть». Письменное слово и, в первую очередь, священное писание является самым авторитетным словом, которое заслуживает безусловного доверия читателей. Поэтому и мысль, подкрепленная ссылкой на письменный источник, приобретает свойственную ему авторитетность, непререкаемость. Так что текст, который находится в процессе создания, по отношению к цитируемому тексту выступает как устное слово, менее истинное, требующее других подкреплений истинности, – это письменное слово другой ступени. Письменное цитируемое слово оказывается в отношении истинности более важным99.
Цитируемое слово вводится в текст «Повести временных лет» в форме чужой речи. Чужая речь является в данном случае наиболее авторитетным словом – с ним нельзя спорить и, в конечном счете, весь авторский текст оказывается подчиненным ему.
Отношение к письменному слову впоследствии, на протяжении веков истории древнерусского сознания, меняется. Когда уничтожают книгу, то как бы уничтожают вредную идею этой книги, хотя идея эта может существовать и распространяться устно. Но устное слово никогда не обладало той же степенью авторитетности, что и письменное100. Следовательно, уничтожение книги не есть уничтожение идеи, а понижение степени ее авторитетности.
Так как автор использует чужое письменное слово для подтверждения своих мыслей, то естественно предположить, что его взгляды совпадают с идеями книг, на которые он ссылается. Значит эти ссылки ничего нового фактически не дают. Для чего же они нужны? Автор в процессе написания произведения всегда имеет в виду читателя и внутренне полемизирует с ним, предугадывая его возможную реакцию (недоверие, возражения). Поэтому он и прибегает к авторитету письменного слова – не для себя, а для читателя. Вообще в этом смысле автору «Повести временных лет» свойственна поразительная категоричность суждений, убежденность в истинности описываемых событий, в истинности той оценки, которую он дает этим событиям, и в единственно возможном взгляде на них, который и представлен в тексте.
Мысль о том, что может существовать иной взгляд на событие, ему так же свойственна, но иной взгляд, с его точки зрения, не может быть истинным – он ложен. Если он приводится или хотя бы упоминается в тексте, то он так же категорично оценивается как ложный.
Подобная однолинейность пронизывает всю «Повесть временных лет»: на мир существует лишь один истинный взгляд – он серьезен, недвусмыслен и категоричен. Поэтому и слово в «Повести временных лет» точно и однозначно. Текст пишется не для того, чтобы будить мысль, но чтобы внушить определенный взгляд или донести до читателя нужные сведения.
Цитаты из письменных источников, на которые ссылается автор, вводятся в текст в форме чужой речи101. В этом случае чужая речь используется для усиления авторитетности и обращена непосредственно к читателю. Чужую речь этого типа мы назовем речью-отсылкой. Таково внесюжетное употребление чужой речи, где она является подтверждением авторского слова. Мы говорим о цитатах из письменных источников как о чужой речи, хотя они не всегда являются цитируемой речью какого-либо лица. Иногда это просто выдержка из письменного источника. Но и в том и в другом случае эти выдержки вводятся в текст аналогично – в форме чужой речи102. Например:
«Глаголет Георгий в летописании: „ибо комуждо языку овем написан закон есть…“» (15).
«…глаголеть бо пророком нам (Бог. – Е. Д.): „Обратитеся ко мне всем сердцем вашим, постом и плачем…“» (112).
«Яко же рече Давыд…» (188).
«Фронограф рече», «Апостол рече» и т. п.103
Использование в тексте цитат и отношение к ним в истории древнерусской культуры менялось104. В рассматриваемое нами время это была не трактовка, ни в коем случае не полемика (что впоследствии тоже стало возможным), а именно подкрепление истинности.
Наряду с речами и цитатами из письменных источников в «Повесть временных лет» вводятся авторитетные речи иного рода. Они необходимы не для подтверждения взгляда автора, а для того, чтобы убедить читателя в достоверности описываемых событий. Вопрос о достоверности чрезвычайно существен как для «Повести временных лет», так и для многих других текстов Киевской Руси. Автор является в достаточной степени авторитетным лицом, но тем не менее, он допускает (и это неоднократно подчеркивается в тексте), что читатель может не поверить фактам, о которых ему сообщается. Таким образом автор сам ставит вопрос о достоверности. Он считает, что если сообщения будут идти из более авторитетных источников, то читатель безусловно поверит ему105. Такими лицами являются свидетели событий. Некоторые сообщения, таким образом, передаются в форме прямой речи очевидцев. Иногда же автор сам является свидетелем события, о чем он непременно говорит: («…преставися Янь, старець добрый, жив лет» – 90; «От него же и аз многа словеса слышах, еже и вписах в летописаньи семь, от него же слышах» – 186; «И ина многа доведаху о немь (Исакии. – Е. Д.), а другое и самовидець бых» – 130). Факт оказывается истинным, если о нем свидетельствуют. Так, в Ипатьевском списке «Повести временных лет» под 1114 годом повествуется, что автор, придя в Ладогу, услышал от ладожан рассказ о том, как их дети находят «глазкы стекляныи и малыи, и великыи провертаны» (197). Их «выполаскивает вода» из Волхова. «…от них же взях боле ста; суть же различь», – добавляет автор. Он удивляется этому, но ладожане ему говорят, что это еще не чудо («се не дивно»), а вот когда их старики ходили «за Югру и за Самоядь», то видели в северных странах, как из туч выпадают молоденькие белки и маленькие олени, которые, вырастая, расходятся по земле. Старики эти еще живы, а значит тоже могут засвидетельствовать. Автор повествует о чуде и в подтверждение истинности его приводит речи ладожан, говорит о том, что живы еще те старики, которые наблюдали «на полунощных странах» это чудо, и указывает на свидетелей: «Сему ми есть послух посадник Павел ладожскыи и вси ладожане» (197)106. Но эта ссылка на свидетелей кажется автору в его мыслимой полемике с читателями не в достаточной степени убедительной и авторитетной. Ведь могут найтись люди, которые не поверят ни автору, ни Павлу посаднику, ни всем ладожанам. «Аще кто сему веры не иметь, да прочтеть фронографа», – добавляет он. Ссылка на письменный источник переводит вопрос на другую ступень, и если для слов живых людей требуется несколько свидетельств (чем больше, тем лучше), то письменное слово как таковое означает истину. Приводится отрывок из Хронографа, повествующий об аналогичных событиях в других местах и в другие времена. Бывает, что из туч во время дождя падает пшеница, и вообще, случается, что с неба падают различные предметы – серебряные крупинки, камни, клещи и т. п. Цитата из Хронографа играет ту же роль, что и речи ладожан, но она авторитетнее, ибо исходит из письменного источника. Раз такие явления в принципе возможны, то почему бы не поверить свидетельству ладожан.
Следует отметить, что не все события в равной мере требуют свидетельства – в основном в этом нуждаются чудесные события. В наибольшей степени свидетельство характерно для чудес в житиях святых – там оно входит в композицию чуда как необходимый элемент107.
Помимо этого в форме чужой речи вводятся в текст «Повести временных лет» тексты договоров, которые переписывались из других письменных источников. Они представляют собой одновременно и документ, и речи послов. При этом документ выступает как источник летописного текста, а композиционно он передается в форме речей послов. Вот, например, как говорится о заключении договора с греками в 912 году: «Посла мужи свои Олег построити мира и положити ряд межю Русью и Греки, и посла глаголя…» (25). Далее приводится полный текст договора. Под 945 годом приводится текст второго договора с греками, он опять же вводится в форме прямой речи послов, но в данном случае еще имеется указание на то, что речи послов были записаны: «Приведоша русския слы, и велеша глаголати и псати обоих речи на харатье» (34) – далее идет текст. Договор Святослава с Византией вводится аналогичным образом: «Нача глаголати сол вся речи, и нача писец писати. Глагола сице…» (51–52).
В историях позднейшего времени, в том числе и у В. Н. Татищева, это указание на произнесенную речь устраняется. Под 912 годом он пишет: «Послы же учинили следуюсчий договор…»108. Под 945 годом: «По которому послы, пришед в Царь-град, по усоветовании с вельможи греческими, учинили следуюсчий договор…»109.
К речам-отсылкам в «Повести временных лет» следует отнести и те речи, которые, с точки зрения автора, являются ложными. Они не представляют собой авторитетных данных и исходят, как правило, из уст людей, которые, по мнению автора, не могут вызвать доверия. Здесь, как мы уже указывали, проявляется представление автора о многочисленности точек зрения на события, но, конечно же, при единственной истинной, которая и представлена самим автором. Обычно автор не называет имен этих людей, говорит о них неопределенно как о неких людях, неких мужах, называя их «невегласи», что значит – невежды.
Под 898 годом в летописной статье рассказывается об изобретении Константином и Мефодием славянской грамоты. Автор приводит реакции на это событие различных людей. Одна из точек зрения принадлежит людям, которые полагают, что азбукой, письменностью, должны обладать лишь евреи, греки и латиняне:
И всташа нации на ня, ропщюще и глаголюще, яко: «Не достоить ни которому же языку имети букъв своих, разве евреи, и грек и латин, по Пилатову писанью, еже на кресте господни написа» (22).
В опровержение этого мнения дается авторская ссылка на книжное слово.
В летописной статье под 988 годом говорится о крещении Владимира и при этом упоминается несколько ложных точек зрения на это событие, к которым автор относится явно пренебрежительно, не называя тех, кому они принадлежат, и вскользь показывая, что ложных мнений может быть сколько угодно, но истина одна – то, что изложено автором о крещении Владимира в Корсуни:
Се же не сведуще право, глаголють, яко крестилъся есть в Киеве, инин же реша: в Василеве; друзии же инако скажуть (77).
Явно не достоверная для автора точка зрения приводится в рассуждениях о том, чем был Кий: «Инии же, не сведуще, рекоша, яко Кий есть перевозник был…» (13). В дальнейшем автор не только опровергает ложную точку зрения, но и доказывает ее несостоятельность – Кий не мог быть перевозчиком; если бы он был перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. Кий княжил «в роде своем», приходил к царю и принял от него великую честь.
Аналогичны этому и рассуждения о происхождении половцев, помещенные в летопись под 1096 годом:
Ищьли бо суть си от пустыня Етривьскыя, межю встокомь и севером; ищьли же суть их колен 4: торкмене, и печенези, торци, половци. Мефодий же сведетельствуеть о них, яко 8 колен пробегли суть, егда исече Гедеон, да 8 их бежа в пустыню, а 4 исече. Другзии же глаголють: сыны Амоновы; се же несть тако… (152).
Авторитетная ссылка дана на «Откровение Мефодия Патарского», источник неавторитетной ссылки не указан. По предположению А. А. Шахматова110, это Георгий Амартол, но летописец не назвал его, как всегда в аналогичных случаях не называл неавторитетных свидетельств.
Ср. с этим и следующие примеры:
Пред симь же временемь и солнце пременися, и бысть светло, акы месяц бысть, его же невегласи глаголють снедаему сушу (198).
В се же лето бысть знамение: погибе солнце и бысть, яко месяц, его же глаголють невегласи снедаемо солнце (200).
Кто же такие «инии», «не сведуще», «неции», автор не говорит. Это неавторитетные речи, и несущественно, кто их произносит.
Иногда же автор ссылается на народную молву, которая характеризует то или иное событие, того или иного человека:
И приведе Янка митрополита Иоана скопьчину, его же видавше людье вси рекоша: «Се навье пришел» (137).
Темь и человеци глаголаху, яко навье бьють полочаны (141).
К речам-отсылкам можно отнести и неоднократно встречающиеся в «Повести временных лет» пословицы, поговорки и притчи, которые приводятся в форме прямой речи:
Темь и Русь корятся радимичем, глаголюще: «Пищаньци волчья хвоста бегають» (59)
и др.111
Благодаря описанным свойствам текст «Повести временных лет» приобретал характер документа, то есть текста бесспорной истинности, а это и было необходимо средневековому читателю, который
ценил в исторических произведениях прежде всего документальность. Древнерусский читатель в исторических произведениях искал того, что было «на самом деле», его интересовал не реализм изображения, а сама реальность, не фабула, а сами события…112
Так, текст «Повести временных лет» разбивается по степени его авторитетности на различные части – авторский текст (без ссылки на свидетелей), документ, описание событий, свидетелем которых был автор или другие очевидцы, цитаты из письменных источников и пр.
Об изображении речевого общения
До сих пор мы говорили о чужой речи, которая выступает в тексте в функции цитат – речи-отсылки. В этом случае чужая речь является не предметом изображения, а средством передачи разнообразных точек зрения на те или иные события. Одни из них являются доказательством истинности авторского текста, другие же автор отвергает как ложные.
Но в тексте «Повести временных лет» одним из объектов изображения является чужая речь действующих лиц повествования. Если посмотреть на текст с этой точки зрения, то чужое слово предстанет как предмет изображения, причем материалом этого изображения также является слово. Такого рода чужая речь становится в ряд с другими событиями, которые воспроизводятся летописцем. Поэтому, в отличие от речей-отсылок, мы назовем ее речью-событием. В разные периоды истории русской литературы законы изображения чужой речи были различны. Изображая речи действующих лиц, авторы преследуют различные цели. И. П. Еремин в работе «Повесть временных лет» обращает внимание на некоторые «странности» этого древнерусского текста. Современный читатель, привыкший к произведениям новой литературы и воспитанный на них, при внимательном чтении «Повести» замечает необычное, с его точки зрения, поведение героев, резкую, не объяснимую с точки зрения психологии смену характеров, необъективность авторских оценок и т. д. Подобного рода явления лежат в самой системе художественного мышления древнерусского летописца. И. П. Еремин раскрывает сущность этих явлений и приходит к выводу, что «художественные загадки» летописного повествования носят характер внутренне-закономерной системы (выделено И. П. Ереминым. – Е. Д.), следовательно, могут и должны рассматриваться как исконное свойство «Повести временных лет»113. Так что речь в данном случае идет не просто о техническом неумении.
Обратив внимание на изображение чужой речи в «Повести временных лет», можно прийти к выводу, что даже согласившись со всеми доказательствами документальности речей действующих лиц повествования, правдоподобного изображения мы не видим. Многое в этом изображении кажется нам нелогичным, некоторые приемы изображения речевого общения персонажей представляются несообразными и даже невероятными, психологические мотивировки там, где они встречаются, неубедительны. Однако вряд ли перечисленные нами свойства вызывали недоумение у современников. Поэтому необходимо разобраться, в чем они состоят, понять их природу.
Каждое время вырабатывает свою систему коммуникативных и речевых представлений, эта система находит отражение в произведениях искусства, что, безусловно, не может не влиять на изображение речей действующих лиц. То, что пишет Ю. М. Лотман об языке пространственных представлений, вполне применимо и к предмету наших изысканий:
При этом, как часто бывает и в других вопросах, язык этот, взятый сам по себе, значительно менее индивидуален и в большей степени принадлежит времени и эпохе, общественным и художественным группам, чем то, что художник на этом языке говорит, – чем его индивидуальная модель мира114.
Отличие в изображении «речей» и коммуникации в русских средневековых текстах от современных состоит не в том, что современные тексты можно представить лишь как усовершенствование исторических форм ранних систем, а в более глубоких расхождениях115. Оно обусловлено различием целей произведений словесного искусства, различием мировоззрений их породивших, а потому – и качественно разным отношением к материалу и к предмету изображения116. Как мы уже сказали, в данном случае предметом изображения является чужое слово.
В произведениях новой литературы в установку авторов входит воспроизведение бытового уровня индивидуальной речи со всеми теми помехами, ошибками и нарушениями, которые наблюдаются в действительности у говорящего человека. Разумеется, что полного и точного воспроизведения реальных речевых ситуаций и при таком подходе быть не может. Слово как материал словесного искусства всегда и неизбежно накладывает некие ограничения, воспроизводимая речь всегда остается и будет оставаться изображением. Мы говорим лишь об общей тенденции, которая характеризует литературу нового времени.
Постараемся сформулировать и продемонстрировать некоторые свойства таких литературных речей и то, как осуществляется в литературе речевое общение. Если определить речь как «деятельность говорящего, состоящую в использовании языка или какой-либо его части для взаимодействия с другими членами речевой общности»117, то наиболее правдоподобное изображение будет состоять, во-первых, из воспроизведения всех сказанных слов, звуков, и во-вторых, из словесного описания того, как эта речь произносилась и как она была воспринята. То есть окажется нужным описание всех аспектов речи. В этом описании возникает необходимость, так как простой перенос произнесенной речи на письмо не может дать адекватного текста. Так, невозможно, например (помимо трех пунктуационных способов), передать точную интонацию, силу голоса, артикуляцию, всевозможные особенности акустического аспекта и некоторых других сторон. Безусловно в каждом данном случае может понадобиться описание лишь одной из этих сторон, но на практике оказываются осуществленными они все.
Приведем для демонстрации несколько примеров из русской классической литературы.
1. Передача эмоциональной окраски голоса, характера произнесения речи.
«Что это, сударь, с тобою сделалось? – сказал он жалким голосом. – Где это ты нагрузился? Ахти господи! Отроду такого греха не бывало!»
«Молчи, хрыч! – отвечал я ему, запинаясь, – ты, верно, пьян, пошел спать… И уложи меня».
«Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукой и сказала дрожащим голосом…»
«– Господи владыко! – простонал мой Савельич, – заячий тулуп и почти новешенький! И добро бы кому, а то пьянице оголтелому!» (А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»)
2. Передача фонетических и акустических особенностей речи (акцент, картавость и пр.)118.
«Поже мой! – сказал он. – Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» (А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»)
«Мой труг, мне уши залошило,
скаши покромче…» (А. С. Грибоедов, «Горе от ума»)
В последних примерах воспроизводится индивидуальная манера в структуре самой цитируемой речи.
3. Отражение в тексте процесса порождения речи, поиска слова, так сказать, рождения высказывания во время его произнесения. В данном случае возможны поправки, уточнения, замена одних слов другими. Это явление наблюдается как в структуре самой речи, так и в авторских ремарках по поводу речи персонажей.
Например:
– А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?
– Мне кажется, – сказала она, – я думаю, что нравлюсь (А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»).
4. При воспроизведении в тексте бытового уровня возможны различные неполадки в «канале связи», когда произнесенная речь может быть не услышана, не понята, возможен переспрос или переосмысление. Этот аспект относится к проблеме изображения восприятия речи.
Так, например, в «Горе от ума» в приведенной выше цитате графиня-бабушка просит графиню внучку сказать погромче то, что ей из‐за ее глухоты не удалось расслышать.
У нее же наблюдается явное непонимание того, что происходит кругом, и комичное переосмысление событий:
Графиня-бабушка:
– Что? Что? Уж нет ли здесь пошара?
Загорецкий:
– Нет, Чацкий произвел всю эту кутерьму.
Графиня-бабушка:
– Как? Чацкого? Кто свел в тюрьму?
Загорецкий:
– В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны.
Графиня-бабушка:
– Что? Фармазона в клоб? Пошел он с пусурманы?
Загорецкий:
– Ее не вразумишь.
Кроме перечисленных черт изображения коммуникации и говорения необходимо указать на роль мимики. Описание мимики часто наблюдается в тексте при передаче речи, и она в значительной степени может влиять на смысл речи и ее восприятие. Помимо этого считается установленным фактом, что мимика может играть в языке роль реплики диалога119. Этот факт также находит отражение в художественных текстах.
Так как передается бытовой уровень речи, то произносимая речь может быть по той или иной причине не договорена до конца. В тексте это явление наблюдается либо в самой речи, либо в авторской ремарке:
«„Слава Богу, – отвечал я слабым голосом, – это вы, Марья Ивановна? Скажите мне…“ Я не в силах был продолжать и замолк».
«Вдруг он обратился к матушке: „Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?“
– Да вот пошел семнадцатый годик, – отвечала матушка. – Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Петровна, и когда еще…
– Добро, – прервал батюшка, – пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни» (А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»).
«„Вот это то кушанье“, сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаною, „это то кушанье“, продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готова выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. „Это то кушанье, которое по… по… покой… покойни…“ и вдруг брызнул слезами» (Н. В. Гоголь, «Старосветские помещики»).
Мы не будем более углубляться в проблему изображения речи и коммуникации в новой литературе. Для дальнейших наших рассуждений сказанного достаточно. Перечисленные нами свойства в той или иной степени характеризуют всю новую литературу. Естественно, что каждый писатель по-своему использует эти приемы, но некие общие черты присутствуют у всех. На них мы и хотели обратить внимание. Следует также отметить, что закономерности речевого бытового общения близки к так называемой реалистической литературе. В статье «О диалогической речи»120 Л. П. Якубинский ставит вопрос о функциональном многообразии речи, характеризуя при этом такие формы речевого высказывания как монолог, диалог, беседа. Автор подвергает анализу естественное речевое общение между людьми, но выводы, к которым он приходит, позволяют сделать заключение, что реалистическая проза XIX века при воспроизведении речевого общения стремится описать все его возможные аспекты. Это можно сказать относительно литературных диалогов, монологов, бесед, в «построении которых нет никакой предумышленной связанности»121.
Подобно тому, как данная фраза может иметь разное значение в зависимости от той интонации, с которой мы ее произносим, подобно этому мимическое и жестикуляционное сопровождение может придавать речи тот или иной оттенок122.
Статья Л. П. Якубинского во многом может послужить ключом для изучения изображения коммуникации в новой литературе. Для литературы же русского Средневековья она оказывается очень мало или почти не применимой.
В древнерусской литературе раннего времени (XI–XIII вв.), в том числе и в «Повести временных лет», изображение речей и коммуникации в принципе отлично от новой литературы. Все остальные аспекты речи, кроме языка, при изображении, как правило, роли не играют. Главное – что было сказано и кому. Потому что если было сказано, то должно быть и услышано, и понято. Сказанное не может пропасть123. Связь между говорящим и слушателем осуществляется как бы автоматически. Причем для речей характерна синтаксическая и смысловая законченность. Это же свойственно и всей русской литературе XVIII века, что особенно ярко выделяется на фоне текстов XIX века. От речей создается впечатление поразительной гладкости – все так хорошо говорили. При передаче речи отсутствует случайный фактор – никакие внешние обстоятельства не могут ее прервать. Это характеризует также фольклорные тексты и касается не только речей, но и природы протекания событий: герой не встречает непредвиденных препятствий124.
Говорящий непременно договаривает свою речь до конца и добросовестно выслушивает речи собеседников. В тексте чрезвычайно редки указания на тон, тембр, быстроту речи. Нет поиска нужного слова, обдумывания, мысль готова, реакция собеседников готова. Никогда не приводится в тексте описание интонации голоса. Текст обладает устойчивым значением. Снимается в древнерусских текстах и проблема непонимания – не может быть ответа невпопад. Не существует и пространственного барьера. Речь, направленная по адресу, должна быть услышана.
Все эти черты проистекают из того, что бытовой уровень находится за пределами задач летописца, передается идеологический уровень, который в принципе не может быть прерван. При таком отношении становится неважным, были слова реально сказаны или нет.
Речь произносится вне времени. За время речи ничего в мире произойти не может, как будто бы в единицу времени происходит лишь одно событие. Так, когда посланные Святополком приходят убить Бориса, они слышат, как он поет заутреню. Борис, «встав нача пети, глаголя…» (90). В тексте приводится речь заутрени и молитва Бориса, а читатель уже знает, что убийцы находятся в это время рядом. И Борис это знает. Но во время молитвы их как бы не существует, время молитвы – это особое время, которое нельзя прервать. И только когда Борис, помолившись, «възлеже на одре своем», на него нападают убийцы:
И се нападоша акы зверье дивии около шатра, и насунуша и´ копьи, и прободоша Бориса и слугу его, падша на нем, прободоша с нимь (91).
Итак, речи не могут быть прерваны и никаких событий, параллельных речам, произойти не может. Пожалуй, единственным исключением из этого правила является эпизод из «Повести временных лет», в котором описывается восстание киевлян в 1068 году. Горожане волнуются, князь смотрит в окно, дружина стоит рядом с ним. К Изяславу обращается Тукы со следующими словами: «Видиши, княже, людье възвыли; посли ат Всеслава блюдуть». И в то время, как он это говорил («И се ему глаголющю…»), другая половина людей пришла от погреба, отворив его (114). Здесь в единственном месте не соблюдается закон хронологической несовместимости.
Создается впечатление, что в единицу времени может произойти только одно событие – то, что мир полон событиями ежесекундно, не учитывается. Речь действующего лица обладает и своей особой локальной сферой. Во время речи не может войти человек, для которого эта речь не предназначена, содержание разговора никто не может подслушать, как это часто наблюдается в классицистических драмах. Не могут быть убиты князья во время речи-воззвания, равно как их не могут не услышать в пылу битвы. Произнесенная речь должна быть услышана и понята. Непонимание может выступать лишь как неприятие точки зрения, но не как непонимание смысла высказывания, то есть на уровне содержания, а не выражения.
Тот факт, что автор при воспроизведении «речей» абсолютно безразличен ко всему частному и бытовому, подтверждается примером из Тверской летописи, где под 988 годом читается рассказ о Рогнеде, где ее сын, младенец-Ярослав, сидящий на руках у матери, произносит речь в поддержку материнского решения о пострижении в монашенки. Правда, тут же говорится о том, что Ярослав был такой от рождения (т. е. не ходил) и стал ходить после произнесения этой речи. Но как бы там ни было, событие это происходило в год рождения Ярослава, значит ему было в это время не более года. Г. Барац пишет об аналогичных явлениях в древнееврейской литературе125.
Все перечисленные свойства речей в «Повести временных лет» не случайны. Они возникают из уже отмеченной нами авторской позиции, которая состоит в том, что мир представляет собой законченное целое, уравновешенное в себе и подчиненное общей идее. Каждое событие и явление имеет в нем законченную структуру, которая не может быть нарушена никаким случайным фактором. Автор передает говорение, но индивидуальное бытовое говорение не входит в сферу его изображения.
В качестве речей той или иной группе людей приписываются не речи, а позиции, выраженные в тексте в форме прямой речи. Все это порождает устойчивость значения текста речи и, в свою очередь, создает специфические компоненты всего речевого комплекса.
Речи действующих лиц как способ развертывания сюжета
Вопрос о речах действующих лиц в летописи следует решать в связи с проблемой летописного текста в целом. Как известно, основным организующим принципом русского летописания является хронологическое упорядочение материала. Однако всякое историческое повествование в той или иной мере придерживается этого принципа и предполагает расположение используемых фактов во временной последовательности. Тем не менее не раз уже отмечалось, что русские летописные тексты отличаются от исторических текстов нового времени по многим признакам, и в частности тем, что погодовое расположение материала является единственным принципом классификации этого материала. Имеется хронологическая таблица и ее заполнение. Причинно-следственная связь, столь важная для исторических описаний, в значительной степени приглушена и при изложении материала не играет организующей роли. Одно не вытекает из другого. Летописная формула «в лето такое-то» предполагает заполнение данной графы фактами, которые имели место именно в данный год. Само это выражение – в форме обстоятельства времени – означает констатацию факта, относящегося к данному временному отрезку. Внутри года расположение фактов не организовано, случайно, может существовать в любом порядке126.
Помимо организующего, классификационного принципа летописи следует отметить принцип отбора летописного материала. Можно было бы предположить, что летописец отмечает лишь те факты, которые ему известны. В таком случае оказалось бы, что о некоторых годах ему известно много фактов, им и зафиксированных в летописи, о других же – ни одного; при этом правая графа остается пустой. Но в таком случае набор фактов мог бы быть очень большим, чего мы не наблюдаем. Факты, фиксируемые летописцем, довольно ограничены (и характерны для различных летописей). Перечень этих фактов дан в статье И. П. Еремина «Киевская летопись как памятник литературы». В связи с этим встает вопрос о том, что можно считать фактом для того или иного текста. Для летописи фактом является то, что имеет, в нашем понимании, государственную значимость. Рождение князя означает выход на арену нового князя, смерть князя – уход его с этой арены и необходимость его замены. Заключение брака (появление связи с другими княжествами или государствами), поход на половцев, сбор дани, победа, поражение, появление кометы – не причина, а предвестие грозных событий в княжестве, и т. д.
Как известно, новгородская летопись констатирует факты бытовой и личной жизни, что для «Повести временных лет» не только не характерно, но исключено вообще. Это объясняется сугубо историческими причинами, спецификой новгородского княжества, ролью в нем веча, а значит – большим участием народа в государственной жизни и по этой причине – интересом к частной жизни127.
Итак, мы имеем принцип классификации материала (погодная запись) и принцип отбора фактов (важность для государственной жизни). (Понятие «государственная жизнь» мы употребляем условно, так как говорить о Киевском государстве на протяжении всего текста «Повести временных лет» представляется неправомерным, а хронологический принцип введен в летопись в то время, когда государства еще не существовало как такового.) Предположим, что летописцы ограничились бы лишь двумя этими принципами. Тогда вместо летописания мы имели бы дело с обычной хронологией, с тем лишь отличием, что в хронологии не упоминаются «пустые годы». В некоторых своих местах летопись тяготеет к ней.
В лето 6553. Заложи Володимер святую Софью Новегороде.
В лето 6554.
В лето 6555. Ярослав иде на мазовшаны, и победи я´, и князя их уби Моислава, и покори я´ Казимиру.
В лето 6556.
В лето 6557.
В лето 6558. Преставися жена Ярославля княгыни.
В лето 6559. Постави Ярослав Лариона митрополитомь русина в святей Софьи, собрав епископы (104)
(ср. со всевозможными хронологиями).
При такой форме изложения материала оказалось бы невозможным подвергать оценке описываемые факты. Летописцу важно показать не только то, что было, что имело место, но и научить читателя тому, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. По этой причине появляются более подробные описания, летописец от простой констатации переходит к описанию. Но это наблюдается не всегда, и поэтому необходимо решить вопрос, в каких же случаях появляется необходимость развернутого описания того или иного факта и что означает в принципе это развертывание. Мышление древнерусского летописца нормативно – он четко знает, как нужно и как не нужно действовать в тех или иных случаях, ситуациях. Это его знание основано, с одной стороны, на принципах идеальной жизни феодального государства, и с другой – на христианском мировоззрении. Обе эти тенденции вполне увязаны в сознании летописца: идеальный князь – он же идеальный христианин (описание принципов поведения князя в наибольшей степени характерно для летописца). Если мы посмотрим на летопись с этой точки зрения, то окажется, что нормальные для летописца факты такого развернутого описания не получают; в таких случаях летописец ограничивается лишь их констатацией. Например:
В лето 6546. Ярослав иде на ятвягы.
В лето 6547. Священа бысть церкы святыя Богородиця, юже созда Володимер, отець Ярославль, митрополитомь Феопемптом.
В лето 6548. Ярослав иде на Литву.
В лето 6549. Иде Ярослав на мазовъшаны, в лодьях (103).
Поход на ятвягов, мазовшан, литву, освящение церкви – нормальные события, и можно привести сколько угодно примеров, демонстрирующих тот факт, что норма для летописца не требует подробностей. Если бы мир, описываемый летописцем, был в его представлении идеален, то летопись, возможно, ограничилась простой констатацией фактов. Описание появляется тогда, когда появляется нарушение этой нормы.
Возьмем для иллюстрации этого положения два аналогичных случая.
1. «В лето 6387. Умершю Рюрикови, предасть княженье свое Олгови, от рода ему суща, въдав ему сын свой на руце, Игоря, бе бо детеск вельми» (19).
Если все происходит по установленному закону, как в данном случае, факт исчерпан. Летописная запись на этом кончается, происходит механический переход к записи о другом факте или другом годе.
2. Констатация смерти Владимира разрастается в целый летописный рассказ об убиении Святополком своих соперников Бориса и Глеба под 1015 г. Если бы Святополк поступил по закону, летописец ограничился бы простой констатацией факта, не было бы инцидента.
Приведем еще пример. Считается нормальным для Руси (или русскому князю) взымать дань с других народов. Вопрос о том, этично это или не этично, не встает – это норма: «А се суть инии языци, иже дань дають Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемись, мордъва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь…» (13). Если дань дается без сопротивления – факт исчерпан, больше писать на эту тему нечего. Например:
В лето 6391. Поча Олег воевати деревляны, и примучив á, имаше на них дань по черне куне (20).
В лето 6422. Иде Игорь на деревляны, и победив á, и возложи на ня дань болши Олговы (31).
В лето 6474. Вятичи победи Святослав, и дань на них възложи (47).
Теперь посмотрим, когда же обычный для средневековой Руси факт сбора дани перерастает в событие? Это происходит, когда одна из сторон нарушает установившуюся норму взаимоотношений128.
«В лето 6574. Ростиславу сущю Тмуторокани и емлющю дань у касог и у инех стран» (на этом констатация летописного факта должна бы быть закончена, но сообщение продолжается: «сего же убояшеся грьки; послаша с лестию котопана» – 111).
Пришедший в Тьмуторокань котопан отравляет Ростислава – факт, нарушающий нормальное течение жизни, становится событием.
Нарушение нормы влечет за собой перерастание простой констатации факта в описание этого события. Так одна из форм летописного сообщения, которую традиционно принято называть погодной записью, заменяется другой – летописным рассказом или повестью, т. е. формой повествования, в основе которой лежит сюжет129. Мы не можем вполне достоверно в каждом данном конкретном случае определить причину этого перерастания, поскольку: 1) летопись в какой-то степени представляет собой компилятивную форму; 2) она создавалась и переписывалась не одним летописцем, а целым рядом авторов; 3) некоторые сцепления эпизодов неизбежно носят случайный характер; 4) события, близкие автору по времени, даются более или менее подробно (свидетельство самого автора или со слов очевидца), отдаленные события – менее подробно. Мы в данном случае говорим лишь об основной тенденции, которая проявляется в тексте в самых различных его частях.
Итак, появление сюжета в летописном повествовании связано с вмешательством в нормальное течение жизни какого-либо лица. Поэтому «развертывание сюжета» (по терминологии В. Б. Шкловского)130 оказывается непосредственно связанным с поведением персонажа – и поэтому с речевым поведением, в частности. Речи персонажей появляются там, где появляется сюжет; более того, «речи действующих лиц – одна из форм развертывания сюжета»131. Приведение события в исходное положение – «свертывание сюжета».
Появление волхвов – констатация факта. Поведение их (прежде всего словесное – они пытаются уверить окружающих их людей в какой-либо еретической мысли) – нарушение нормы – событие. Их исчезновение, убийство, смерть – возвращение к исходной точке. Нарушение княжеской крестоцеловальной клятвы – событие. Расправа с нарушителями, осуждение их – возвращение к исходному порядку.
Откуда летописец знает, как надо? На этот вопрос отвечает Д. С. Лихачев, говоря о литературном этикете в древнерусской литературе:
Идеализация средневековья в значительной степени подчинена этикету, этикет в ней становится формой и существом идеализации132.
И далее:
Из чего слагается этот литературный этикет средневекового писателя? Он слагается: 1) из представлений о том, как должен совершаться тот или иной ход событий; 2) из представлений о том, как должно было вести себя действующее лицо согласно своему положению, и 3) из представлений о том, какими словами должен описывать писатель совершающееся133.
Третий пункт этого положения для нас сейчас не важен. Обратим внимание на два других. Пункт первый цитируемого нами положения Д. С. Лихачева соотносится с нашими выводами о принципе отражения в летописи нормальных событий. Пункт второй связан уже с поведением людей, а в тексте летописи – с поведением персонажей, то есть с теми частями летописи, где простая констатация факта перерастает в сюжет. Что касается сюжетного поведения персонажей, то нарушитель может в ответ на свою акцию вызвать положительную либо отрицательную реакцию другого персонажа.
Этот принцип чрезвычайно любопытно проводится в летописной повести об ослеплении Василька Теребовльского, помещенной в летопись под 1097 г. Там же ставится и разрешается вопрос о доверии слушателя к выслушанной им речи.
Так, Святополк должен сделать выбор: либо верить авторитетнейшей для князей речи – решению Любечского съезда, в которой князья клялись хранить мир и держать каждый свою отчину, либо же поверить навету Давыда. Давыд передает ему слухи о том, что Василько соединился с Владимиром против Святополка и Давыда. В тексте приводятся и речи этих наговорщиков:
И влезе сотона в сердце некоторым мужем, и почаша глаголати к Давыдови Игоревичю, рекуще сице, яко «Володимер сложился есть с Василком на Святополка и на тя (171).
Говорят об этом люди, не заслуживающие особого доверия, но речь угрожающая, и все дальнейшие действия Святополка определены тем, поверит он или нет. В отличие от Давыда, который сразу «ем веру лживым словесом», Святополк терзается, сомневается в правдивости этих слухов:
Святополк же смятеся умом, река: «Еда се право будеть, или лжа, не веде» (171).
В конце концов Давыд убеждает Святополка в необходимости каких-то действий против Василька – надо предотвратить возможное вероломство. Святополк поверил, но вызывает в свидетели Бога:
И рече Святополк к Давыдови: «Да аще право глаголеши, Бог ти буди послух; да аще ли завистью молвишь, Бог ти будеть за тем» (171).
Сама возможность в Святополке этих сомнений говорит о том, что он не стоит достаточно твердо на положенной ему в его статусе князя позиции. Он верит сомнительным и безусловно менее авторитетным слухам, чем речь князей на Любечском съезде. В то время как Святополк и Давыд оказываются способными нарушить свое слово, отношение Василька к данному им вместе со всеми князьями обязательству иное. Перед ним в момент угрозы стоит тот же выбор: остаться верным речи князей или поверить отроку – менее авторитетному источнику, – который предупреждает его об опасности.
И не послуша его, помышляя: «Како мя хотять яти? Оногды целовали кресть, рекуще: аще кто на кого будеть, то на того будеть крест и мы вси» (172).
То, что говорит отрок («не ходи, княже, хотять тя яти»), и на самом деле правда. Но это правда низшего порядка. Ведь дело даже не в том, правда или неправда то, чему поверил Святополк. Важно другое – то, что он поверил высказыванию, которое стояло в противоречии с истинным, которое не являлось высшей правдой. А Василько не поверил.
Василько тоже размышляет, но речь князей заслуживает у него большее доверие, к тому же она была скреплена крестным целованием. Авторитетность и правдивость сообщения разошлись. Слушать надо авторитетные речи, и в этом смысле то, что Василька ослепили, ничего не значит.
Повесть об ослеплении Василька Теребовльского чрезвычайно интересна во многих отношениях и не раз обращала на себя внимание исследователей тонкостью психологического анализа и мотивировок действий персонажей. Хотелось бы обратить внимание на один любопытный факт. Речь, переданная Давыду Игоревичу «некоторыми людьми», впоследствии, в тексте повести, передается несколько раз. И по мере того, как над Давыдом и Святополком нависает угроза кары за совершенное ими злодеяние, речь эта начинает в их устах обрастать все большими подробностями. В первый раз мы читаем ее в таком виде:
И влезе сотона в сердце некоторым мужем, и почаша глаголати к Давыдови Игоревичю, рекуще, яко: «Володимер сложился есть с Василком на Святополка и на тя» (171).
Здесь пока лишь только сообщается о каком-то союзе Владимира и Василька против Святополка и Давыда. Давыд же передает эту речь Святополку уже в несколько измененном виде:
Давыд же, ем веру лживым словесом, нача молвити на Василка, глаголя: «Кто есть убил брата твоего Ярополка, а ныне мыслить на мя и на тя, и сложился есть с Володимером? Да промышляй о своей голове» (171).
В этой речи уже сообщается не просто о союзе князей против Святополка и Давыда, но и о намерении убить их. Когда же Святополк с Давыдом захватили Василька, Святополк собирает бояр и киевлян и сообщает им речь, переданную ему Давыдом, в третий раз и опять в новом варианте:
Наутрия же Святополк созва боляр и кыян, и поведа им еже бе ему поведал Давыд, яко: «Брата ти убил, а на тя свечался с Володимером, и хощеть тя убити и грады твоя заяти» (172).
Ясно, что целью княжеских союзов против других князей являлось занятие чужих городов. Поэтому, может быть, это следствие вытекает и из первых речей, но в этом варианте, тем не менее, впервые Святополком произносятся слова о желании Василька и Владимира захватить их города. Еще одна подробность.
И наконец, когда был устроен суд над Святополком, и к нему были посланы «мужи» от князей с вопросом, зачем он совершил такое «зло» над Васильком, Святополк в свое оправдание произносит речь, наполненную еще большими подробностями, с перечислением всех городов, которые, якобы, хотели занять Василько и Владимир, с планами о захвате Владимиром княжеского стола в Киеве, а Васильком – во Владимире:
И рече Святополк, яко «Поведа ми Давыд Игоревичь: яко Василко брата ти убил, Ярополка, и тебе хочет убити и заяти волость твою, Туров, и Пинеск, и Берестие, и Погорину, а заходил роте с Володимером, яко сести Володимеру Кыеве, а Василькови Володимери. А неволя ми своее головы блюсти. И не яз его слепил…» (174)
На этой изменяющейся по мере развития действия речи построена вся коллизия повести, и оценка ее автором внушается читателю с полной определенностью. Во-первых, источник ее – «сотона» (отец лжи), во-вторых, она произносится «некоторыми мужами», не вызывающими доверия, что само по себе понижает степень ее авторитетности. В-третьих, она расходится с речью князей на Любечском съезде, и наконец в-четвертых, она самим автором не раз названа ложной.
Ложь разрастается по мере того, как стремление князей защитить себя от предполагающегося вероломства превращается в княжеское преступление, и более того – в Каинов грех братоубийства, как оно и воспринимается князьями, хотящими поправить дело. Это и говорится в речи Владимира:
Да аще сего не правим, то болшее зло встанеть в нас, и начнеть брат брата закалати, и погыбнеть земля Руская, и врази наши, половци, пришедше, возьмуть землю Русьскую.
Преступление рассматривается князьями как неслыханное:
Володимер же слышав, яко ят бысть Василко и слеплен, ужасеся, и всплакав и рече: «Сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при дедех наших, ни при отцих наших, сякого зла» (174).
И далее:
Се слышав Давыд и Олег, печална быста велми и плакастася, рекуще яко «Сего не было в роде нашем» (174).
Так все князья, услышав о преступлении, стремятся навести порядок, восстановить ту нравственную норму, которая была при отцах и дедах: «Поистине отци наши и деди зблюли землю Русьскую, а мы хочем погубити». Причем характерно также и то, что князья в один голос начинают говорить о преступлении Святополка и Давыда как об их общем княжеском преступлении: «мы хочем погубити» землю Русскую.
И все дальнейшие действия направлены на восстановление порядка: «Аще сего не правим…» (174).
В некоторых случаях равновесие нарушается непосредственно действием, в других – речью. Речь персонажей вообще очень часто бывает причиной события, как мы видели на примере повести об ослеплении Василька Теребовльского. Она предваряет событие и одновременно вызывает в другом персонаже словесную или же действенную реакцию. Весь сюжет строится на отношении к тем или иным речам.
Когда, например, один князь идет походом на другого, то для разрешения этого конфликта один из них должен победить, другой – потерпеть поражение. Если ситуация таким образом неразрешима (предположим, силы равны), то должна вступить в действие новая сила, в любом виде – подмога одному из князей, речь одного из действующих сил и т. п.
Так, например, под 1068 годом повествуется:
В лето 6524. Приде Ярослав на Святополка, и сташа противу обапол Днепра, и не смяху ни си онех, ни они сих начати, и стояша месяце 3 противу собе… (96)
На этом погодная запись закончена быть не может, т. к. силы не уравновешены. Какая-то третья сила должна вступить в дело – для того чтобы запись на эту тему закончилась, должно восстановиться прежнее равновесие. Поэтому появляется нарушитель создавшегося положения. Воевода Святополка начинает поддразнивать новгородцев:
И воевода нача Святополчь, ездя възле берег, укаряти новгородце, глаголя: «Что придосте с хромьцемь симь, а вы плотници суще? А приставим вы хоромове рубити наших» (96).
В данном случае речь воеводы Святополка является стимулом к разрешению конфликта. Его слова вызывают у новгородцев желание идти в наступление:
Се слышавше, новгородци, реша Ярославу, яко «Заутра перевеземся на ня; аще кто не поедеть с нами, сами потнем его» (96).
Наутро Ярослав исполчает свою дружину, Святополку некуда деться из‐за озера, печенеги не могут прийти к нему на помощь, его дружина вступает на лед, Ярослав одолевает. Летописная запись под этим годом заканчивается восстановлением равновесия:
Святополк же бежа в ляхы, Ярослав же седе Кыеве на столе отьни и дедни. И бы тогда Ярослав лет 28 (96).
В приведенном нами примере законность достигнутого положения подтверждается еще и тем, что Ярослав в результате занимает положенное ему место, он сел в Киеве «на столе отьни и дедни».
Через год в летописной статье под 1018 г. идет повествование о тех же самых лицах – Ярославе и Святополке. Святополк берет себе в помощники польского короля Болеслава. Не будь конфликта, статья бы читалась приблизительно в таком виде:
В лето 6526. Приде Болеслав с Святополком на Ярослава с ляхы. И победи Святополк. Святополк же нача княжити в Кыеве. И пошел Ярослав на Святополка, и бежа Святополк в печенегы.
Но в тексте этого не наблюдается. Летописец сообщает, что когда войска становятся перед битвой на обеих сторонах Буга, на этот раз выступает воевода и кормилец Ярослава. Речь Ярославова воеводы становится причиной инцидента.
И бе у Ярослава кормилець и воевода, именемь, Буды, нача укаряти Болеслава, глаголя: «Да то ти прободем трескою черево твое толъстое». Бе бо Болеслав велик и тяжек, яко и на кони не мог седети, но бяше смыслень (97).
Болеслава приводят в негодование слова воеводы, и он произносит речь, обращенную к своей дружине: «Аще вы сего укора не жаль, аз един погыну». После этих слов он с воинами переходит Буг, Ярослав не успевает «исполчитися», и Болеслав побеждает.
Этим описание данного эпизода завершено:
…и победи Болеслав Ярослава. Ярослав же убежа с 4‐ми мужи Новугороду. Болеслав же вниде в Кыев с Святополкомь (97).
На этом месте также могла бы быть закончена летописная статья, но, во-первых, в Киеве сидит польский король Болеслав, во-вторых, Ярослав, бежавший в Новгород, хочет бежать дальше за море.
Новгородцы же не позволяют уйти Ярославу, рассекают ладью и говорят: «Хочем ся и еще бити с Болеславом и с Святополкомь». Святополк же поступает на этот раз, как подобает русскому князю, веля избивать поляков:
Болеслав же бе Кыеве седя, оканьный же Святополк рече: «Елико же ляхов по городом, избивайте я´» (97).
И наконец, восстанавливается равновесие:
И поиде Ярослав на Святополка и бежа Святополк в печенегы.
Летописная статья кончается – может быть осуществлен переход к другому году.
Приведем, наконец, последний пример. Из следующего рассказа о битве Ярослава со Святополком летописец мог бы сказать только следующее:
В лето 6527. Приде Святополк с печенегы в силе тяжце, и Ярослав собра множьство вой, и изыде противу ему на Льто.., бысть сеча зла… К вечеру же одоле Ярослав, а Святополк бежа… Ярослав же седе Кыеве, утер пот с дружиною своею, показуя победу и труд велик (87–98).
Но Ярославу предстоит не обычное сражение, он должен мстить Святополку за своих братьев. Поэтому, идя на битву, он становится на месте гибели Бориса и молится:
Ярослав ста на месте, идеже убиша Бориса, въздев руце на небо, рече: «Кровь брата моего вопьеть к тобе, владыко! Мьсти от крове праведнаго сего, яко же мьстил еси крове Авелевы, положив на Каине стенанье и трясенье; – тако положи и на семь». Помоливъся, и рек: «Брата моя! Аще еста и телом отшла отсюда, но молитвою помозета ми на противнаго сего убийцю и гордаго» (97).
Далее идет традиционное описание битвы («бысть сеча зла»), поражение Святополка и смерть его.
Как мы видим, нарушение несюжетного летописного повествования осуществляется прямой речью одного из действующих лиц. Сюжетная прямая речь в летопись может вводиться по различным причинам, но основное, общее, что мы можем отметить, – это нестандартность ситуации.
Ярослав хочет бежать за море (т. е. ведет себя недостойно князя), в действие вступают новгородцы – произносят речь, изменив ситуацию. Ярослав идет на необычную битву (справедливая месть за братьев), при этом он произносит речь, молясь за убитых братьев, за успех битвы.
В заключение следует еще раз указать на то, что перерастание одной летописной формы в другую вызывается каким-либо нарушением нормального течения описываемой жизни, установленного при отцах и дедах. И хотя в действительности были неоднократно нарушающие норму события, вплоть до преступлений, совершаемых князьями, тем не менее жизнь прежняя, жизнь старого времени, на отдалении воспринимается самими князьями как норма, как тот порядок, который необходимо навести в настоящем.
42
Сухомлинов М. И. О древней русской летописи как памятнике литературном // Сухомлинов М. И. Исследования по древней русской литературе. СПб., 1908. С. 1–247.
43
Сухомлинов М. И. О древней русской летописи… С. 124–125.
44
Сухомлинов М. И. О древней русской летописи… С. 204.
45
Шлецер А. Нестор. СПб., 1909. Т. 1.
46
Сухомлинов М. И. О древней русской летописи… С. 214.
47
Там же. С. 216.
48
Там же. С. 220. Мы не будем подробно касаться других дореволюционных работ, посвященных летописи и в той или иной мере затрагивающих интересующую нас тему, потому что предметом этих исследований были частные вопросы. Из них можно отметить: Хрущев И. П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. Киев, 1878; Барац Г. О библейско-агадическом элементе в повестях и сказаниях начальной русской летописи. Вып. I. Киев, 1907; Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914 и др.
49
Лихачев Д. С. Русский посольский обычай XI–XIII вв. // Исторические записки. 1946. № 18. С. 41–55; Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947; Лихачев Д. С. «Повесть временных лет» // Повесть временных лет. Т. II. М.; Л., С. 3–148; Лихачев Д. С. О летописном периоде русской историографии // Вопросы истории. 1948. № 9. С. 28–34; Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы. М.; Л., 1952.
50
Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы… С. 252.
51
Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение… С. 114.
52
Там же.
53
Лихачев Д. С. Русский посольский обычай… С. 43.
54
Лихачев Д. С. Русские летописи… С. 20.
55
Лихачев Д. С. Русский посольский обычай… С. 48.
56
Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы… С. 95.
57
Там же.
58
Еремин И. П. Киевская летопись как памятник литературы // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. VII. М.; Л., 1956. С. 67–97; перепечатано в его кн.: Литература Древней Руси. М.; Л. 1966.
59
Еремин И. П. Киевская летопись как памятник литературы… С. 67.
60
Там же. С. 75.
61
Там же.
62
Там же.
63
Там же.
64
Там же. С. 79.
65
Истоки русской беллетристики. Л., 1970.
66
Автором данной главы является О. В. Творогов.
67
Истоки русской беллетристики… С. 55.
68
Там же.
69
Там же. С. 57.
70
Истоки русской беллетристики… С. 53.
71
Кандаурова Т. Н. Полногласная и неполногласная лексика в прямой речи летописи // Памятники древнерусской письменности. М., 1968. С. 72–94.
72
Кандаурова Т. Н. Полногласная и неполногласная лексика… С. 74–75.
73
Там же. С. 93.
74
Улуханов И. С. Предлоги предъ-передъ в русском языке XI–XVII вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964. С. 133–142; Никольский А. А. Очерки по синтаксису русской разговорной речи: Дис. … канд. филол. наук. Л., 1965. (Автор считает, что письменный язык древнерусского периода в целом испытал на себе влияние разговорной речи.)
75
Молотков А. И. Сложные синтаксические конструкции для передачи чужой речи в древнерусском языке (грамматический анализ): Дис. … канд. филол. наук. Л., 1952. С. 56. См. работу того же автора: К истории синтаксических конструкций для передачи чужой речи в русском языке // Ученые записки Ленинградского гос. ун-та. № 235. Серия филол. наук, вып. 38. Л., 1958. См. также работу: Отин Е. С. Модальные отношения в конструкциях чужой речи и средства их выражения в русском языке XIII–XVII вв.: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Днепропетровск, 1967.
76
Исключения из этого правила очень редки. Например: «И тогда въздвигнувъся Ярополк, выторгну из себе саблю, и возпи великым гласомь: „Ох, тот мя враже улови!“» (Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Т. I. С. 136. Далее ссылки на это издание даются в тексте в скобках).
77
Молотков А. И. Сложные синтаксические конструкции… С. 82. О различии семантического поля глаголов «речи» и «глаголати» пишет Ф. П. Филин: «В XI–XII вв. в связи с развитием категории видов речи начинает обозначать совершенный вид, глаголати – несовершенный» (Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописи) // Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Т. 80. Л., 1949.
78
Ср., например, с Житием Епифания XVII в.: «И еле-еле на великую силу пропищал в тосках сице: „Никола, помоги мне!“» (Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследования и тексты. М.; Л., 1962. С. 185).
79
Этот факт широко распространен в современном языке при вводе в авторский контекст прямой речи. А. А. Никольский пишет по этому поводу: «Следует отметить, что глаголы, обозначающие сопутствующее высказыванию действие, по своей функции могут сближаться с вводящими прямую речь глаголами говорения или мысли» (Никольский А. А. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. С. 146).
80
Молотков А. И. Сложные синтаксические конструкции… С. 83–84.
81
В очень редких случаях помимо глагола говорения, стоящего перед речью, глагол «речи» вводится в саму конструкцию прямой речи, разбивая ее.
82
Подробная литература по вопросу о конструкциях прямой речи в современной литературе дается в книге: Милых М. К. Прямая речь в художественной прозе. Ростов-н/Д., 1958. Там же дается семантическая классификация глаголов, вводящих прямую речь (с. 43–95). См. также работу: Кодухов В. И. Способы передачи чужой речи в русском языке второй половины XVII–XVIII вв.: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1953.
83
В работе М. И. Лекомцевой «К семантической характеристике глаголов говорения в Мариинском кодексе» (Ученые записки ТГУ, вып. 284) приводится классификация глаголов говорения Мариинского Четвероевангелия.
84
Объяснение этого явления, помимо указанных нами причин, следует искать в самих формах языка. А. А. Никольский пишет: «Как в диалектном, так и в литературном разговорном языке прямая речь может вводиться без названного или подразумеваемого глагола говорения. При этом прямая речь легко выделяется, благодаря контексту и присущей ей разговорной интонации» (Очерки по синтаксису… С. 144).
85
Волошинов В. П. Марксизм и философия языка. Л., 1929. С. 183.
86
Волошинов В. П. Марксизм и философия языка. С. 140.
87
Там же. С. 141.
88
То же самое В. П. Волошинов пишет о старофранцузском языке: «Пунктуация находилась еще в зачатке. Поэтому не было резких границ между прямой и косвенной речью» (Там же. С. 177).
89
Впрочем, такое смешение наблюдается и в современном русском языке, и не только в нелитературном, но и в разговорном литературном. По мнению А. М. Пешковского, это составляет «правило для нашего разговорно-литературного языка» (Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1945. С. 25). Однако в письменную речь такого рода форма передачи чужой речи в современном языке проникает только как стилистическая характеристика, в то время как для письменного языка древнего периода это было нормой.
90
Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен. М.; Л., 1963. Т. II. С. 39.
91
Там же.
92
Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970. С. 50. Далее автор пишет: «Иногда полагают, что несобственно-прямая речь в русском языке – явление новое, появившееся под влиянием французского языка. Это мнение, однако, может быть опровергнуто ссылками на примеры из летописей <…>. Думается, что явление несобственно-прямой речи – совершенно естественно в языках с развитыми формами ипотаксиса, будучи обусловленным характерной для речевой практики сменой авторской позиции» (Там же).
93
В отличие от хрестоматийного гоголевского примера: «Трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за старое». См. об этом также: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении… С. 429–432.
94
Об этом пишет В. П. Волошинов: «Чужая речь в памятниках древнерусской письменности всюду вводится в форме компактной, непроницаемой массы, очень слабо или совершенно не индивидуализированной» (Волошинов В. П. Марксизм и философия языка… С. 141). По мнению М. М. Бахтина, в романе «впервые появляются образы чужого слова, чужого языка, чужого стиля, чужой речевой манеры, и эти образы становятся в романе ведущими. Всякое прямое слово в условиях романа в той или иной степени объективизируется, овнешняется, не только высказывается, но и показывается» (Бахтин М. М. Из предыстории романного слова // Русская и зарубежная литература. Саранск, 1967. С. 3).
95
Истоки русской беллетристики… С. 559.
96
Знак равенства между восприятием этих событий можно поставить лишь в одной плоскости: и те и другие воспринимаются как реальные. Но само качество реальности при этом различно. Одни из этих событий – обычные, встречающиеся всегда, повседневно и обладающие своей реальной логикой. Вторые – чудесные – необычные, также имеющие логику, но это особая логика, логика чудес. Характер протекания событий обоих типов различен. И древнерусский читатель это, видимо, прекрасно осознавал. Чудесные события поэтому, одновременно с полной уверенностью в их существовании, всегда вызывали чувство удивления.
97
Орлов А. С. Древняя русская литература XI–XVI вв. М.; Л., 1937. С. 90. Ср.: «Научный анализ выделил составные части этого памятника и вместе с тем установил при наличии их своеобразия и некоторые общие их свойства как в отношении к изображаемым событиям, так и в литературной манере» (История русской литературы. М.; Л., 1941. Т. I. С. 258).
98
И. Некрасов пишет по этому поводу: «Но в древнем периоде, в великой и северной Руси всему письменному, литературе в самом обширном ее смысле, придано было такое высокое значение, что все написанное считалось выше того, что сохранилось в устном рассказе, в предании, так что записанное признавали исторической истиною, а не вымыслом и ложью» (Некрасов И. Зарождение национальной литературы в Северной Руси. Ч. 1. Одесса, 1870. С. 134). Приведем также суждение А. И. Клибанова по этому поводу: «Грамота едва ли не понималась как писание, т. е. как писание с большой буквы, как священное писание, как божественное искусство, а не просто искусство чтения и письма» (Клибанов А. И. Реформационные движения в России. М., 1960. С. 332).
99
«<…> в момент возникновения письменной культуры выраженность сообщения в фонологических единицах начинает восприниматься как невыраженность. Ей противопоставляется графическая фиксация группы сообщений, которые признаются единственно существующими с точки зрения данной культуры. Не всякое событие достойно быть записанным, одновременно все записанное получает особую культурную значимость, превращается в текст» (Пятигорский А. М., Лотман Ю. М. Текст и функция // Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970. С. 65).
100
Характерна в этом отношении цитата из Жития Якова Боровицкого (в списке XVII в.): «Таков бо устав обычая человецы имамы, егда бо кто глаголет ненаписано, нам помышляти, яко лжа есть». Цит. по кн.: Некрасов И. Зарождение национальной литературы… С. 134. Иное отношение к книге и письменному слову вообще характерно, например, для Нила Сорского. С. Бугославский пишет: «Он (Нил. – Е. Д.) проповедует „умное делание“, т. е. критическое отношение к личности и источникам веры. Нил говорит, что он испытует божественные писания, внимая лишь тем, которые согласны его разуму. Верить – значит понимать, по Нилу» (Бугославский С. Главнейшие характерные черты Московского периода русской литературы. М., 1916. С. 4). Ср. с этим высказывание того же автора об Иосифе Волоцком: «Его идеология опирается на незыблемую букву старого закона, будь то божественное писание, или градские законы; менять их, обсуждать, критиковать, он не считает возможным» (Там же. С. 5). В Молении Даниила Заточника сообщается как весьма распространенный еще один критерий авторитетности текста: «Богат возглаголет – вси молчать; а убог възглаголеть – вси на него кликнуть. Их же ризы светлы, тех речь честна; и вознесут слово его до облак» (Зарубин Н. Н. Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Л., 1932. С. 115).
101
Мысль о том, что текстом из священного писания автор подкрепляет «свое личное воззрение на событие» (Хрущев И. Древние русские сказания… С. 3), высказывалась не раз, однако следует внести поправку в этот тезис – личного отношения у автора, как правило, нет – он говорит от имени идеи; хотя в некоторых отдельных случаях сказываются и личные пристрастия автора, но при этом никогда не бывает ссылок на писание.
102
В летопись бывают включены цитаты из письменных источников непосредственно в ткань повествования, без вводящих прямую речь слов. Перечень и источники этих цитат даны в работе: Шахматов А. А. Повесть временных лет. СПб., 1916. В этом случае они срастаются с авторским повествованием. Этот вопрос (вопрос цитации без ссылок) мы не затрагиваем, т. к. цитируемое слово в данном случае перестает быть «чужим» и не вводится как чужое. Однако это слово должно было, видимо, существовать в сознании древнерусского читателя и было для него отмеченным. Такие речи он должен был помнить, и знать, и руководствоваться ими. Ср., например, с выдержкой из Лаврентьевской летописи под 1186 годом: «Наши же видевше их, ужасошася и величанья своего отпадоша, не ведуще глаголемаго пророком: «Несть человеку мудрости, ни мужества, ни есть думы противо господеви» (Полное собрание русских летописей. Т. I. Л., 1926. Стлб. 398).
103
Впрочем, иногда чужая речь вводится с помощью глагола «пишет», но значительно реже, например: «Яко же пишет премудрый Епифаний…» (188).
104
Ср., например, с мыслью митрополита Даниила, который считал, что главное не написать, а от «божественных писаний» собрать (Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881). Непрерывное цитирование характерно также для стиля иосифлян.
105
Разное время порождает и различные формы удостоверения и авторитетности текста, например текст, заверенный нотариально, текст подписанный, «К сей скаске Семен Ларионов руку приложил» и т. п.; например, во время восстания в Москве в 1662 г. такой авторитетностью обладали для народа «воровские письма», которые приклеивались на улицах к столбам, заборам, стенам: «…а у решетки де то писмо чтут многие люди розных чинов. И как то писмо взяли, и в те поры закричали многие люди всяких чинов…» и далее: «…стрелец Куземка Нагаев на Лубянке воровское писмо чел всем вслух и на все стороны кричал, чтоб все слушали…» (Восстание 1662 г. в Москве: Сб. документов. М., 1964. С. 40–42).
106
Показательно, что по пространной редакции «Русской правды» для удостоверения факта требуется два свидетеля – «свободна мужа два» (Памятники русского права. Вып. I. М., 1952. С. 111). У Нестора в Житии Феодосия оказывается, что свидетельством правдивости, истинности события становится и сама многочисленность свидетелей этого события: «Сице же и инии мнози видевше се многажды и исповедаху» (Абрамович Д. И. Киево-печерский патерик. Киев, 1930. С. 42).
107
См.: Платонов С. Ф. Книга о чудесах преподобного Сергия: Творение Симеона Азарьина. Памятники древней письменности. № 70. 1888.
108
Татищев В. Н. История Российская… Т. II. С. 37.
109
Там же. С. 41.
110
Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. IV. Л., 1940. С. 58.
111
О природе пословицы в летописи есть замечания в кн.: Сухомлинов М. И. О древней русской летописи как памятнике литературном. С. 185–186; а также в ст.: Жданов И. Н. Слово Даниила Заточника // Жданов И. Н. Сочинения. СПб., 1904. Т. I. С. 291–292.
112
Лихачев Д. С. Повесть временных лет. С. 40.
113
Еремин И. П. Повесть временных лет. Л., 1947. С. 93.
114
Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Ученые записки ТГУ. Вып. 209. Тарту, 1968. С. 6–7.
115
О характере процесса литературного развития и об изменении художественной функции различных объектов историко-литературного исследования см. в ст.: Стеблин-Каменский М. И. Заметки о становлении литературы (К истории художественного вымысла) // Проблемы сравнительной филологии: Сб. статей к 70-летию члена-корреспондента АН СССР В. М. Жирмунского. М.; Л., 1964. С. 401–407; «…эта функция – результат длительного развития, постепенной дифференциации исторических форм, постепенного освобождения художественного произведения от функций, выполнение которых принимают на себя другие, внехудожественные литературные жанры» (С. 401).
116
Говоря о своеобразии речи романа и о специфических условиях жизни слова в романе, М. М. Бахтин пишет: «Язык в романе не только изображает, но и сам служит предметом изображения». Остальные жанры М. М. Бахтин называет прямыми жанрами, которые в речи действующих лиц не представляют индивидуальное слово. См.: Бахтин М. М. Слово в романе // Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 80.
117
Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964. С. 181.
118
См. об этом: Успенский Б. А. Поэтика композиции… С. 69–76. См. также ст.: Соколова Л. А. Недостатки в произношении как средство речевой характеристики // Ученые записки Томского пед. ин-та. Т. XXII, Лингвистические науки. Томск, 1965: «…недостатки речи в зависимости от общего замысла писателя выступают как средство индивидуализации и типизации образа…» (С. 17).
119
«Реакция собеседника, выразившаяся только в жестах и мимике, подчас может выполнять роль реплики диалога» (Никольский А. А. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. Душанбе, 1964. С. 2).
120
Якубинский Л. П. О диалогической речи // Русская речь. Вып. I. Пг., 1922. С. 96–194.
121
Там же. С. 118.
122
Там же. С. 122–123.
123
Ср.: «Давид рече: не суть речи, их же не слышаться гласи их» (Зарубин Н. Н. Слово Даниила Заточника… С. 54). Митрополит Никифор пишет Владимиру Мономаху: «Слух же и преди глаголещему слышить, и зади вопиющему разумееть» («Русские достопамятности», изданные Обществом истории и древностей российских. Ч. I. М., 1815. С. 68).
124
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971. С. 275–278.
125
«…в еврейской легендарной письменности не редкость встречать рассказы о младенцах, держащих речи, как взрослые люди. В одном апокрифическом сказании, проникшем, впрочем, в еврейскую литературу из арабской, выставляется даже такой диковинный факт, что Иисус, сын Сираха, явившись в свет со всеми зубами во рту, непосредственно после своего рождения уже поучал свою мать, объясняя ей, кто он, откуда происходит, как его зовут и что он будет совершать» (Барац Г. О библейско-агадическом элементе в повестях и сказаниях начальной русской летописи. Вып. I. Киев, 1907. С. 72).
126
Порою внутри самой летописной статьи дается указание на то, что данный факт имел место в том же году: «В лето 6592. Приходи Ярополк ко Всеволоду на велик день. В се же время выбегоста Ростиславича 2 от Ярополка, и пришедша прогнаста Ярополка, и посла Всеволод Володимера, сына своего, и выгна Ростиславича, и посади Ярополка Володимери. В се же лето Давыд зая грькы в Олешьи, и зая у них именье. Всеволод же, послав, приведе и´, и вда ему Дорогобужь» (135).
127
«В новгородской летописи XIII века землетрясение описано так: «Трясеся земля <…> в обед, а инии бяху отобедали». Здесь землетрясение и обед в равной мере являются событиями. Ясно, что для Киевской летописи это не возможно», – пишет Ю. М. Лотман (Структура художественного текста. М., 1970. С. 284).
128
Определение события дано в книге Ю. М. Лотмана «Структура художественного текста»: «Событием в тексте является перемещение персонажа через границу семантического поля» (С. 282). И далее: «…событие – всегда нарушение некоторого запрета, факт, который имел место, хотя не должен был его иметь» (С. 285).
129
Б. В. Томашевский пишет о сюжете: «Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в их изложении, в том порядке, в каком они сообщены в какой даны в произведении сообщения о них» (Томашевский Б. В. Теория литературы (Поэтика). Л., 1925. С. 137. См. о сюжете также: Шкловский В. Б. Теория прозы. М.; Л., 1925. С. 50).
130
Шкловский В. Б. Теория прозы. С. 78.
131
Там же.
132
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. С. 106.
133
Там же. С. 108.