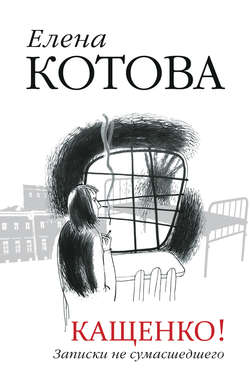Читать книгу Кащенко. Записки не сумасшедшего - Елена Котова - Страница 7
Окно наизнанку,
или записки не сумасшедшего
Подсадная утка и бородатая свекровь
ОглавлениеК утру вернулась зима, за окном падают крупные рыхлые, совершенно рождественские хлопья. С утра добрейшая санитарка Нина Михайловна дала кипяточку. Стою у зарешеченного окна ванно-курительного туалета с пластиковой кружкой кофе и сигаретой…
Окно смотрит на меня. Видно, как оно жадно глотает воздух. Я завидую окну: воздух застревает в нем где-то между первыми и вторыми створками, наполняет его нутро, в нем все свежо, влажно, прохладно. Окно чует, как мне хочется попросить его поделиться воздухом, но, видимо, ему и самому маловато. Оно так и выворачивается наружу, в сторону рыхлого снега, морозной капели, в сторону деревьев с припорошенными ветками… Окно разговаривает со мной через плечо, его сегодня раздражают однообразные картины нашего ванно-курилочного салона-сортира, это очень хорошо видно, его тянет сегодня туда, где влажный рыхлый снег, память о Рождестве, о нашем детстве. Видно, что окно про это все хорошо знает, видно, что помнит. А что наш сортир? На что тут ему смотреть? Все-таки у этого существа, у моего окна, очень сильные перепады настроения. Хорошо, что никто не догадывается.
А в сортире, действительно, все одно и то же. Меняются только обитатели, но они тоже одинаковые. Одинаковые лица над одинаковыми халатами: голубыми с розовым, синими с зеленым.
Окно начинает разговор, пусть нехотя, и вполголоса, и через плечо, но это так увлекательно, что я не слышу и не вижу «салона». Вижу только грязные, когда-то белые рамы, за ними грязную, когда-то белую решетку, за ней – грязный снег, который, похоже, никогда и не был белым. Разве что пока летел с неба… Прислоняюсь лбом к холодному стеклу, окно вздрагивает от моего тепла, перестает выворачиваться наизнанку, оно греется, мы стоим в обнимку, мы оба вспоминаем Рождество моего детства, подарки, положенные в валенок, разбитую папой звезду, из-за которой я так плакала. А мама варила холодец в ожидании гостей.
Оклемавшаяся от капельниц буйная деваха, давеча душившая кого-то, гадает по руке. Плата по таксе, такса – сигаретка. К девахе стоит очередь. Возникает искушение – пусть и мне погадает, но окно отговаривает – и правильно делает. Нагадает чёрт знает чего, а я думай потом и мучайся… Окно поворачивает ко мне пейзаж больничного парка другой стороной, а меня – лицом к новому пейзажу. Я вспоминаю картину Ван Гога. Не помню точно ее названия, там человек бредет по разноцветной аллее осеннего больничного парка. Окно поворачивает меня лицом к буро-красным и желтым вангоговским осенним листьям, к черной фигурке человека. Окно отвлекает меня, хочет охранить от гадания, от чуши, которую расскажет мне бывшая буйная душительница, а ныне хиромант девятого отделения.
Мы с окном смеемся, слушая рассказы у меня за спиной. В предсказаниях хиромантки-душительницы различается только количество детей, а в остальном у всех клиенток сортира – длинная жизнь, непременно куча денег и много секса. А еще мы все влюбчивые, доверчивые, и правые руки у нас – если сравнить их с левыми, где судьба прописана, – показывают, как мы сами искалечили свою жизнь.
Хиромантка просит оставить ей допить кофе. От самой просьбы желание пить у меня пропадает, я сую ей кружку, там осталась треть, не забыть потом помыть. Окно укоризненно морщится, мне стыдно, я отворачиваюсь от окна, смотрю на хиромантку. У нее потрясающие внешние данные: высока, стройна, худощава, с огромными голубыми глазами и аристократически-впалыми скулами. Это трудно разглядеть – мешки под глазами, деваха выглядит лет на сорок пять, но, если присмотреться, видно, что ей не может быть больше тридцати пяти и что она красавица. Отлепляюсь от окна, чтобы не надоесть ему, выхожу из сортирного салона, иду по коридору к шестой.
Всего половина восьмого, а в отделении суета и странное возбуждение. Понедельник: кого-то выпишут, будет много «новых поступлений», врачебные осмотры, беседы «по душам». Атмосфера птичьего базара и страшного бардака: сестры носятся, кричат дурными голосами, выкликают – кого на уколы и гормоны, кого к врачам в другие корпуса.
– Поговорим? – спрашивает меня «наблюдающий» врач. Мы заходим в кабинет. – Ну? Как ваши дела?
– Это я должна вас спросить.
– От меня ничего не зависит. Я считаю вас человеком совершенно адекватным, так и буду докладывать комиссии.
– А когда вы собираетесь докладывать?
– Это не от меня зависит… – Дальше длинный речитатив, возможно, смесь искреннего сочувствия в микроскопических дозах – так, для запаха правдоподобия, – с профессиональными провокационными разводками. Это законная часть методики обследования. Поковырять, понаблюдать за реакцией, спросить: «А что это вы так пальчиками нервно по ключице постукиваете?» Уже не смешно, да и не интересно.
Перед обедом на освободившуюся койку заселяют новенькую, Галину. Квадратная крепкая тетка лет сорока, крашенные хной волосы, короткая мужская стрижка. По коридорам тут же ползет слух: стукачка. Галина мгновенно пытается – громко, назойливо – задружиться со всей палатой: рассказывает какие-то истории из собственной жизни, не закрывая рта, сообщает, что у нее «свободный выход» и ближе к вечеру она непременно поедет на Даниловский рынок… Может и капустки квашеной принести, если кто хочет, и огурчиков соленых.
– Лен, вам с Даниловского рынка принести огурчиков соленых? – уже в который раз спрашивает меня новенькая, а я думаю, что когда герою рассказа Хармса надоело смотреть на вываливающихся из окна старух, он пошел на Крестовский рынок, где, «говорят, одному слепому подарили вязаную шаль». Как классно наш Хармс – блондинка с кровати в углу – вчера рассказывала свои истории из жизни Серпов. Какой сочный у нее матерок, как весело было ее слушать. С появлением шумной новенькой, заполнившей собой все пространство, атмосфера пионерлагеря, пусть и утомительного, но веселого, в палате номер шесть исчезла. Сгустился плотный негатив и тревога. Не у меня внутри, а ва-аще… Но о тревоге – ни-ни, это сразу – на карандаш.
Время посещений. Моих визитеров шмонают с повышенным пристрастием, поэтому подруга просачивается ко мне где-то через полчаса. Визит по-деловому краток: «…Вот каша, вот вода, дай посмотрю на тебя… Нормально, я боялась, будет хуже. Не жестикулируй, когда говоришь, – кругом глаза и уши. Лен, все читается, слушается, каждый твой жест и слово берутся на карандаш». Подруга – психолог, отработала двенадцать лет в Сербского. Она уходит, а я жду другую приятельницу – Надежду. Мы договорились с ней пройтись по редактуре рукописи четвертого романа. Так много свободного времени, как в психушке, у меня может уже и не быть…
Нади нет и нет, проходит час, я получаю текст от помощницы: «Ее не пропускают». Представляю себе, в каком шоке Надя: интеллигентное, апеллирующее к логике и здравому смыслу создание, издатель стихов, организатор литературных вечеров. Догадываюсь, что она чувствует: Владимирский централ, Матросская Тишина… Набираю. Так и думала, возбужденный голос: «Лена, нас к вам не пускают!» Отвечаю, пожалуй, даже жестко, потому что именно в этот момент меня почти раздражает, как легко люди впадают в отчаяние, насколько они н принципе не готовы понимать, что такое вообще жизнь за пределами их собственного устоявшегося мира:
– Надя, прошу вас, не пререкайтесь, не тратьте нервы и время. Передайте мне то, что примут из принесенного, и спокойно идите домой.
– Лена, но я же всю ночь вам кашу гречневую варила, мне ее надо же передать. А тут такой шмон…
Я не понимаю, что я могу и что должна сделать в этой связи, и меня этот разговор раздражает все больше.
– Спасибо вам за кашу, но если не берут, значит, не берут. Что, теперь из-за каши еще переживать? Я очень прошу вас, не расстраивайтесь, просто идите домой.
– Получается, я зря приехала, – в голосе досада и растерянность. Что, теперь я должна ее утешать, так, что ли? – А вы знаете, что тут еще ваш адвокат, мы с ним вместе? Так его тоже не пускают.
Я вешаю трубку. О Надежде с медперсоналом говорить бессмысленно, раз не пускают, значит, уже и не пустят, решение принято, а в этих стенах его никогда не меняют. А вот почему не пускают адвоката – это интересно, хотя сегодня я адвоката не ждала. А! Значит, прикатил тот первый, который помог следователю запихнуть меня в психушку. Интересно, чего это он? Подхожу к старшей медсестре: «Там пришел адвокат, а его не пропускают».
– Он как раз на эту тему беседует с завотделением.
Присаживаюсь на кровать так, чтобы хорошо видеть коридор. Интересно, как объяснит свое решение завотделением. Что адвоката не пустят – уже понятно, но интересно, как будет развиваться скандал. Наверняка он уже бушует за железной дверью. Может, ради этого адвокат и явился?
Вижу, как завотделением бодрым шагом скачет по коридору: кошмарное синтетическое платье аквамаринового цвета с вырезом, поверх него – короткий коричневый твидовый пиджак в клетку. На ногах темные чулки и белые босоножки на шпильке. Вообще-то она миловидна: круглое личико, хорошая кожа, шелковистые волосы лежат на плечах прямым каре. При этом лицо матерой стервы. Обращаюсь к ней по имени-отчеству:
– …Там адвокат пришел, насколько я понимаю. Вы что, решили его не пускать?
– Нет! Не пущу, потому что он хам! Вел себя безобразно, провоцировал меня… оскорблял! А с вами, Котова, я буду общаться в пределах, установленных законом.
– В этих пределах мне положены беспрепятственные встречи с адвокатом, причем наедине.
– Он что, не понимает, что своим поведением вредит вам? Он хочет, чтобы мы вас тут еще на два месяца оставили? Это мы быстро: вызовем судью, прокурора… Он этого добивается? – Стерва не понимает, что в приступе ярости рассказала план своей мечты, а я понимаю, что как бы страстно она ни мечтала его реализовать, этого не произойдет, она испугается. И все же мне не по себе: кто может сказать, где пределы вседозволенности в отношении больных, о которой напомнил ей мой адвокат? И одно это напоминание привело ее в ярость… Боязно… Боязно не от того, что стерва решится тут устроить, как она выразилась, «выездной суд», боязно потому, что я не понимаю, что там за игра вокруг меня затевается. Но тем не менее бодренько продолжаю:
– Зачем вы мне это говорите? Зачем мне вообще выслушивать ваши впечатления от адвоката? Я не могу повлиять ни на его поведение, ни на ваше отношение к нему.
– Вы же его наняли! Вы и отвечаете за его поведение…
Бабу, похоже, снесло с рельс. Чушь почище, чем у нашей хиромантки-душительницы. Понимаю, что жизнь моя теперь, конечно, несколько осложнится, но исключительно в пределах мирка, где царит произвол медперсонала. Начальство гневается, и остальные уже незримо взяли под козырек. Но завотделением не будет полагаться на их понимание. Она проинструктирует их ясно и недвусмысленно, какую именно степень жестокости и устрашения следует ко мне применить. Интересно, она от этого удовольствие получает, что ли?
Через полчаса приносят передачу. На этот раз я даже не успеваю понять, от кого. Главное – шесть двухлитровых бутылок Evian.
– Зачем вам столько воды? В палате ее негде ставить! Сдайте воду на пост и получайте по одной бутылке!
– Я все уберу, не волнуйтесь.
– Куда уберете? В палате места нет. Зачем вам столько воды?
Я не отвечаю. Воду надо убрать, а то потом не допросишься. Удивительно, но на единственную полку, выделенную мне в шкафу, я уже научилась запихивать практически неограниченное количество добра. Ставлю штакетником бутылки, маскирую их халатом. Надо позвонить мерзавцу-адвокату, интересно же, чем он так взбесил нашу эсэсовку. Тот возбужден настолько, что я не могу удержаться, чтобы его не поддеть:
– Вы за территорию-то этого заведения вышли? А то и вас, как психа, заметут.
– Я еду в офис. Завтра уйдет жалоба…
Дальше следует перечисление адресатов… Собянину, прокурору Москвы, еще бог знает куда. Зачем? Симуляция осмысленной активности?
Почему я нервничаю? Хороший вопрос. Ведь я уже поставила на этом адвокате крест. Сознательно ли он провоцировал нашу стерву, или просто куражился, или приехал в плохом настроении… А когда он был в хорошем, кстати? Что о нем думать, я же знаю, что уволю его, как только выйду из Кащенко. Мне уже ясно, какую мерзкую роль он сыграл в моем заточении… Да-да-да. Сыграл, это ясно как день. Правда, чтобы ясность наступила, пришлось оказаться тут. Но ведь она наступила, хоть и такой ценой. Как я раньше не замечала, что он чуть ли не двумя или даже тремя глазами подмигивал следователю, рассказывая ему о моей тонкой нервной организации. Даже слова помню: «Елена Викторовна же не просто так упала. Как это – просто упасть? И руку сломать, а потом и ногу? Это же не просто так, это от нервов. На вас ответственность ляжет!» Даже, думаю, ясно, зачем он это делал. Чтобы потом долго и дорого меня отсюда вызволять.
Так отчего я нервничаю? Не было бы этого инцидента – между адвокатом и стервой, – было бы что-то другое. Я же сказала себе, что провокации – часть применяемых тут методик. А вдруг в ответ на хамство, злобу, безосновательный отказ я начну рыдать, или биться головой об стенку, или наброшусь на медперсонал…
– Лен, чё они к вам сегодня привязались? А кто не пустил вашего адвоката, наша заведующая? А почему? – пристает ко мне новенькая, Галина. Ей интересно. Татьяна Владимировна показывает мне с койки глазами: «Молчи». Все почему-то уверены, что у новенькой интерес ко мне не праздный. Мне от этого тоже неуютно, но ответить себе на вопрос, а чем она, собственно, может мне так уж навредить, что такого рассказать обо мне, чтобы моя жизнь стала существенно хуже, – на этот вопрос я ответить не могу. А кругом все строят большие глаза и предостерегают: «молчи». У нас что, уже у всех тюремный синдром развился?
Иду в «курительно-какательный салон». Там – блондинка из моей палаты, та самая, что давеча рассказывала про «падающих старух», не подозревая, что это современный Хармс… Все больше убеждаюсь, что она тут лучшая: острое чувство юмора, невероятная доброта, прикрытая матерком, удивительная стойкость. Ксения тоже на экспертизе, не знаю за что, знаю только, что тоже уголовка. Мать троих детей: пяти лет, трех и пятимесячного.
Курим, травим анекдоты. Кто-то перемывает кости одной больной, скажем, Тамаре Петровне. Тамара Петровна – бывшая гаишница, медсестрам отдает честь, порой что-то бормочет себе под нос, а порой бросит такое меткое и смешное замечание, что сразу сквозь мутные бледно-голубые глаза проступает личность, характер. По крайней мере, он был. Остался ли сейчас – непонятно.
Ксюха пересказывает рассказ гаишницы. К той, как выяснилось, приходила свекровь, чтобы повезти ее в ресторан… Тамара Петровна ждала, настроилась, а свекровь возьми да и заявись с бородой! Тамаре Петровне стало так стыдно: как же они в ресторан поедут на метро, раз свекровь с бородой? Срам-то какой! Куда ж в ресторан, если свекровь с бородой, как мужик, заявилась? Пришлось им в ресторан ехать на такси, а это такие деньги…
Все катаются со смеху… Грех, конечно, но ведь смешно, не удержаться. И вдруг я вспоминаю свой первый день:
– Девки, я только сюда поступила, хожу еще как чумная, ничего не соображаю, в первый день по отделению. Ко мне Тамара Петровна подходит и говорит: «Надо же, вылитый отец!» А я действительно на отца похожа, не на маму. Я ей обрадованно, на полном серьезе: «Вы моего папу знали?» – а она мне: «А то! На прошлой неделе вместе на кухне у вас пили. В двадцать втором доме». Я ей говорю: «Мой папа умер двадцать лет назад», а она: «Да ладно, не гони…» Потом ущипнула меня за задницу со словами: «Маленькие женщины такие сексуальные», – заканчиваю я рассказ под общий хохот.
– Ты, мля… с этой… С Галькой… Поосторожнее. Не говори при ней ничего лишнего. Ее специально подсадили. Я думаю, именно из-за тебя. Чтоб им докладывать, что ты делаешь, а главное, что говоришь, – втолковывает мне «Хармс». Я не думаю, что Гальку «специально подсадили», но что стучит – это очевидно. Причем, скорее всего, даже не ради какой-то цели. А так просто, чтобы чувствовать свою близость к власти. Наверное, это и есть самое верное и простое объяснение.
– Нет, специально, – настаивает «Хармс». – Тут просто так ничего не бывает.
Ну даже если и специально, какая разница? Или не специально, а у бабы просто словесный понос, то какая разница? Тоскливо…
В палате новенькая разговаривает по телефону, не замолкая, уже с обеда. Зачем-то объясняет, почему ей не удалось привезти с Даниловского рынка капустки квашеной и огурчиков солененьких. Просит кого-то привезти ей капустку, но тут же сообщает, что на следующий день пойдет на рынок еще раз и тогда уже непременно купит капустку… По палате разбросаны ее вещи: пальто, зимние сапоги, свитера. В шкафу – ее же чемодан. Вспоминаю воду, которую некуда ставить, и две свои футболки на полочке в углу.
Наговорившись, Галина отправляется с Ксюхой-Хармсом в туалет покурить. Приходит, садится за стол, берется за телефон, одновременно выясняя, чьи это на столе конфеты «Птичье молоко». Принадлежность конфет установить будет трудно, потому что Галина доедает уже предпоследнюю. Тут же снова поднимается, направляясь в туалет курить. Прихватывает меня, а я, в свою очередь, и «Хармса». В туалете мы с «Хармсом» выкуриваем по сигарете и тихонько линяем, пока Галина вяжется с разговорами к сидящей на корточках наркоте. Галина на наше исчезновение не реагирует, но в палату возвращается, к сожалению, быстро. Раздевается, по ходу дела рассказывая нам услышанное в ванно-курительном сортире, натягивает черную кружевную сорочку на бретельках, которые врезаются в ее упитанные, с хорошими жировыми отложениями, плечи, накидывает черное кимоно. Садится к столу, съедает несколько конфет. Сообщает, что без чая конфеты не в радость, и идет к сестрам за кипятком, спрашивая попутно, нет ли у меня кофе.
У меня есть кофе… Галина тормозит, сыплет в кружку кофе и отправляется в сестринскую. Получив кипяток, заруливает в палату за сигаретами и, прихватив в качестве слушателя проходящую мимо по коридору женщину из неизвестной палаты, снова отправляется на перекур. Возвращается, ложится в постель.
Через полчаса в палате храп. Как будто работает отбойный молоток. Духота.
Я лежу с закрытыми глазами, не выдерживаю, иду снова покурить, хотя курить уже невмоготу… Стою перед окном. Оно потемнело, оно не показывает мне мир, только манит чернотой стекла. Окну не спится, это видно… Как заснешь, когда вокруг толпятся наркоши с кружками чифиря по-кащенски и мелют, мелют языками. Окно радо мне, оно снова закрывает меня от людей вокруг, даря мне общение с темнотой за стеклом. Мы смотрим друг на друга и не представляем, как заснем, хотя спать обоим хочется давно.
Сестра наблюдает, как я шастаю по коридору. Я знаю, что это мне в минус. Возвращаюсь в палату. Лежу, думая, что за храп, куда менее надрывный, я двадцать пять лет тыкала родного мужа пальцем под ребра.