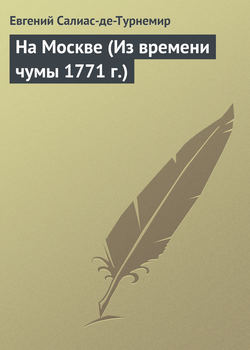Читать книгу На Москве (Из времени чумы 1771 г.) - Евгений Салиас-де-Турнемир - Страница 12
Часть первая
XIII
ОглавлениеВ конце Знаменки, там, где она вдруг крутым спуском примыкала к речке Неглинной, на открытом месте торы стояли большие барские палаты, видные отовсюду… Дом выходил на Знаменку и переулок, а с горы шел вплоть до речки большой сад с огромными столетними деревьями. Дом был построен когда-то в начале столетия известным на всю Москву боярином Ромодановым.
Андрей Иваныч Ромоданов уже лет с десять как умер. В этом доме жила теперь его вдова Марья Абрамовна Ромоданова, урожденная княжна Колховская, женщина лет шестидесяти, но которой на вид нельзя было дать и пятидесяти.
В огромном доме, кроме старой барыни, жил еще ее единственный внук, молодой барчонок, недоросль двадцати лет, Абрам Петрович, и затем десятки, если не вся сотня всякого рода прихлебателей.
Два огромные флигеля и многие надворные строения были переполнены бесчисленной дворней.
Еще в царствование императора Петра II[12], когда весь двор переселился в первопрестольную, вместе с этим двором переехал в Москву и князь Абрам Колховской с своей семьей. И здесь, в Москве, незадолго до смерти молодого государя, князь отдал свою пятнадцатилетнюю дочь, богатую приданницу, за придворного Андрея Ромоданова, который был почти нищ, но зато считался приятелем Долгорукого[13], фаворита государя.
Не прошло и нескольких месяцев после свадьбы, как Долгоруков отправился в ссылку, и князь горько сожалел, что поспешил со свадьбой.
При воцарении государыни, покровительницы немцев, оба семейства, и Колховские, и Ромодановы, остались в Москве и перестали сразу быть близкими ко двору людьми.
Андрей Иванович Ромоданов, с первых лет супружества, не только забрал в руки свою молоденькую жену, но и всю ее родню. Он отличался умом, большим красноречием и тяжелым нравом и скоро был прозван в Москве Соловьем-Разбойником.
– Говорит – что твой соловей, а действует – что твой разбойник! – отзывались о нем знакомые.
Начиная от старого тестя и жены, Марьи Абрамовны, и кончая даже знакомыми, все трепетали перед Андреем Ивановичем. Князь-тесть вскоре умер, а молоденькая Марья Абрамовна была тотчас заперта, как в монастырь, и муж позволял ей только иногда появляться на больших балах или на больших обедах.
Но еще строже и безжалостнее относился Андрей Иванович к единственному сыну – Петру. Когда молодому малому минуло двадцать пять лет, он вдруг, совершенно неожиданно для всех, но тайным причинам, женил сына на очень бедной девушке, совершенно неизвестного рода, но замечательной красоты.
Через год в семье Ромоданова произошла драма. Был сделан донос императрице Елизавете Петровне на Андрея Ивановича. Государыня прислала в Москву двух сенаторов судить дело келейным образом, ради великого срама и чтобы не позорить дворянство. В чем состояло все это дело – рассказывалось в Москве на разные лады. Во всяком случае, молодая невестка, родив на свет ребенка, названного в честь прадеда Абрамом, через несколько дней умерла, но, однако, в чем-то успела покаяться перед своим молодым мужем.
На похоронах во цвете лет погибшей жены молодой Петр Андреевич в церкви, во время заупокойной литургии, бросился на отца в два раза ударил его. Это произошло на глазах всей Москвы и стало известно всем. Но все, что присоединилось к этому рассказу, было двумя сенаторами, приехавшими судить дело, скрыто и замято.
После этой истории старый Андрей Иванович заперся в своем доме и окончательно не пускал к себе никого.
Через год умер и сын. И Москва заговорила, что Соловей-Разбойник уморил его, что не следовало после происшедшей истории оставлять молодого малого в доме старика, погубившего свою невестку.
Андрей Иванович прожил еще десять лет взаперти, чуждаясь людей, и вдруг собрался идти в монастырь.
– Пора старому греховоднику грехи свои замаливать, – отозвалась Москва.
Но старику не пришлось надеть рясы. За месяц до срока, назначенного для пострижения, он умер. Его нашли поутру мертвым в постели, а около постели – нечто, очень удивившее всех… Огромный портрет его покойной невестки, висевший всегда на стене, был снят и поставлен невдалеке от кровати. Каким образом портрет, который видели накануне вечером на стене, попал сюда – недоумевали все.
И вот, Марья Абрамовна, запертая более тридцати лет в доме мужа, вдруг стала свободна и независима. Сейчас по привычке она продолжала жить смирно и тихо, почти не пользуясь большим состоянием, которое сумел удесятерить покойный муж. Но понемногу, из года в год, Марья Абрамовна, как говорили про нее приятели, «вкусила древа познания добра и зла!».
Теперь Ромоданова, просидевшая в четырех стенах своей горницы с пятнадцати лет почти до пятидесяти, старалась как бы наверстать потерянное. Никто во всей Москве не жил так весело и столько не пользовался всякими развлечениями и удовольствиями, как Марья Абрамовна.
Дом ее был открыт для всех и был золотым дном для всякого, даже для ленивого, чтобы тащить и грабить. Марья Абрамовна была обкрадываема всеми, начиная с управителей в имениях и кончая ближайшими своими наперсницами. И состояние ее было уже теперь не в том виде, в каком оставил его покойный муж.
Ромоданова была женщина очень добрая и очень ограниченная. Сидение взаперти и постоянный трепет перед деспотом-мужем сделали то, что почти шестидесятилетняя и независимая женщина все-таки не имела теперь собственной воли, и ею помыкал всякий, кто бы он ни был, а управлял вполне самый искусный из всех, покуда не появлялся другой, еще более искусный. В доме ее шла постоянная война между самыми разнородными личностями, и всякий из них стремился подчинить своему влиянию богатую барыню. Но подчинить себе вполне Марью Абрамовну было невозможно, именно потому, что человек самый искусный или просто последний, вышедший из ее горницы, переделывал все на свой лад. Таким образом выходило, что она слушалась и всех, и никого.
Было, однако, три лица, которые делали из нее почти все, что хотели, и если бы они соединились вместе и стали действовать сообща, то, конечно, все ее имение скоро перешло бы в их руки. Но, на свою беду, эти три человека боролись между собой и были злейшие враги.
Первый из них был гувернер внука-недоросля и в то же время домашний врач, главный советник и наперсник барыни, уроженец Митавы, Христиан Кейнман.
Это был человек лет под сорок, но лицом казался чуть не юношей. Белый, розовый, пухлый, какая-то смесь булки с пастилой. Вместо бороды и усов у него был, несмотря на года, юношеский пух и при этом светлые, почти белые, детски-добродушные глаза. Он был любимцем не только Марьи Абрамовны, но всех вообще московских барынь, и преимущественно пожилых. Будучи родственником и тайным помощником в некоторых делах знаменитого в то время в Москве доктора штадт-физикуса Риндера, Кейнман проник во все дома столицы.
Приобрев порядочные средства от добросердых московских дательниц, он мог бы уже давно поселиться самостоятельно, но предпочитал жить в доме Ромодановой и называться гувернером ее внука… На это были особые причины… У немца была впереди давнишняя серьезная цель, и теперь он уже начинал усиленно к ней приближаться. Дело было в том, чтобы законным образом как-нибудь похерить своего питомца, недоросля Абрама. Чем более в барыне росли и укреплялись дружба и доверие к немцу, тем скорее должна была решиться участь ее внука.
Москва толковала, что будто бы Марья Абрамовна давно уже не Ромоданова, а госпожа Кейнман, и что не нынче завтра тайный брак ее с учителем будет объявлен, но это нелепость. С времени знакомства бодрой и веселой барыни-вдовы с немцем прошло лет пять-шесть, и Москва напрасно ждала «срамного происшествия». Ромоданова была не из тех барынь, что заводила себе домашних любовников.
Другая личность, безвыходно торчавшая в гостиной, спальне и вообще во всех горницах дома без исключения, как свой человек, был монах Донского монастыря, отец Серапион.
Монах был совершенная противоположность пухло-розовому учителю. Отец Серапион был черен, смугл, длинен, худ, с крючковатым носом, с узенькими черными глазами и с такими бровями на лбу, что у иного в тридцать лет нет таких и усов. Что касается до густой бороды, то у него, по воле природы, была за двух – и за себя, и за немца.
Под всем известным в Москве именем отца Серапиона скрывался, как говорили, какой-то кавказский князь, бежавший с родины после убийства своей возлюбленной и ее мужа. Последнее, быть может, добавила сама Москва; в действительности же верно было только то, что отец Серапион был несомненно восточного происхождения, вернее всего – грузин. Монах был человек вовсе не свирепый и не страшный, напротив, – очень веселый и приятель со всеми. Единственная личность, с которой он был постоянно на ножах и которого стращал как-нибудь прирезать, был немец.
Общего между ними ничего не было, – ни капли. Только разве одна особенность: как, со своей стороны Кейнман ломал русский язык, которого никак не мог выучить, точно так же и отец Серапион, несмотря на русское монашеское платье, тоже говорил таким особенным, исковерканным языком, что часто одним русским словом своего собственного сочинения распотешивал целое общество.
Третье лицо, и самое влиятельное, в доме Ромодановой, которое Марья Абрамовна обожала – и уже давно, еще при жизни покойного деспота мужа, была дворянка, однодворка, жившая в доме с молодости, и почти ровесница самой барыне. Так как Анна Захаровна Лебяжьева была наперсницей и первым другом Ромодановой еще во время ее замужества и заточения, то понятно, что теперь она стала первым лицом в доме, и у нее за последние года накопился уже такой капитал, что она купила себе подмосковное имение.
Анна Захаровна ухитрилась быть другом и балтийского учителя, и кавказского монаха. Каждый из них, считая себя ее приятелем, все-таки старался ее выжить из дома и более или менее занять ее место; но это было невозможно. Без Анны Захаровны Ромоданова не прожила бы и трех дней, и, в сущности, первое лицо и хозяйка в доме была эта приживалка Лебяжьева. Она же занималась всеми мамушками молодого барина, Абрама Петровича, и вообще его воспитание касалось до нее одной, так как Марье Абрамовне, при всех ее затеях и веселой жизни, не было времени заниматься внучком.
Несмотря на то, что бабушка почти не видала внучка и он проводил целые дни в девичьих и во флигелях с дворней, однако Марья Абрамовна все-таки почему-то тяготилась его присутствием в доме. Благодаря именно этому обстоятельству, в последнее время было решено распорядиться судьбой молодого недоросля на особый лад.
После совещания, на котором присутствовали четыре лица: сама Ромоданова, друг-приживалка, друг-учитель и друг-монах, было решено отдать Абрама в монастырь.
На этот раз, впервые в жизни, отец Серапион оказался одинакового мнения с Кейнманом.
Упечь молодого недоросля в послушники, а потом в монахи было выгодно для всех в доме, ибо все боялись, что через год-два Абрам Петрович может жениться, и хотя, конечно, ему выберут жену, но ведь на грех мастера нет, – и вдруг явится новая барыня, молодая, и приберет все в руки, начиная с Марьи Абрамовны. Так или иначе, но декабрь месяц 1770 года был почему-то поставлен как последний срок поступления молодого, уже двадцатилетнего барчука в один из московских монастырей, преимущественно в Донской[14]. С ним вместе должен был поселиться, в качестве наставника, отец Серапион.
Об этом уже не раз совещалась и Ромоданова, и даже Анна Захаровна с преосвященным Амвросием[15], московским архиереем.
Если бы преосвященный согласился сразу с мнением богатой и легкомысленной барыни, то Абрам был бы уже давно в рясе; но, на беду затейников, преосвященный каждый раз советовал Марье Абрамовне дело отложить и не спешить, и только за последнее время он согласился на то, чтобы молодой Ромоданов поступил в послушники в монастырь, где брат преосвященного, Никон, был архимандритом, т. е. в Новый Иерусалим. В этот день Ромоданова позвала к себе внука, осталась с ним глаз на глаз и долго разъясняла ему дело, открывала все прелести, спокойствие и богоугодвость монашеской жизни. Абрам слушал бабушку долго, внимательно и с веселым выражением лица. Он не боялся монастыря; ему казалось, что на свете так весело жить, что всюду будет весело. Однако, когда бабушка кончила свою речь, Абрам ласково и заискивающим голосом сделал ей неожиданный вопрос:
– Бабушка, голубушка!.. Нельзя ли уж вам попросить преосвященного меня назначить не в Новый Иерусалим, а в Зачатьевский или вот в…
– Да ведь он женский!..
– Ну, то-то, в женский… Голубушка, бабушка!.. Попросите… Я знаю, что это не полагается… Но ведь если преосвященный прикажет…
Ромоданова очень рассердилась и тотчас прогнала внука без всяких разговоров.
Абрам был далеко не глуп, но сильно избалован своей средой и обстановкой. Кроме того, молодой недоросль, мало и редко видавший веселящуюся бабушку и не любивший ее, был всей внешностью и лицом вылитый портрет деда, Андрея Ивановича, память которого не была сладка бабушке. Зато нравом своим Абрам был в мужском платье – Марья Абрамовна. Даже характером своим, своею беспечностью, легкомыслием и своею бесхарактерностью внук был похож на бабушку, как мог бы только походить родной сын на отца или мать.
Ромоданова порхала по Москве, повинуясь и собственной потребности, и по советам всех своих друзей и приятелей, а Абрам сидел больше дома с своими приятелями и приятельницами, с приживалками, с дворовыми, сенными и горничными девушками и тоже веселился на свой лад.
И точно так же, как Анна Захаровна, немец и монах воевали между собой по поводу преобладания и власти над старой барыней, точно так же вокруг Абрама воевали дворовые и преимущественно сенные и горничные за владение молодым барином.
Разнохарактерное население больших палат относилось к барыне и барину особенно. Марья Абрамовна, добрая, но взбалмошная, никому ни в чем не отказывавшая, не была, в сущности, никем любима. Часто за ее спиной, почти все без исключения, целая сотня дармоедов, начально издевалась над ней и ругала ее. Точно так же и юного барича, за исключением его наперсниц, никто не любил в доме, – ни нахлебники, ни дворовая мужская половина. Даже Анна Захаровна, его воспитывавшая, относилась к нему равнодушно и не только не мешала его любовным похождениям, но даже потворствовала им. Ей было не до того; у нее было всегда две цели в жизни, из которых одна уже была достигнута: нажить хорошенькое состояние и выйти замуж за красивого молодого человека из полудворян.
Среди десятков всяких приживальщиков в доме Ромодановой особенно отличались от всех четыре существа.
Первое их них, самое заметное, была здоровенная, сильная, как добрый мужик, добродушная, как любой ребенок, ласковая со всеми и вечно улыбающаяся, старая арапка, за которую Марья Абрамовна заплатила такие деньги, на которые можно было бы купить целое подмосковное имение в сто душ. Арапку привезли в Петербург на корабле и прочили продать самой императрице Елизавете Петровне, но государыня скончалась, а новая молодая государыня не пожелала иметь арапки, называя это глупым обычаем.
Один из друзей Ромодановой, петербургский сенатор, был ей должен тысячу рублей, давно взятых взаимообразно у богатой вдовы, и, чтобы расплатиться с ней, прислал ей арапку.
Ромоданова махнула рукой на долг и оставила арапку у себя.
Другая фигурка, отличавшаяся от прочих, была маленькая карлица, про которую ходил слух, что она «сбоку» приходится племянницей самой барской барыне Лебяжьевой.
Это была уже двадцатилетняя девушка, страшно дурная собой, злая и старообразная. Настоящее имя ее почти все забыли, хотя она и родилась в этом доме. Все звали ее «Тронькой», и все всячески дразнили ее.
Давным-давно барыня погрозилась однажды, еще восьмилетней девчонке, ее ударить. Девчонка, при всех гостях, вдруг почему-то окрысилась, озлилалсь, погрозилась сама кулаком и вымолвила:
– Тронь-ка, попробуй!..
И к удивлению барыни и всех присутствующих, она злобно, ехидно повторила несколько раз:
– Тронь-ка! Тронь-ка!..
Девчонка была наказана сильно и вдобавок с тех пор осталась с этим прозвищем. Грубое слово, сказанное барыне, заменило собой имя, данное при крещении.
От природы ли или от суровой жизни, но двадцатилетнее существо, хотя и казалось ребенком по росту, по злобе своей было совершенный зверь. Иногда Тронька, доведенная шутками дворни до исступления, падала на пол, и с ней делались припадки, от которых разбегались боязливо все праздные шутники.
Наконец, года три назад, одна из дворовых женщин, особенно награждавшая Троньку колотушками, поймала карлицу над таким занятием, о котором хотели довести до начальства. Тронька, подставив стул к люльке полугодового ребенка этой женщины, умостилась на нем и тихонько колола его булавками всего до крови.
Тут вспомнили, что за год перед тем ребенок одной из дворовых женщин – неизвестно как – истек кровью. Троньку чуть-чуть не разорвали на части, застав за этим занятием, и сама Анна Захаровна должна была спасти ее от разъяренной толпы дворовых. Зато с тех пор Тронька не могла пройти ни одной комнаты, чтобы не получить от кого-нибудь здоровую колотушку, и как с тех пор жила она и не зачахла, – надо было удивляться живучести ее натуры.
Третье замечательное лицо в доме Марьи Абрамовны был недавно приобретенный каракалпачонок.
Так как во всех домах Москвы водились киргизята, калмычата и башкирчата, поэтому богатой барыне было это не диво. Всех калмычат, которых она имела, она раздарила и, узнав, что мудренее всего иметь каракалпачонка, она тотчас выписала себе пару через оренбургского вице-губернатора; но один из них умер на дороге.
Этот молодой дикарь, лет восемнадцати, по имени Ахей, не отличался ничем особенным. Многие принимали его просто за дворового мальчугана, хотя отчасти смахивающего на калмычонка. Единственно, что умел он делать, – это петь какую-то песню с таким диким визгом, что всякий, кого угощали этой затеей из соседней горницы, думал невольно, что там кого-нибудь режут ему на потеху.
Четвертое существо, наиболее уважаемое во всем доме, с которым все обходились ласково и предупредительно и которое, в противоположность всеми битой Троньке, все ласкали, – был здоровенный, белый, жирный, заморский, очень дорого заплаченный кот.
Его обожала Марья Абрамовна, любил даже Абрам, и если не любили, то ласкали сотни рук во всем доме и флигелях. Все, от барыни и до последней девчонки в доме, иначе не называли как: «Василием Васильевичем». Еще барыня позволяла себе иногда в минуту нежности назвать его «Васей» и «Васинькой», но никто из приживателей и прихлебателей никогда бы не осмелился обратиться к барскому коту иначе как со словами:
«Мое почтение! Как ваше здоровье, Василий Васильевич?»
Наконец, – сверх всех этих заметных личностей дома Ромодановой, – отличался от всех особенно резко и не имел с ними ничего общего дворовый человек, Иван Дмитриев. Это был холоп-деспот, наследие прошлых лет и покойного Андрея Ивановича.
12
Петр II (1715–1730) – российский император с 1727 г., внук Петра I, сын опального царевича Алексея, приступил к демонтажу системы петровских реформ.
13
Долгоруков Иван Алексеевич (1708–1739) – князь, друг императора Петра II, при Анне Ивановне после длительной ссылки был казнен в Новгороде.
14
Донской монастырь – московский мужской монастырь, основанный в 1591 г.
15
Амвросий (Андрей Степанович Зертис-Каменский; 1708–1771) – архиепископ Московский, один из ученейших и образованнейших людей своего времени; был убит возмущенным народом во время чумного бунта.