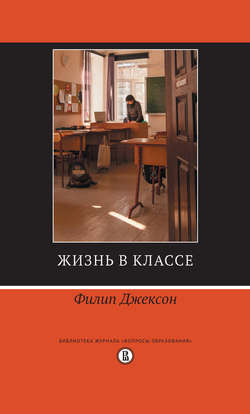Читать книгу Жизнь в классе - Филип Джексон - Страница 7
Филип Джексон. Жизнь в классе
I. Рутина
1
ОглавлениеШкола – это место, где тесты пишутся успешно и не очень, где происходит много забавного, где сталкиваешься с чем-то неизведанным и учишься новому. Но это также то место, где сидят и слушают, ждут и поднимают руки, по очереди сдают письменные работы и точат карандаши. В школе мы приобретаем друзей и врагов, высвобождаем воображение и расстаемся с незнанием. Но в школе также трудно подавить зевоту, на партах от скуки выцарапываются инициалы, собирают деньги на еду и толпятся на переменах. Оба аспекта школьной жизни – и явный, и скрытый – всем знакомы, но скрытый аспект, хотя бы только в силу пренебрежения им, заслуживает, по-видимому, большего, чем ему уделяется, внимания.
Для того чтобы понять значение классной обыденности, необходимо разложить ее на события и рассмотреть частоту их возникновения, изучить стандартизированность школьной среды и значение принудительности ежедневного присутствия. Другими словами, нужно признать, что дети проводят в школе длительное время и условия, в которых они находятся, в высокой степени единообразны и навязаны им. Каждый из этих кажущихся очевидными факторов заслуживает подробного рассмотрения, поскольку важен для понимания того, что учащиеся думают о своем школьном опыте и как справляются с ним.
Количество времени, которое дети проводят в школе, может быть описано с изрядной долей точности, однако психологическая значимость привлекаемых количественных данных – это совершенно другая история. В большинстве штатов учебный год по закону продолжается 180 дней. Полный учебный день, как правило, длится около шести часов (с перерывом на обед), начинается около девяти часов утра и заканчивается около трех часов дня. Таким образом, если ученик не пропускает ни дня в течение года, он проводит больше 1000 часов под присмотром и опекой учителей. Если он был в нулевом классе и достаточно регулярно посещал занятия в начальной школе, то к моменту перехода в среднюю школу на его счету будет более 7000 учебных часов.
Важность этих 7000 часов, распределенных на шесть или семь лет жизни ребенка, трудно преувеличить. С одной стороны, при сравнении с общим количеством часов жизни ребенка за этот период, это чуть больше 1/10 прожитого им времени или около 1/3 времени, затрачиваемого на сон. С другой стороны, кроме сна и, возможно, развлечений, нет никакой другой деятельности, которая занимает столько же времени в жизни ребенка, как посещение школы. Помимо спальни, где он обычно спит, нет ни одного места, где ребенок проводил бы больше времени, чем в классе. С шести лет для него более привычным становится видеть своего учителя, чем отца и, возможно, даже мать.
Есть еще один способ произвести оценку того, что все эти часы в классе означают для ребенка: сравним их общее количество со временем, потраченным на какой-либо другой вид привычной деятельности. Например, на посещение церкви. Для того чтобы провести в церкви столько же времени, сколько шестиклассник провел в классе, нужно посещать религиозные собрания каждое воскресенье в течение 24 лет, даже больше, и проводить на них целый день. Или, если набожность не столь велика, то нужно присутствовать на часовой службе каждое воскресенье в течение 150 лет, чтобы освоить внутреннее помещение церкви так же, как знает школу 12-летний ребенок.
Сравнение с посещением церкви эффектно, но может показаться несколько утрированным. Однако оно заставляет задуматься о потенциальном смысле кажущегося на первый взгляд бессмысленным числа. Кроме того, помимо дома и школы нет иного места, чем церковь, где люди всех возрастов собирались бы столь же часто.
Сопоставление пребывания ребенка в классе с посещением еженедельной церковной службы преследует еще одну цель: создает основу для рассмотрения важного сходства между этими двумя учреждениями – школой и церковью. Посетителей в обоих случаях окружает традиционная атмосфера, продолжительное воздействие которой обретает свою растущую значимость по мере того, как начинаешь осмысливать повторяемость, избыточность и демонстративность свершающейся в этих пространствах обрядовости.
Класс, как и церковь, редко можно представить себе чем-то иным. Никто из входящих в данные помещения не подумает, что он находится в гостиной, в продуктовом магазине или на железнодорожном вокзале. Даже если прийти в полночь или в любое другое время, когда деятельность людей замирает и не дает подсказки, где ты находишься, сложности в понимании того, что должно происходить в этих пространствах, не возникнет. И в отсутствие людей церковь – это церковь, а класс – это класс.
Это не значит, конечно, что все классы, а тем более церкви одинаковы. Разумеется, различия, и иногда очень резкие, есть. Возьмем, например, деревянные скамьи и дощатые полы в классах старых американских школ и пластиковые стулья и полы из плитки в современных пригородных школах. Но есть и сходство, что для нас важнее. Тем более, что различия на протяжении какого-либо конкретного исторического периода не так уж и велики. Кроме того, какая, в сущности, разница, бегает ли школьник с первого по шестой класс по полам из винилового пластика или из промасленного дерева, висит ли перед ним черная доска или зеленая? Существеннее то, что окружающая его в течение шести-семи лет среда очень стабильна.
Учителя начальной школы порой тратят немало времени на то, чтобы создать в классах домашнюю атмосферу. Они украшают стенды, вешают новые фотографии, меняют расположение стульев – от кругового до линейного и обратно. Но эти перестановки и обновления в лучшем случае напоминают действия вдохновленной домохозяйки, которая двигает мебель в гостиной и меняет цвет портьер, чтобы сделать комнату более уютной. Можно обновить стенды в классе, но от них никогда не отказываются; стулья переставляют, но их всегда 30; на столе учителя может быть тот или иной цветок, но он там обязательно есть. Так же повсеместны свернутые географические карты, мусорная корзина оливкового цвета и точилка для карандашей на подоконнике.
Даже запахи в классе довольно стандартные. Школы могут использовать различные марки воска и жидкостей для уборки, но все они, кажется, содержат аналогичные ингредиенты, создающие универсальный запах, своего рода ароматный фон, который пронизывает все здание. И еще в каждом классе имеется слегка едкий запах меловой пыли со слабым привкусом свежей древесины от карандашных стружек. В некоторых помещениях, особенно в обеденное время, появляется знакомый запах апельсиновых корок и бутербродов с арахисовым маслом. В конце дня к этой смеси добавляется (особенно во время перемен) запах детского пота. Если зайти в класс с завязанными глазами, но не зажимая носа, и принюхаться, то сразу поймешь, где находишься.
Все эти знаки и запахи настолько привычны для школьников и учителей, что едва различаются ими, воспринимаются лишь периферией сознания. Только когда в классе происходит что-то необычное, это странное место, наполненное не менее странными объектами, мгновенно привлекает внимание. В редких случаях, если, например, школьники по каким-то причинам приходят в школу вечером или в летнее время, когда в залах стучат молотки рабочих, многие черты школьной среды, которые были недифференцированным повседневным фоном, вдруг контрастно проявляются. Это опыт, связанный с отличным от учебных занятий контекстом; он настигает нас довольно редко, поскольку вызван изменением чрезвычайно привычных условий.
Классная комната является не только относительно стабильной физической средой, но и проводником в известной степени устойчивого социального контекста: за одними и теми же старыми столами сидят те же самые, знакомые, школьники, перед той же доской стоит знакомый учитель. Несомненно, порой что-то случается. Одни ученики приходят, а другие уходят в течение учебного года; иногда по утрам дети встречают у дверей школы какого-нибудь незнакомого человека. Но таких событий недостаточно, чтобы взволновать класс. Кроме того, состав большинства начальных классов не только социально стабилен, он также отрегулирован и топографически: за каждым учащимся закреплено определенное место, и в обычных обстоятельствах там он и должен находиться. Практика закрепления мест позволяет проверить посещаемость одним беглым взглядом, которого, как правило, достаточно, чтобы определить, кто в классе, а кого нет. Простота этой процедуры красноречивее слов показывает, насколько привыкают в классе к присутствию друг друга.
Есть еще одна дополнительная особенность социальной атмосферы начальных классов, которая заслуживает, по крайней мере, беглого комментария. В школе существует социальная близость, которой нет аналогов где-либо еще в нашем обществе. Автобусы и кинотеатры бывают более многолюдными, чем классы, но в таких переполненных местах люди редко остаются в обществе друг друга в течение длительных периодов времени, и тогда, когда они находятся там, от них обычно не ожидают рабочей сосредоточенности или взаимодействия друг с другом. Даже заводские рабочие не связаны друг с другом больше, чем школьники в обычном классе. В самом деле, представьте себе, что произошло бы, если бы на заводе размером с обычную начальную школу было 300 или 400 взрослых работников. По всей вероятности, профсоюзы такого не позволили бы. Только в школах 30 человек или даже больше проводят ежедневно буквально бок о бок по нескольку часов. Вне класса редко кому-нибудь приходится иметь контакт с таким количеством людей в течение столь продолжительного времени. Это обстоятельство станет для нас особенно актуальным в одной из глав далее, когда речь пойдет о социальных особенностях жизни в школе.
И наконец, еще один аспект ежедневного опыта, с которым сталкиваются школьники младших классов, состоит в ритуальности и цикличности деятельности, осуществляемой в классе. Распорядок дня, например, обычно делится на определенные периоды, когда идут занятия по конкретным предметам или проводятся мероприятия. Содержание работы, безусловно, меняется изо дня в день и от недели к неделе, и в этом смысле имеется значительное разнообразие внутри постоянства. Но урок правописания следует после арифметики, по вторникам, и когда учитель говорит: «Теперь открываем букварь», – его слова воспринимаются как должное. Более того, пока дети достают свои буквари, они могут не знать, какие именно новые слова будут включены в сегодняшнее задание, но имеют достаточно четкое представление о том, что произойдет в ближайшие 20 минут.
При всем разнообразии содержания изучаемых предметов, распознаваемых форм активности в классе не очень много. Таких категорий, как «письменное задание», «обсуждение», «объяснение учителя» и «опрос», включающий работу у доски, достаточно, чтобы классифицировать большую часть происходящего в классе во время занятий. «Аудиовизуальный показ», «тестирование» и «игры» могут быть добавлены в этот список, но в начальных классах они встречаются редко.
Каждый из основных видов деятельности осуществляется в соответствии с достаточно хорошо определенными правилами. Предполагается, что школьники эти правила понимают и им следуют. Например, нельзя говорить громко во время выполнения письменной работы или прерывать друг друга в ходе обсуждения; нужно быть внимательным во время тестирования; следует поднять руку, чтобы задать вопрос. Уже в начальных классах школьники хорошо усваивают эти правила, поэтому достаточно короткого сигнала учителя («Класс, тихо!»; «Руки, пожалуйста»), чтобы напомнить о них. Во многих классах вывешивается расписание на неделю, позволяющее быть в курсе последовательности происходящего.
Таким образом, когда ребенок входит в школу утром, он погружается в среду, ставшую для него в результате длительного воздействия привычной. Среда эта стабильна; физические объекты, социальные отношения, а также основные мероприятия остаются здесь одними и теми же изо дня в день, неделя за неделей и даже порой из года в год. Жизнь школы, хотя и напоминает в некоторых отношениях обычную жизнь, особенная. Иными словами, школьный мир самобытен. Школа, как церковь и дом, своеобразна. Другого такого места, пожалуй, не найти.
Важной особенностью школьной жизни, о которой учителя и родители предпочитают умалчивать, по крайней мере не говорить о ней самим школьникам, является то, что молодые люди вынуждены находиться в школе, хотят они того или нет. И данное обстоятельство роднит школьников с членами двух других социальных институтов, вовлеченных в принуждение, – тюрем и психиатрических больниц. Эта аналогия, несмотря на весь свой драматизм, не должна шокировать, поскольку речь не идет о сравнении пребывания в тюрьмах и психиатрических учреждениях с обучением в первом или втором классе. Тем не менее школьник, как и лишенный свободы взрослый, является в некотором смысле заключенным. Он также находится в тисках неизбежности, предначертанного ему опыта. Он также должен овладеть стратегией борьбы с конфликтами между его естественными желаниями и интересами, с одной стороны, и институциональными ожиданиями – с другой. О некоторых из этих стратегий пойдет речь в следующих главах, а пока отметим, что тысячи часов, проведенные в высшей степени искусственной среде начального класса, не являются в полном смысле вопросом выбора, хотя некоторые дети и могут предпочитать школу игре. Многие семилетки счастливо бегут в школу, и мы, как родители, так и учителя, рады этому, но одновременно готовы обеспечить соблюдение посещаемости теми, кто ходит в школу с неохотой. И наша бдительность не остается незамеченной детьми.
В целом классы – это особые места. Совокупность того, что и как там происходит, отличает эти места от всех остальных. Конечно, нельзя утверждать, что нет никакого сходства между тем, что происходит в школе, и переживаниями школьников в других местах. Школьные классы действительно похожи на дома, церкви и больничные палаты во многих важных отношениях. Но не во всех.
Отличие школы от других мест состоит не только в убранстве классов, которое является лишенным своеобразия атрибутом преподавательской деятельности, и в назидательности ведущихся разговоров, хотя обычно выделяются именно эти факторы, когда нужно описать жизнь в школе. Действительно, нигде больше не найти классных досок, учителей и учебников в таком изобилии и ни в одном другом месте так много времени не тратится на чтение, письмо и арифметику. Но эти очевидные черты не отражают уникальности школьной среды. Есть другие особенности, гораздо менее заметные, хотя столь же повсеместные, которые позволяют выявить то, что скрыто. К ним учащиеся тоже должны адаптироваться. С точки зрения понимания воздействия школьной жизни на учащегося многие не бросающиеся в глаза особенности так же важны, как и те, что очевидны.
Характеристики школьной жизни, на которые мы будем обращать внимание, обычно не упоминаются учениками в разговорах, во всяком случае явно; они также не заметны для стороннего наблюдателя. Тем не менее они столь же реальны, как, в определенном смысле, известный незавершенный портрет Джорджа Вашингтона, который висит над дверью каждого школьного гардероба. Эти характеристики подразумевают три жизненных явления, с которыми даже младший школьник должен научиться справляться, и могут быть описаны с помощью трех ключевых слов – толпа, похвала и власть.
Учась жить в классе, ребенок одновременно учится, среди прочего, жить в толпе. Об этой простой истине уже упоминалось, но тема требует более подробного разговора. То, что учащийся делает в классе, он делает вместе с другими или, по крайней мере, в присутствии других людей, и этот факт имеет далеко идущие последствия для определения качества жизни школьника.
Не менее важно и то, что школы, в основном, – это оценивающая среда, где важно заслужить похвалу. Поначалу ребенок может не всерьез отнестись к тесту, поддаться этому и поверить, что тест – это игра. Но вскоре он научится различать разного рода педагогические ухищрения и в конце концов поймет, что школа – дело серьезное. Важно не только то, что происходит, но и то, что думают об этом другие. Адаптация к школьной жизни требует привычки к пониманию того, что твои слова и поступки постоянно оцениваются другими.
Школа – это также место, где разделение между слабым и сильным четко обозначено. Проще всего эту границу провести между преподавателями и учениками, хотя для нас существенно подчеркнуть тот факт, который обычно упускается из виду или, в лучшем случае, затрагивается очень осторожно. Власть в школе действительно принадлежит учителям, в том смысле, что от них в большей степени зависит происходящее в классе. И такое резкое различие в статусах – еще одна особенность школьной жизни, с которой школьники должны научиться справляться.
Итак, мы говорим о значении трех наиболее важных особенностей, с которыми сталкиваются школьники, являясь участниками толпы, потенциальными получателями похвалы или порицания и заложниками институциональной власти. Упомянутые аспекты реальной жизни в детстве, как правило, ограничены временем, проведенным в классе. Однако подобные требования выдвигают и другие среды. Дети, не обязательно в качестве школьников, могут оказаться в больших группах людей и стать объектами похвалы или порицания, управления лицами, облеченными властью. Но приобретение такого опыта обычнее во время учебного года, и, скорее всего, в течение именно этого времени развиваются те адаптивные стратегии, которые соотносимы с другими контекстами и иными периодами жизни.
В следующих разделах этой главы каждая из трех упомянутых особенностей жизни в классе будет описана более подробно. Значительное внимание будет уделено методам, с помощью которых ученики успешно справляются с этими аспектами их повседневной жизни. Цель нашего рассмотрения – глубже понять своеобразие следа, который школьная жизнь оставляет на всех нас.