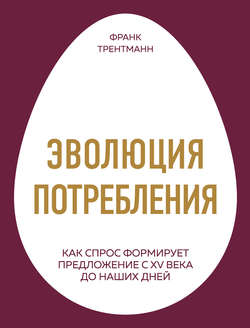Читать книгу Эволюция потребления. Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней - Франк Трентманн - Страница 7
Часть 1
1
Три культуры потребления
Больше вещей
ОглавлениеВ XVII–XVIII веках на северо-западе Европы, а именно в Нидерландах и Великобритании, зародилась новая, более динамичная культура потребления. Рост числа магазинов, расширение рынков и увеличение имущества уже наблюдались и в Европе эпохи Ренессанса, и в империи Мин, однако следующий этап развития, начавшийся в Нидерландах и Великобритании, лишь отчасти являлся продолжением этой тенденции. Дело в том, что эти две страны, разделенные Северным морем, изменились после 1600 года таким образом, что в них возник совершенно новый тип потребительской культуры. Увеличение количества вещей в геометрической прогрессии шло рука об руку с ростом числа новинок, расширением ассортимента и повышением уровня доступности товаров. Последние тенденции были связаны с более высокой открытостью миру вещей и тем, как они влияли на самосознание, социальный порядок и экономическое развитие. Главным показателем, отличающим товары XVIII века, была комбинация из новизны, разнообразия и скорости изменений. Табак, чай и фарфор стали новинками, породившими доселе невиданные формы потребления, новые виды общественных отношений и самопрезентации. Не менее важным был и скачок в разнообразии товаров. Промышленник Мэттью Болтон, занимавшийся продажей чайников, пряжек, пуговиц и коробочек для зубочисток, говорил о 1500 видов различного дизайна каждого из этих товаров.
Возможно, нет лучшего показателя совершившихся изменений, чем сдвиг в значении самого слова «потребление». Спустя столетия, в течение которых строение общества сравнивали со строением человеческого тела, понятие «потребления вещей» начало наконец-то отдаляться от значения «истощения» (одно из значений английского слова consumption – «изнуряющая болезнь». – Прим. переводчика). Роскошь, конечно, по-прежнему подвергалась критике со стороны моралистов, но уже больше не считалась опасной общественной болезнью. Наоборот, теперь появился хор голосов в защиту разыгравшегося аппетита человечества, который стали называть двигателем прогресса. Вот тут-то и произошел основательный пересмотр мудрости, которую почитали на протяжении многих веков: «меньше – больше» уступило место «больше, еще больше». Когда-то считавшееся расточительством, тем, что надо постоянно контролировать и проверять, теперь потребление оказалось под защитой тех, кто видел в нем источник всеобщего благополучия. В 1776 году Адам Смит заявил, что «потребление является основой и целью всего производства»[115].
Первые признаки данных изменений проявились в Республике Соединенных Провинций Нидерландов, которая объявила свою независимость от Испании в 1581 году. Нидерланды первыми построили новый тип общества и экономики, который способствовал созданию благоприятной среды для развития потребления. Двумя взаимосвязанными чертами этого нового типа государства были интегрированный рынок и мобильное, открытое общество. Земля находилась не в руках аристократии, как это было в большей части Италии и остальных странах Европы, а принадлежала мелким земледельцам. Уверенные в своих правах на земельные участки благодаря долгосрочной аренде, они удовлетворяли бо́льшую часть растущего спроса на пищу увеличивающихся городов, переключившись с привычной пшеницы и ржи на более высокие по цене масло и сыр, мясо и садовые овощи. Крестьяне превратились в фермеров, разбирающихся в механизмах рынка. Зерно теперь успешно импортировали из Восточной Германии и стран Балтики. В крупных и мелких городах деньги и рабочая сила потоком текли в крайне специализированные и процветающие отрасли промышленности. Харлем стал центром производства льняных тканей, Делфт – керамики. В Лейдене в 1584 году было произведено 27 000 полотен ткани. Спустя 80 лет это число увеличилось в шесть раз, причем выросла и доля чистошерстяных тканей (нидерл. lakens)[116]. Пока в Китае времен империи Мин только зарождалась специализация, в Нидерландах разделение труда вышло на совершенно новый уровень. Сапожники, строители экипажей, садоводы, фермеры и мелкие торговцы в деревне постоянно совершенствовали свои навыки и умения, что способствовало развитию торговли. В отличие от торговли шерстью во Фландрии, в экспортной торговле Нидерландов не участвовали гильдии, так как купцам, работающим с экспортом, не хотелось, чтобы кто-то им мешал. Даже в тех регионах, где гильдии все-таки существовали, например на севере Нидерландов, они подчинялись городским правительствам, и им не хватало независимости, чтобы ограничивать торговлю или устанавливать свои правила на рынке труда так, как они это делали во всех остальных уголках континента. Именно поэтому текстильная промышленность Нидерландов притягивала к себе словно магнитом рабочих из Фландрии и Льежа. Республика Соединенных Провинций являлась экономической зоной, свободной от многих барьеров и налогов, которые, например, в немецкоговорящих странах предусматривали проверку товаров каждые несколько миль. На тот момент нигде в мире труд, капитал и земля не работали столь же эффективно.
Именно невероятная гибкость и подвижность нидерландского общества позволили ему расширить торговлю и противостоять давлению, которое рост населения и войны XVII века оказывали на другие регионы в Европе. Население Нидерландов увеличилось в два раза в промежуток между 1500 и 1650-ми годами и достигло 1,9 млн человек. Впрочем, всего этого было недостаточно для того, чтобы произошла промышленная революция. Однако в то же время случился не менее важный для нас рост доходов населения, вместе с которым возрос и спрос на товары; далее увеличение реальных доходов ускорило создание приспособлений для облегчения труда, таких как ветряные мельницы или маслобойки, приводившиеся в движение лошадьми. В результате в конце XVI века типичный владелец молочной фермы мог покупать себе на одну треть больше ржи на каждый фунт проданного масла, чем в начале столетия. Теперь он также был в состоянии покупать больше вещей[117].
Изменилось внутреннее убранство домов, произошли преобразования и в повседневной жизни. Жилища фермеров наполнялись вещами: к концу XVII века практически в каждом имелись настенные часы, картины и книги, на полу лежали ковры, на окнах висели занавески, а на восьмиугольных столах стояло несколько тарелок из фарфора – столетием ранее все это трудно было бы себе представить. На момент своей смерти в 1692 году зажиточный фермер Корнелис Питерс де Ланге являлся владельцем 69 серебряных пуговиц, а также значительного числа серебряных ложек и ножей. Лишь немногие из его соседей в Алфене превосходили его по количеству серебряных вещей, однако повышение комфорта жизни и увеличение имущества наблюдались абсолютно во всех домах. К 1700 году зеркала стали незаменимой частью быта любой семьи. И все же количество вещей увеличивалось по-разному. Число некоторых предметов росло незначительно – например, число скатертей. А количество простыней даже чуть-чуть сократилось. Другие же вещи множились буквально на глазах. К примеру, вдова Анна Нанниге Бевервейк, проживавшая в деревне Лиссе, была владелицей 61 столовой салфетки. Наиболее верным хранилищем состояния считалось белье, и многие фермеры вкладывали свои дополнительные доходы именно в него. К началу 1670-х годов в самых скромных семьях молочных фермеров на каждого взрослого приходилось по 18 льняных сорочек, что в три раза больше, чем век назад. Одежда из льна с модной отделкой постепенно заменяла более дешевые шерстяные изделия[118].
Однако нигде так не были заметны новые масштабы богатства, как в великолепных домах нидерландской знати. В главной зале роскошного городского дворца на канале Херенграхт в Амстердаме – дома Бартолотти – в 1665 году находился длинный дубовый стол с двенадцатью обитыми красным бархатом стульями, а на стенах висели зеркало в оправе из слоновой кости и картины с изображением Рождества Христова, членов семьи и принцев Оранских. Даже в комнате служанки имелось семь картин. Как правило, подобные дома городских богачей соединяли сразу несколько миров потребления: серебряные столовые приборы привозили сюда из Амстердама и Утрехта, шкафы – из Восточной Индии, керамику – из Делфта, а ковры – из стран Востока. В 1608 году Голландская Ост-Индская компания сделала заказ на 100 000 фарфоровых изделий из Китая[119]. Некоторые из них были перепроданы в другие страны, тем не менее довольно значительная часть данного заказа предназначалась для столов и стен самих голландцев. Как виртуозно показал Саймон Шема, жители Нидерландов не стремились ни к простоте, ни к бережливости, и это касалось даже менее богатых купцов и владельцев магазинов[120]. В 1717 году в доме портного на канале Принсенграхт было пять картин, делфтский фарфор, оловянные кружки, семь тюлевых занавесок, два десятка стульев, несколько книг, шесть комплектов постельного белья, сорок одна столовая салфетка, а также клетка для птицы. Во всех сословиях царило желание приобретать больше вещей и владеть более изысканными, красивыми предметами. Еще одним доказательством этого являются лотереи, которые организовывали многие города с целью собрать деньги на благотворительность. В Вере, на юго-западе Нидерландов, участвовавшие в лотерее 1662 года имели возможность выиграть бокалы для вина и чаши для соли, серебряные кувшины и серебряные рукоятки мечей. Все это, впрочем, были лишь самые скромные призы. Тем, кому посчастливилось выиграть главный приз, унесли домой серебряный столовый сервиз из суповых и плоских тарелок, кружек, подсвечников и вилок общей стоимостью 4000 флоринов.
Имущество деревенских семей в Леувардераделе, Фрисландия, 1566–1686
В фермерских хозяйствах с десятью и более коровами
Источник: Jan de Vries «The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500–1700» (1974), стр. 219, 221
После Реформации кальвинисты продолжали повторять древние предупреждения о том, что денежное благополучие стоит в шаге от расточительства и несдержанности. Однако теперь местные чиновники отказывались слушать. Наоборот, города организовывали пышные пиршества, аллегорические маскарады и фейерверки – все для того, чтобы воспеть свое величие и благополучие. Тут стоит заметить, что в это время в Китае императоры династии Мин постоянно запрещали своим подданным «веселить себя» подобным образом, так что фейерверки можно было запускать лишь в новогоднюю ночь[121].
В Республике Соединенных Провинций общество начало относиться снисходительно к удовольствиям одновременно с распространением желания иметь больше новых вещей. Успешная торговля и положительное отношение к миру вещей развивались параллельно, не в последнюю очередь благодаря тому, что экономический рост устранил сохранявшиеся на протяжении веков нравственные запреты на «расточительный» образ жизни и роскошь. Потребление больше не угрожало жизнеспособности страны, не собиралось уничтожить ее ограниченные ресурсы. Рост доходов означал, что голландцы способны не просто покупать больше товаров, а тем самым инвестировать в процветание общества, опровергая при этом моральные принципы, ставшие известными благодаря Максу Веберу и его работе «Протестантская этика» (1904–1905), в которой бережливость кальвинистов рассматривалась в качестве основоположницы современного капитализма. Голландцы же могли терпеть соблазны роскоши до тех пор, пока не забывали о своем гражданском долге. Существовала возможность лавировать между излишествами и строгой экономией. В повседневной жизни стали доступны новые виды удовольствий: это и возможность пить пиво (однако пока только в трактирах, имеющих право продавать его), и новые привычки, развившиеся с появлением экзотических товаров, например курение табака или добавление в пищу и напитки сахара. Уже в 1620 году табак начали курить единственно для удовольствия. Считалось совершенно приемлемым дымить глиняной трубкой, сделанной в Харлеме или Гронингене, но и злоупотреблять не стоило. Хотя некоторые воинственные кальвинисты видели в курении распущенность и зло, притупляющие разум и чувства, мало кто хотел запрещать его в Амстердаме, где сушили и резали табак. Собственно, среди тех, кто начал выращивать табак у себя на родине в больших количествах, был даже священник нидерландской реформатской церкви[122]. Так происходило зарождение массовой культуры: ранее эксклюзивная экзотика становилась неотъемлемой частью повседневной жизни. Миром потребления начал управлять компас с новой нравственностью.
На другом берегу Северного моря, в Англии, количество и ассортимент вещей также увеличивались в геометрической прогрессии. В XVIII веке они достигнут небывалых высот, однако первые свидетельства растущего потребления можно было наблюдать уже в позднем Средневековье. В 1500 году в Англии реальные доходы жителей были в три раза выше, чем в 1300 году, – причиной тому стала «черная смерть» (1348–1349), которая унесла жизни одной трети рабочего населения. Выросшие зарплаты и подешевевшие продукты питания обусловили спрос на товары более высокого качества и на более широкий ассортимент. Вместо того чтобы продолжать питаться хлебом и сыром, как это делали их предки, английские рабочие в конце XIV века начали наслаждаться мясом и элем. На смену обуви из более дешевой овчины, которую раньше носили крестьяне, пришла обувь, сделанная из шкур крупного домашнего скота. В XV и XVI веках бо́льшая часть товаров высокого качества, которые означали новый уровень жизни, завозилась из-за границы, например, шелка и бархат из Италии, а керамика из Рейнской области. Стоит отметить, что пиво было привезено в Англию из Нидерландов. Благодаря технологии приготовления оно могло храниться дольше, чем местный эль, который нужно было выпить в течение недели после вскрытия бочки, и именно эта особенность пива поспособствовала росту числа пабов на территории страны[123]. В XVI веке на внутреннем рынке Англии основная доля приходилась на отечественную продукцию. Ремесленники начали копировать зарубежные товары, зачастую при помощи мигрантов, которые привезли в страну свои опыт и знания. Лондон превратился в центр производства стекла и шелка. Больше всего торговали новыми видами тканей, например легкой шерстью, которая попала в Англию также из Нидерландов.
Переход на более легкие ткани, появление новых сочетаний вроде шерсти с шелком, а также изменения в моде пошатнули социальную иерархию одежды и становились причиной неловких ситуаций. Современники елизаветинской эпохи жаловались на слуг, которые щеголяют в куртках, сшитых из изысканных тканей, и брюках, покрашенных на фландрийский манер. В своей книге «Описание Англии» («Description of England», 1577–1587) Уильям Гаррисон ностальгирует по тем временам, когда англичане славились за рубежом своими собственными тканями, а в домашней обстановке носили простые шерстяные вещи. Однако он признает, что эти дни безвозвратно ушли:
«Мы настолько стали переменчивы, что сегодня одеваемся на испанский манер, а завтра французские безделушки нам кажутся самыми очаровательными на свете… возможно, скоро начнут восхищаться турецким стилем… короткие французские бриджи стали настолько популярным нарядом у мужчин, что во всем мире вы не сыщете более непохожих на себя существ, чем мои соотечественники англичане – пожалуй, за исключением собаки в камзоле».
Заканчивалось его повествование тем, что «женщины становятся мужчинами, а мужчины превращаются в монстров». Соотечественники Гаррисона были настолько увлечены модой и постоянными переменами во внешнем облике, что он даже решил молить Бога «о том, чтобы этот грех не был поставлен в один ряд с грехами жителей Содома и Гоморры»[124].
В эпоху Стюартов, в начале XVII века, английская элита продолжила традиции элиты Италии эпохи Возрождения – то есть стала собирать предметы искусства, книги и антиквариат, а также посещать торговые залы, такие как Новая биржа в Лондоне, открытая в 1609 году Яковом I[125]. Меньшим великолепием отличались изменения, связанные с зарождением массового потребления и затронувшие все общество, однако они имели немаловажное значение для дальнейшей истории. Появлялись новые дешевые продукты. Изобретение вязальных машин позволило наладить массовое производство чулок самых разных видов и с самыми разными узорами. Грегори Кинг подсчитал в 1688 году, что ежегодно население покупает 10 миллионов пар чулок, то есть на человека приходилось по две пары[126]. В магазинах можно было купить глиняные трубки, булавки и белое мыло, медные и стальные наперстки. Все это изготовлялось в маленьких мастерских, что наглядно иллюстрирует отсутствие необходимости в фабриках для развития массового потребления. В домах отказ от дерева в пользу угля привел к появлению кастрюль и чайников, которые можно было ставить прямо на плиту или решетку, а не подвешивать над огнем. Посуда становилась все более разнообразной и имелась почти в каждой семье. Когда Даниэль Дефо в 1727 году оказался в гостях у семьи бедного горнорабочего в центре горной промышленности – графстве Дербишире, он искренне удивился, увидев в доме полки с глиняной, а также оловянной и медной посудой»[127].
Конечно, изменилось не все. Во времена Стюартов высшее общество Англии продолжало, как и в Средние века, употреблять огромное количество говядины и заниматься соколиной охотой. Для них покупки в Лондоне существовали наряду с домашним производством и подношениями от широкой сети йоменов, гувернеров и кормилиц, нуждавшихся в работе и покровительстве. В этом смысле потребление являлось частью рынка труда. И все-таки даже те продукты, которые не менялись, зачастую становились разнообразнее. Например, в первой половине XVII века Леди Элис Ле Стрейндж из Ханстантона, графство Норфолк, купила 62 различных вида ткани, среди них тонкая льняная ткань из Нидерландов, испанское сукно, камчатное льняное полотно, плюш (дорогостоящий гладкий шелк), сатин, камлот (мягкая ангорская шерсть), шерстяная ткань плотного переплетения и «лучший кармазин» (необычайно дорогой вид алой шерсти). Ле Стрейнджи стали первыми, кто купил индийскую хлопчатобумажную ткань в 1623 году – для кроя одного из гаунов Леди Элис. Кровати в доме этого семейства были застелены черным бархатом, золотой и алой дамастовой тканью, кармазином, а также новыми видами тканей, производимыми в Англии (называемыми «джоллибойз»), и украшены индийской хлопчатобумажной тканью. Ле Стрейнджи принадлежали к 500 самым богатым семействам королевства: сэр Хеймон был рыцарем и тратил £2000 в год. Но, несмотря на всю привилегированность своего положения, они жили не в замкнутом мире, и какого-либо резкого разграничения между старинной роскошью и новинками, которое, как принято иногда считать, отделяло аристократию от купечества и владельцев магазинов, не существовало, по крайней мере в Англии. Такие знатные семьи, как Ле Стрейнджи, тоже ели из оловянных тарелок и поддерживали моду на популярные у всех слоев населения товары, например, на легкие ткани и индийский хлопок[128].
С еще большей скоростью новые товары стали распространяться после 1700 года. Перечни имущества позволяют нам составить представление о том, как вещи начинали накапливаться все быстрее. В 1675 году ни в одной из семей в Лондоне не было фарфора или специальной посуды для чая и кофе. К 1725 году 35 % семей владели первым, а в распоряжении 60 % появилось последнее. В 1675 году лишь в каждом десятом семействе имелись часы, картины и какая-либо глиняная посуда. В 1725 году эти вещи можно было обнаружить уже в каждой второй семье[129]. В эпоху Тюдоров занавески, хлопчатобумажные ткани и зеркала имелись лишь у местной знати. На момент смерти в 1554 году Томаса Гаррисона, кожевника и бейлифа из Саутгемптона, на окне в его спальне висели «расписные занавески». В его салоне стояла кровать с пологом из ткани, похожей на саржу[130]. В 1720-е подобная меблировка стала обыденным зрелищем – тем более благодаря новому методу планировки жилища кровати убрали из салонов, которые теперь служили местом общения и развлечения гостей.
Некоторые единицы имущества английских семей, 1675–1725
Источник: Lorna Weatherhill, Consumer Behaviour and Material «Culture in Britain 1660–1760» (2-е издание 1996). Таблица 2.1.
Новая материальная культура проникала в разные уголки Англии с различной скоростью. Иногда это происходило настолько неравномерно, что создавалось впечатление, будто на одной территории существуют две страны. В Лондоне, Бате и Ливерпуле люди попивали чай за опущенными занавесками уже в 1700 году, в то время как в Корнуолле подобных новшеств в буквальном смысле слова не видели вплоть до 1750-х годов. Тем не менее новые предметы быта появлялись в домах жителей не только городов, но и деревень. Переход от табуреток к стульям, от сундуков к комодам и шкафам происходил и в деревнях Кента неподалеку от Лондона, и в промышленном Йоркшире, и в колонии Виргинии. Однако зачастую комфорт не охватывал все сферы, и большинству людей приходилось делать выбор и идти на определенные жертвы. Так, в Англии рабочий, пивший чай, вешавший занавески на окна и почивавший на пуховой перине, зачастую страдал от недоедания и сырости в жилище. Путешествующие по Соединенным Штатам в 1790-х годах отметили, что в квартире у хозяйки, у которой они остановились в Виргинии, имелась красивая мебель, сама она была элегантно одета, но принесла им напитки в разбитых стаканах, а сквозь разбитые окна гулял ветер[131]. В XVIII веке люди предпочитали более заметные товары – одежду, меблировку, чайные сервизы – менее заметным, таким как курительные трубки, ванные и прочие удобства.
Некоторые единицы имущества английских семей, 1675–1725
* Крупные города, в том числе Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, Уинчестер и Кембридж Источник: Lorna Weatherhill, Consumer Behaviour and Material «Culture in Britain 1660–1760» (2-е издание 1996). Таблица 4.4.
Имущественные перечни не дают, к сожалению, полной картины того, какие вещи встречались во всех слоях общества, так как перечнями, как правило, пользовались аристократы, купцы и ремесленники. Ведь чтобы создать подобный перечень, для начала нужно чем-то владеть. К счастью, некоторые церковные приходы были заинтересованы в том, чтобы фиксировать на бумаге имущество бедняков в качестве части соглашения, согласно которому должник, уходящий в работный дом, имел право оставаться владельцем своих пожитков до конца жизни, если обещал оставить их приходу после смерти. Вряд ли кого-то удивит, что в Эссексе в XVIII веке у бедняков было меньше часов (ими владело лишь 20 %) и зеркал (27 %), чем у ремесленников и купцов (у 71 % которых были часы, а у 62 % – зеркала). Однако стоит отметить, что половина всех бедняков имела различные предметы для чаепития, перины и подсвечники – подобными предметами владело примерно столько же купцов. Хотя некоторые бедняки действительно не имели вообще ничего, многие представители этого сословия все-таки не были полностью изолированы от мира вещей.
В 1810 году более успешный рабочий Джон Таджелл и его жена с двумя детьми занимали квартиру с гостиной и двумя спальнями. В каждой из спален стояла кровать с периной и пологом на четырех столбиках. В гостиной хранились чайные чашки, стаканы и глиняная посуда – всего 67 предметов, а кроме того, набор из шестнадцати делфтских фарфоровых тарелок. Наряду с сундуком из красного дерева для чая и внушительного дубового стола с большим количеством стульев вокруг в гостиной можно было обнаружить все базовые требования новой культуры вежливости и общения[132]. Возможно, Таджелл имел больше вещей, чем среднестатистический рабочий, тем не менее на его примере мы можем увидеть, что разнообразные товары и комфорт начали проникать не только в дома среднего и высшего класса, но и в жилища обыкновенных британцев. Те, кто не владел подобными вещами, имели к ним доступ, будучи слугой или квартиросъемщиком. К концу XVIII века обыкновенная обстановка меблированных комнат для сдачи внаем предполагала наличие в них чайников, кроватей с перинами и зеркал[133]. Приезжие из других стран Европы, как правило, поражались тому, как хорошо одета лондонская беднота. «Даже у любого попрошайки там есть рубашка, ботинки и носки», – заметил в 1782 году немецкий писатель Карл Филипп Мориц. Этим Лондон сильно отличался от Берлина и Парижа или, скажем, Дублина и Глазго, где нищие не носили ботинок[134].
Новая одежда и культура наряжаться затронули всех в империи, даже тех, кто волею судьбы был превращен в движимое имущество. В отличие от своей метрополии американские колонии продолжали блюсти сумптуарные законы. В 1735 году закон Южной Каролины запретил чернокожим носить одежду, выброшенную их хозяевами, и разрешил им использовать для одежды лишь белые уэльские суровые хлопчатобумажные ткани и подобные им дешевые материи. Однако воплотить данное законодательство в жизнь оказалось сложным, отчасти потому, что хозяева отдавали свою изношенную одежду рабам, тем самым завоевывая их преданность, отчасти потому, что рабы постепенно превращались в потребителей, тратя заработанные разведением кур и выращиванием хлопка гроши на шелковые ленты и зеркала. В 1777 году Чарльз Уэйкфилд из Мэриленда предложил 80 серебряных долларовых монет за возвращение его рабов Дика и Люси. В объявлении была описана одежда, которую беглецы взяли с собой: Дик прихватил не только «пару тускло-коричневых рабочих костюмов», но и «зеленое пальто с алым бархатным капюшоном, пальто из красного плюша с голубыми манжетами и капюшоном, темно-синий жакет из камлота с золотой тесьмой на рукавах, на груди и воротнике… [и] пару холщовых тапочек и пряжек»; Люси же захватила с собой два гауна из хлопка, «один пурпурно-белый, другой красно-белый», «жакет и черную шелковую шляпку, множество носовых платков и манжеток… пару туфель на высоких каблуках, пару детских перчаток и пару шелковых митенок, [и] голубой платок из подкладочного шелка [отварного шелка], отделанный газовой тканью, к которому пришита белая лента»[135]. Все перечисленное весьма отличается от той одежды, которую рабы носили пятьюдесятью годами ранее.
Самой модной новинкой был хлопок, и, проследив его путь «к вершине славы» на следующих страницах, мы сможем в более полной мере оценить атрибуты зарождающейся новой потребительской культуры: ее эстетическую привлекательность и ее разнообразие, ее дешевизну и практичность, последствия частых изменений и сочетаемость с аксессуарами, а также маркетинг и создание системы моды, которая объединяла бы потребителей и производителей, живущих на разных континентах.
Испанские колониальные компании в Новом Свете и Европе, сотрудничавшие с Китаем, осуществляли трансокеаническую торговлю шелком и шерстью уже в XVI веке. Испания вывозила из Америки серебро, а ввозила ткань из Кастилии. Манильские галеоны, которые ежегодно после 1579 года курсировали между Филиппинами и Акапулько, привозили в Новый Свет как шелк-сырец, так и крашеный, и расшитый шелк. Испанцы, кроме того, посадили в Мексике шелковицы, чтобы выращивать тутовых шелкопрядов на месте. В Перу местные ткачи вместе с умелыми мигрантами из Старого Света изготовляли из шелка и шерсти гобелены с китайскими цветочными мотивами, а также красно-голубые пончо с зеленым фениксом. Появлялись новые вещи, сочетающие в себе традиционную одежду, такую как льиклья (lliclla) из области Анд или анаку (anacu) – нечто вроде сутаны, – с китайским шелком и кастильским дамастом. В 1596 году гардероб Марии де Аморес из Кито – влиятельной леди, потомка инков Эквадора, дважды бывшей замужем за испанцами, – включал одну китайскую льиклью, одну льиклью из зеленого кастильского дамаста, расшитую по краям золотом, а также анаку из зеленого кастильского сатина, расшитую по краям золотом. Мария де Аморес являлась, кроме того, владелицей «большого сервиза из китайского фарфора»[136].
Как бы то ни было, именно хлопок стал первым международным товаром массового потребления. Индийский крашеный хлопок отправляли в Восточную Африку, а также в самую глубь Азии уже в XI веке. К началу второй половины XVII века хлопок продавали по всей Европе и в Османской империи, однако впервые до среднего класса и нижних слоев населения он добрался в Англии. В 1664 году Английская Ост-Индская компания привезла в страну четверть миллиона рулонов ткани. Спустя 20 лет она привезла уже свыше миллиона за один год. Мода, зародившаяся в Лондоне, быстро распространялась по всей империи, вплоть до торговых станций рядом с полярным кругом в Канаде. Чинц – лощеная хлопчатобумажная ткань из Индии – добавил ярких красок в гардеробы людей. В Англии в это время делали набивными некоторые льняные ткани в подражание итальянскому дамасту, однако они не могли соперничать с более сложными индийскими узорами. Хлопок впитывал цвет гораздо лучше льна, и его можно было стирать, не беспокоясь о том, что ткань потеряет яркость – чего нельзя сказать о текстиле, покрашенном в Европе. Появление цветных хлопчатобумажных тканей означало распространение модной одежды с интересным дизайном по доступным ценам. Ее традиционная европейская альтернатива в виде шерсти с узорами стоила намного дороже. Разноцветный чинц, «ткань дам высшего общества Голландии», как его охарактеризовали в Английской Ост-Индской компании в 1683 году, был в ходу у среднего класса в Англии: у жен и дочерей купцов, торговцев, юристов, производителей, священников, офицеров и фермеров – в общем, у всех тех, кто занимал нишу между земельной аристократией и рабочими массами[137].
Индийский хлопок угрожал местным производителям шерсти, льна и шелка, вследствие чего они добились законодательного запрета на ситец (Франция в 1689 году, Испания в 1713 году, Великобритания в 1700 и 1721 годах, Россия в 1744 году); лишь Нидерланды не вводили никаких ограничений. В лондонском Спиталфилдсе в 1719–1720 годах бунтующие ткачи шелка пытались испортить ситцевые платья на женщинах прямо на улице. Тем не менее запреты не смогли остановить «сумасшествие по ситцу», напротив, производители придумали способ обходить его, смешивая хлопок и лен. Когда корабли Ост-Индской компании прибывали в порт Лондона, на них поднимались текстильные рабочие и на месте изготавливали из привезенного ситца рубашки и платки, а потом продавали их подпольно в городе. Военные и моряки провозили ситец, пряча его между своих вещей. Британских дипломатов и иностранных послов также частенько ловили на контрабандной перевозке шелка в Англию. Перевозка хлопчатобумажной ткани являлась также частью широкой нелегальной сети, поставляющей в страну алкоголь, чай, табак и другие товары, которые облагались налогом. В 1783 году парламентская комиссия по нелегальным действиям сообщила, что при ввозе ситцевые и льняные ткани очень часто прячут среди других товаров, уже проштампованных при осмотре, либо на них ставят поддельный штамп. Похожая ситуация сложилась и во Франции: азиатский текстиль успевали разгрузить в Лорьяне и продать еще до таможенного досмотра. Контрабандисты особенно любили хлопок, потому что запрет превратил его в высокоприбыльный товар черного рынка. В одном только лондонском порту в 1780 году было конфисковано 4099 рулонов ситца и муслина – эта цифра дает нам некоторое представление о том, сколько контрабандного товара прошло незамеченным. В 1783 году в палате общин подсчитали, что в нелегальной торговле участвовало несколько сотен каботажных судов вместимостью от 30 до 300 тонн, которые перевозили экипажи, «вооруженные дубинками и хлыстами, воспламененные алкоголем и настолько многочисленные, что таможенным инспекторам не оставалось ничего другого, как просто наблюдать за происходящим». Соучастники загружали груз в фургоны и направлялись в Лондон и города поменьше с фальшивыми разрешениями[138].
Запрет на хлопок может показаться реакционным, однако он также демонстрирует, насколько из общества испарился дух сумптуарных законов. Власти больше не волновало, что домохозяйки из народа носят такие же цвета и используют для своей одежды те же ткани, что и знатные леди. Запрет оказался классическим примером того, как можно взрастить на задворках целую промышленность. Хотя его целью была помощь отечественным производителям льна и шелка, результатом стало формирование в Великобритании мощной хлопчатобумажной промышленности. Британские производители использовали защиту от зарубежной конкуренции для разработки новых видов ткани, копирования удачных идей из-за рубежа, внедрения собственных новаций, и к концу XVIII века они превзошли своих индийских конкурентов из Гуджарата и с Коромандельского берега[139]. Изначально запрет распространялся на набивной и окрашенный хлопок из Индии (1701), но в 1722 году его расширили, включив в запрещенный список также хлопок, узор на который набивали в Британии. В то же время запрет не касался тканей, лишь на какую-то часть состоявших из хлопка. К 1730-м годам в Манчестере почти всю льняную ткань мешали с хлопчатобумажной и получали бумазею. Возможность качественного нанесения рисунков на ткань с помощью медных печатных форм (техника, изобретенная в 1752 году Фрэнсисом Никсоном в Ирландии) и появление цилиндрических печатных машин в 1783 году окончательно закрепили первенство британских мастеров перед индийскими, наносившими рисунок на хлопчатобумажную ткань вручную. В 1774 году Великобритания аннулировала свой запрет на набивной ситец. Спустя 25 лет жители страны ежегодно покупали около 29 млн ярдов хлопчатобумажной ткани, изготовленной на британской земле.
Мы постоянно говорим о хлопке в единственном числе, однако британцев XVIII века привлекала не только новизна этой ткани, но и существование большого количества ее видов, насчитывавших две сотни – и каждый был по-своему хорош и уместен. Все это ставило покупателей перед доселе невиданными трудностями – муками выбора. Как потребителю разобраться во всех этих тканях, понять, чем они отличаются друг от друга по предназначению, качеству и цене? Появление в эту пору профессии гида по товарам – отличный показатель потребительских преобразований, происходящих в обществе. В справочнике «Торговый дом купца как на ладони» («The Merchant’s Ware-House Laid Open», Лондон, 1696), появившемся накануне введения запрета, предлагалось подробное описание в алфавитном порядке индийских хлопчатобумажных тканей и европейского текстиля, предназначенного для «всякого рода людей». Тут рассказывалось и о небеленом суровом полотне, и о голландском льняном полотне, и о французских тканях. Чем больше был ассортимент, тем проще стало обманывать людей. Оценить качество ткани по внешнему виду было сложно. Одни ткани могли мило смотреться в магазине, однако «сидели словно бумага», другие «выглядели хорошо, но… распадались на нити» после первой стирки. Читателям справочник объяснял, как избежать обмана «даже самого хитрого купца»: длинный хлопок, то есть ткань длиной до 40 ярдов, используется для рубашек и сорочек и должна стоить 15 пенсов за ярд; эта ткань может быть двух видов – из индийского хлопка, но покрашенная уже в Англии, и привезенная из Индии уже покрашенной. Далее автор руководства советовал избегать первого вида и покупать второй, потому что «такая ткань никогда не потеряет своего цвета, в отличие от той, которая была покрашена в Англии». Как же покупатель должен был понять разницу в магазине? Ответ: «Вы сможете отличить английскую покраску от индийской по цветам, так как индийская техника покраски более равномерная, а на хлопке, покрашенном в Англии, вы обнаружите коричневые и темные пятна». Покупать «перкаль» – тонкий муслин или ткань простого переплетения, – по мнению автора справочника, тоже не стоило: «Очень тонкая… как правило, легко рвется и не только очень плохо носится, но и после двух-трех стирок приобретает яркий желтый цвет». Как правило, эту ткань продавали уличные торговцы за высокую цену, но «качество не стоит этой цены». Важно было уметь выбирать чинц: среди ярких и разноцветных видов этой ткани автор советовал обращать внимание на самые изысканные с изображениями птиц и животных, так как они «сохраняют свои цвета на протяжении многих лет, до тех пор, пока ткань не распадется на нити». Также он рекомендовал чинц несколько более «грубого переплетения, но тем не менее… с рисунком в виде красивых цветов», который тоже не потеряет свою яркость. Этот вид ткани советовалось использовать для гаунов, нижних юбок и лоскутных одеял[140].
В конце XVIII века революция в одежде шла полным ходом. Шелк оставался по-прежнему самым прибыльным экспортным текстилем Франции, а Британия с каждым разом отправляла все больше и больше шелка в Северную Америку и на Ямайку, в Данию и Норвегию. Правда, если леди из Виргинии все так же любили шелк, в Англии он уже несколько потерял свою эксклюзивность, потому что купцы начали щеголять в шелковых камзолах и бриджах. В самом низу рынка находился лен. Так как он оставался дешевым, его еще какое-то время использовали для нижнего белья. Однако что касается верхней одежды, тут хлопчатобумажные ткани постепенно становились нормой – люди были готовы платить за них больше, чем за «скучный» лен. Впрочем, бедные слои населения начнут покупать хлопок только в следующем столетии. Во Франции к моменту Революции 1789 года ремесленники, владельцы магазинов и слуги носили больше хлопковых, чем шерстяных или льняных вещей, и лишь в гардеробах дворянства и представителей почетных профессий хлопок уступал первенство шелку. А в Нью-Йорке и Филадельфии хлопок на тот момент обогнал шелк. В отличие от ситуации с часами, где растущее потребление было обусловлено появлением новой технологии и низкими ценами, успех хлопка является классическим примером того, как мода становится ключевым двигателем спроса. Когда даже мастеровые и слуги стали носить одежду из хлопка, их хозяева переключились на более элегантные и дорогие хлопковые чулки[141].
Одежда является наиболее ощутимым элементом потребления. Не существует вещи, которая занимала бы в нашей жизни такое же визуальное и тактильное пространство, как одежда. Мы трогаем ее, мы видим ее, мы чувствуем ее на себе. Одежда, которую мы носим, помогает нам лучше воспринимать свое тело. Именно поэтому граница между «нами» и «одеждой» стирается. Один современный философ даже щедро наградил ее чем-то вроде настоящей жизни, исходя из того, что она двигается одновременно с нашими телами: «Мы относимся к одежде так, будто она живая. Ведь ваши брюки тоже гуляют по парку»[142].
Запрет оказался классическим примером того, как можно взрастить на задворках целую промышленность.
Однако очевидно, что «живучесть» одежды зависит от материала и кроя. Изменения в тканях в XVIII веке оказали огромнейшее влияние на то, как люди стали воспринимать самих себя. Хлопковые ткани превратились в материальную манифестацию новой культуры комфорта. Они были мягче и легче льна или шерсти и потому способствовали распространению более свободной одежды, мода на которую зародилась еще в XVII веке. То, что хлопок хорошо впитывал краску, демократизировало цвета и моду. В 1700 году по европейским столицам двигались черно-белые толпы, лишь изредка мелькал коричневый и серый. Спустя сто лет на улицы будто опустилась радуга: можно было встретить любые оттенки красного, синего, желтого и зеленого. Цветную одежду носили все – и рабочие, и аристократы, и их слуги. До массового распространения хлопка модная одежда являлась привилегией лишь немногих, и не только из-за сумптуарного законодательства, но также потому что модные ткани стоили дорого и требовали недешевого ухода, в особенности шелк. Когда в 1540-х годах в Венеции художник Лоренцо Лотто решил обновить свой гардероб, это стоило ему целого состояния: за один только шерстяной плащ с туникой он отдал сумму, эквивалентную своему трехмесячному доходу[143]. Крашеный хлопок стоил дороже ткани из гребенной шерсти, но дешевле, чем шелк или шерсть с узором. В 1770-х годах уже готовый новый хлопковый гаун можно было купить за 8 шиллингов, а за 3 шиллинга можно было купить такой же гаун, но с чужого плеча (в фунте на тот момент было 20 шиллингов). Не такая уж большая сумма, если учесть, что в то время ремесленник получал от £20 до £40 в год. Рынок готовых предметов одежды переживал настоящий бум. Яркие, модные наряды с узорами или цветами помогали рабочим и беднякам обрести новое ощущение самодостаточности. Жертвы краж описывали свою любимую одежду в мельчайших подробностях. Одна малоимущая британка дала, к примеру, такое описание своего украденного наряда: «пурпурно-белый хлопковый гаун с мелким узором, стиранный только один раз, красная лента под грудью, прямые манжеты, по низу гауна идет широкая лента»[144].
Относительная дешевизна одежды и ее растущий ассортимент имели парадоксальные последствия. К легкой ткани в целях утепления нужно было добавлять еще слои материала, ведь Европа не Индия. Эта необходимость создала новые возможности для использования всевозможных аксессуаров, таких как ленты, шляпы и шейные платки. Украшенные узорами платки были в ходу в том числе и у бедных рабочих с крестьянами. Машина потребления набирала обороты. Хотя цены на пальто и гауны снижались, количество денег, потраченных на одежду, увеличивалось, так как гардероб людей становился все более разнообразным и чаще обновлялся. В 1700 году французские слуги тратили 10 % своего заработка на одежду. К 1780 году они тратили на гардероб уже третью часть своего дохода. По иронии судьбы именно городская беднота меняла одежду чаще всего, так как, не имея денег на мыло, прачечные и ремонт одежды, они изнашивали свои наряды быстрее, чем представители других сословий[145].
Бренды и лейблы существовали еще в Древнем Египте и Месопотамии, где их использовали, чтобы повысить цены за счет указания на особое качество и происхождение товара[146]. В XVIII веке торговцы и производители подняли брендинг, дифференциацию продукции и рекламные акции на новые высоты. В 1754 году Роберт Тарлингтон впервые продал свой «Бальзам жизни» – лекарство против почечных камней, колик и «ежедневных недугов» – в грушевидной бутылочке со своим именем и королевским патентом на стекле. Королями маркетинга являлись производитель керамики Джозайя Уэджвуд и его партнер Томас Бентли. Нил МакКендрик наглядно показывает, насколько развитым было их искусство торговли. Они использовали:
«…торговлю в расчете на инертность покупателя, дифференциацию продукции, сегментацию рынка, подробные маркетинговые исследования, первые формы самообслуживания, политику возврата товара в случае его неудовлетворительного качества, бесплатную доставку, раздачу бесплатных товаров в целях рекламы, аукционы, лотереи, каталоги… предоставление кредитов, трехуровневую систему скидок, в том числе и большие скидки на первый заказ, почти все виды рекламы, листовки, вывески, бланки для письма с названием компании, рекламу в газетах и журналах, странички мод и модные журналы, дутую рекламу, организованные пропагандистские кампании, даже подстроенные провокации с целью опубликовать ответную реакцию»[147].
Как мы видим, неверно списывать со счетов более ранние сообщества, называя их статичными, как в отношении модных товаров, так и касательно потребления в целом. Уже в XIV веке двор Бургундии считался европейским центром моды. Герцоги Бургундии славились своими роскошными одеяниями. Филипп II Смелый (1342–1404) носил алый камзол, на котором жемчугом были вышиты сорок овечек и лебедей с золотыми колокольчиками на шеях (у овечек) и в клювах (у лебедей). Бургундские леди носили высокие остроконечные шляпы. Путешествуя ко дворам других стран, герцоги Бургундии стали законодателями мод среди европейской аристократии. Именно в то время одежда становилась все короче, и мужчины заменяли длинные, свободные туники на приталенные камзолы и жакеты, которые заканчивались чуть ниже талии. В XV веке широкие воронкообразные рукава стали постепенно выходить из моды, и в итоге этот процесс закончился популярностью плотно прилегающих к рукам манжет[148]. В Китае в эпоху династии Мин тоже была мода – вспомните описанные нами ранее жалобы историка XVI века на частое изменение длины и ширины юбок и видов складок. Европейские купцы, торговавшие с Востоком, знали, что среди жителей Азии много разбирающихся потребителей. В 1617 году генеральный директор Голландской Ост-Индской компании отметил, что местные покупатели «большое значение придают высокому качеству» и покрывал, и юбок и готовы платить хорошие деньги за хорошую ткань. Если крестьяне обходились хлопком низкого сорта, то богатые клиенты хотели видеть разноцветные хлопковые ткани с узорами, нанесенными на ткацком станке, с красивой окантовкой, расшитые золотыми нитями. Бухгалтерские книги того времени наглядно демонстрируют, какое внимание уделялось местным вкусам. В 1623 году, например, директора Голландской Ост-Индской компании в Батавии, столице Нидерландской Ост-Индии, просили производителей в Короманделе изготовить одеяла «яркой окраски в мелкий цветочек с красными краями»[149].
Главной особенностью европейской моды конца XVII – начала XVIII века было то, что она превратилась в отдельную отрасль со своим собственным пространством, календарем и средствами информации. Это явление носило и глобальный, и местный характер. Париж задавал темп, однако нуждался в том, чтобы индийские ткачи не отставали. Голландская и Английская Ост-Индские компании играли важную роль, соединяя законодателя моды с производителем и потребителем. В 1670-х годах сотрудники Английской Ост-Индской компании посылали образцы тканей, пользующихся популярностью в Париже, через Сирию в Индию, чтобы местные ткачи могли скопировать узоры и ткани. В течение следующего десятилетия новые узоры тканей из Индии должны были сначала пройти проверку в парижских салонах, прежде чем выйти на европейские рынки. «Возьмите это за постоянное и важнейшее правило, – объясняли директора Английской Ост-Индской компании в 1681 году. – Вы должны каждый год менять цветочный узор шелка и его вид настолько радикально, насколько возможно, так как и английские, и французские леди, и все остальные европейки дадут вдвое больше за новую вещь, доселе не виданную в Европе… чем за шелк, пусть и более качественный, но того же вида и узора, что носили год назад»[150].
Те, кто не имел непосредственного доступа в салоны и к королевскому двору, могли воспользоваться советами модных журналов. Французский журнал Mercure начал давать модные советы в 1672 году. Число женских альманахов значительно увеличилось в следующем столетии, и они содержали гравюры с изображением самых последних новинок, а также рекомендации, где лучше совершать покупки. В январском выпуске журнала Magazine à la Mode, or Fashionable Miscellany за 1777 год появилось изображение мужского парадного костюма, который джентльмены надевали на день рождения королевы в прошлом месяце: «Камзол обшит мехом… Фасон камзола такой же, как носят уже несколько лет, за исключением того, что талия короче, а юбка длиннее… Манжет маленький и закрытый, с тремя пуговицами в верхней части». Для леди «самое модное утреннее платье… это дезабилье, состоящее из короткого жакета и нижней юбки. Нижние четверть ярда юбки должны быть в складку и иметь отделку из газовой ткани [прозрачная ткань] или из того же шелка. Однако в этом году стоит отдать предпочтение меху перед любыми другими видами отделки». Шляпка была французской. Чтобы выглядеть стильно, необходимо было «намотать на шляпу ленту, но нельзя, чтобы ее края оставались сзади… это изменение этого месяца». Леди, которые следили за модой, должны были отправиться к мистеру Клуту в лондонский Ковент-Гарден за платьем, а к миссис Тейлор на улицу Рэтбоун Плейс за шляпкой[151]. В помощь читателям были две черно-белые гравюры. Примерно в это время начали появляться цветные странички мод и модные куклы. К 1790-м годам модная кукла превратилась в объект массового потребления: сначала их делали из дерева, потом стали вырезать из картона. Это были плоские фигурки высотой 8 дюймов и стоимостью 3 шиллинга. Следующим этапом стало появление детской игрушки с набором из шести платьев и другими аксессуарами, которые можно было менять. Мода перестала касаться лишь взрослых людей[152].
Итак, мы по праву можем говорить о появлении нового режима потребления на северо-западе Европы в XVII–XVIII веках, для которого были характерны масштабность, невиданные ранее разнообразие и новаторство. Круговорот товаров времен Ренессанса не исчез, но переродился в динамичную систему, постоянно требовавшую «инъекции» новизны. Продажа подержанной одежды, ломбарды, аукционы и возможность дарить подарки позволяли любому купить хлопковый гаун и заварочный чайник. В отличие от Китая эпохи Мин именно новинки, а не антикварные товары, правили балом в Европе. Британские историки уже спорили, пытаясь определить точную дату, когда именно данное изменение произошло в умах наших предков. Однако более интересным на наш взгляд является вопрос «почему?». Почему подобное случилось в Великобритании и Голландии, а не в Китае или Италии?
Есть три основных варианта ответа на этот вопрос, которые соперничают друг с другом за право считаться истиной: теория уровня жизни (британцы имели более высокие реальные доходы); теория подражания (люди пытались копировать тех, кто стоял выше них по общественному положению) и теория «революции трудолюбия» (люди работали усерднее, чтобы купить больше вещей). Давайте рассмотрим каждую из них.
Принятие того факта, что Китай активно развивался экономически в раннее Новое время, привело к жарким спорам о том, действительно ли Голландия и Англия были более процветающими странами. По мнению исследователя Китая Кеннета Померанса, в Нижней Янцзы – наиболее развитой части страны – уровень жизни в 1800 году был сопоставим с уровнем жизни в Англии и Нидерландах того периода. «Великое расхождение» двух регионов случилось, по его мнению, в XIX веке и вовсе не по причине прогрессивности Европы, а скорее, как в случае с Великобританией, благодаря географическому везению и имперской мощи – именно эти факторы стали ключевыми в появлении первой промышленной державы, богатой углем, рабами и дешевой едой[153].
Недавние исследования подтверждают, что доходы британцев действительно сократились в период между 1740 и 1800 годами, однако они также показывают, что данное снижение было небольшим, особенно если учесть, что в течение четырех веков после «черной смерти» доходы в Британии оставались невероятно высокими. Хотя это считается предпосылкой к экспансии империи, по большому счету высокие доходы были обусловлены небольшой численностью населения и дешевой энергией, которая способствовала развитию инноваций и повышению продуктивности. Именно благодаря этому были сделаны такие великие открытия, как паровая машина Томаса Ньюкомана (1710), а также менее масштабные, но не менее значимые, например, отдельный конденсатор пара Джеймса Уатта, появившийся в 1760-х годах и повысивший эффективность паровой машины Ньюкомана. Уже в XVII веке европейские страны отличались друг от друга по уровню своего развития. Также в это время наметилось отделение Востока от Запада. Рабочие в Дели и Пекине едва сводили концы с концами, их положение было сходно с положением рабочих во Флоренции и Вене. А вот рабочие Лондона и Амстердама оказываются в противоположном лагере, потому что их рацион отличался бо́льшим разнообразием и был более питателен, включал в себя мясо, алкоголь и пшено (вместо овса). Хотя во время Промышленной революции разрыв между достатком английских рабочих и их хозяев активно рос, им, тем не менее, все равно жилось лучше, чем их собратьям в Азии или Восточной Европе[154].
Можно возразить, что доходы – не самый лучший критерий при сравнении различных сообществ. В Европе год от года рабочих становилось больше, в то время как в Китае пролетариев было мало – это были бедные, изолированные от общества люди, как правило, не имевшие семьи, а вот фермеры-арендаторы, жившие в дельте Янцзы, были более состоятельными.
Разница в уровне жизни
Доходы рабочих по отношению к ценам на продукты питания:
1 – прожиточный минимум
4 – доходы в 4 раза выше прожиточного минимума
Источник: Robert Allen «The British Industrial Revolution in Global Perspective» (2009), стр. 40.
В то же время, например, в Индии ткачи получали питание, жилье и другие льготы в дополнение к своей зарплате, что усложняет возможность прямого сравнения[155]. Исследование историка Бочжун Ли говорит о том, что в 1820-е годы жизнь в Сунцзяне, находящемся недалеко от Шанхая, была более чем достойной. Крестьяне потребляли 2780 ккал в день – показатель, которого Китаю удалось достичь вновь лишь в 2000 году и который даже несколько превышает дневную норму, рекомендованную экспертами в области здравоохранения. Сунцзянцы пили в два раза больше чая, чем британцы, ели в полтора раза больше сахара и, что самое удивительное, курили табак и опиум – «веселого дружка»[156]. Тем не менее Великобритания значительно опережала Китай по количеству вещей, которые были доступны ее населению. Простые люди могли позволить себе не только хлеб, сыр, льняное белье и свечи, входящие в стандартную потребительскую корзину, которую используют для сравнения уровня жизни в разных регионах в тот период. Что касается китайских фермеров-арендаторов, которые занимались дополнительно выращиванием хлопка, то зачастую им удавалось достичь определенного благополучия. И все же род их занятий не позволял взобраться выше по общественной лестнице, а тот факт, что им приходилось заниматься разными видами деятельности, ограничивал возможность специализации в чем-то одном и, следовательно, снижал шансы на изобретения. В мире, где большинство стран стремительно передвигалось по пути индустриализации, это означало большое отставание.
Дебаты об уровне жизни концентрируются преимущественно на положении рабочих, в то время как для правильного ответа на данный вопрос не менее важно рассматривать и группы с более высоким социальным статусом. Великобритания отличалась многочисленностью среднего класса – купцами, юристами и учеными, военными и промышленниками. Четыре из десяти семей в 1750-х годах имели ежегодный доход £40 или выше, что в два раза больше, чем было необходимо для выживания. Это сословие тратило много средств на комфорт и удобства. Несмотря на то, что в ходе Промышленной революции в Великобритании неравенство усилилось, ее средний класс по сравнению с Китаем, Индией и Южной Европой был огромным, а также весьма самодостаточным[157]. Именно его представители ответственны за ту динамичность, с которой рос мир вещей, ведь с его помощью они завоевывали свое место в обществе. Вместо того чтобы подражать элите, эта многочисленная группа использовала новые товары и модные тенденции, чтобы отличиться, и создала таким образом свою собственную индивидуальную культуру комфорта.
В оригинальной теории о рождении общества потребителей в Великобритании подражание считается матерью спроса, а «повивальной бабкой», по словам МакКендрика, являлась «дочка мельника, которая хотела одеваться, как герцогиня»[158]. Современники постоянно высмеивали самовлюбленных потребителей. Это вовсе неудивительно. Революция в одежде безжалостно прошлась по древней системе соотнесения одежды со статусом. Вместо того чтобы сообщать о происхождении человека, одежда вдруг стала демонстрировать его личность. Слуги, которые одевались богаче, чем позволяло им их положение в обществе, становились причиной для особого беспокойства. «Невероятно сложно, – жаловался Даниель Дефо в 1725 году, – отличить хозяйку от служанки по платью; более того, очень часто служанка выглядит еще изящнее своей госпожи». Данная тенденция запустила порочный круг трат: «служанка пыталась перещеголять свою хозяйку, жена купца хотела обойти жену джентльмена, жена джентльмена копировала леди, а леди подражали друг другу»[159].
Однако для убедительного исторического аргумента подобных жалоб мало. Во-первых, негативное отношение к подражанию встречается во многих сообществах того времени, в том числе и в Китае, как мы видели выше. Во-вторых, подражание редко было основным мотивом при выборе нового стиля и одежды. Слуги зачастую не имели другого выбора, кроме как носить поношенную одежду своих хозяев. Британские ремесленники и рабочие придавали большое значение своему платью вовсе не потому, что хотели выдать себя за герцога или герцогиню, а из-за того, что хотели не отставать от равных себе по статусу, показать свой возраст и независимость или получить работу получше[160]. Если говорить в общем, то распространение модных новинок опровергает теорию «просачивания благ сверху вниз». Женщины из высшего общества, например, начали носить ситец на лицевой стороне своих гаунов только в 1690-х годах, когда повсеместное сумасшествие по нему стало сходить на нет. В действительности вместо того, чтобы повторять за аристократией, средний класс сам зачастую задавал вектор моды.
Схожим образом «революция трудолюбия» представляет собой историческую интерпретацию, появление которой связано с тем, что ее авторы живут в современном мире. В начале XVIII века Даниель Дефо рассказывал о том, что в ткацких семьях работали все: и мужья, и жены, и их дети. Их объединенный доход он назвал «приемлемым». В 1770 году мыслитель эпохи Просвещения Джеймс Стюарт заключил, что если раньше люди работали, потому что они были вынуждены, то «теперь они работают, потому что являются рабами своих собственных желаний». Историк-экономист Ян Де Фрис утверждает, что как раз это и происходило в Голландии и Великобритании в период раннего Нового времени. Отталкиваясь от теорий лауреата Нобелевской премии экономиста Гэри Беккера, Де Фрис изображает семью как экономическую единицу, принимающую рациональные решения о том, как ей наилучшим образом распределить свое время. Вместо того чтобы производить самим то, что им необходимо, члены семьи начинают продавать свой труд на рынке, чтобы получить больше денег и, соответственно, получить возможность купить больше вещей. Желание пить чай, есть сахар и потреблять многие другие товары заставляет семьи целиком вливаться в ряды тех, кто работает за зарплату. Оно же вынуждает их работать дольше и усерднее. Так революция потребностей повлекла за собой Промышленную революцию[161].
На первый взгляд данная теория выглядит привлекательно. Спрос перестает быть простой реакцией на предложение и превращается в главное звено цепочки. Это также хорошо объясняет тот факт, что потребление в Великобритании во второй половине XVIII века росло, несмотря на то, что зарплаты сокращались. Однако во всем остальном данная теория не выдерживает критики. Основная проблема заключается в том, что она рассматривает середину процесса и путает причину и следствие. То, что в конечном итоге люди стали покупать больше потребительских товаров, вовсе не означает, что именно ради них они решили работать больше. На самом деле все, скорее, было наоборот. Пуритане начали читать проповеди о «трудолюбии» еще в начале XVII века, когда страна переживала не лучшие времена[162]. Люди действительно стали работать дольше и больше, но не для того, чтобы развлечь себя новыми покупками, а чтобы выжить. Условия жизни улучшились спустя столетие после Английской гражданской войны (1642–1651), и когда это произошло, рабочие стали тратить излишек денег на более качественную мебель, на чай, сахар и прочие новинки. Другими словами, их предпочтения по большому счету не изменились. Трудолюбие же было не желанием людей, а, идеалом, моралью, которую общество навязывало человеку, указывая, как ему следует жить. В свою очередь, либерализм и империализм распространили эту идею во все уголки остального мира. Для большинства рабочих сокращение свободного времени в угоду большему объему работы было, скорее всего, необходимостью, а не добровольным выбором. Они поступали так из-за растущих цен на еду, а не ради реализации своих материальных желаний. Рабочие часы возросли на треть[163] во второй половине XVIII века, и вновь это было обусловлено галопирующей инфляцией и ужесточением условий труда в течение этих десятилетий.
В исследовании 1790-х годов под названием «Государство бедных» Фредерик Иден приводит годовой бюджет среднестатистического шахтера и его семьи, проживавших в то время в Камберленде. Сам шахтер зарабатывал £26 в год. Его жена и дети приносили дополнительно £18[164]. Из годовых расходов семьи, которые составляли £44, целых £3 и 10 шиллингов тратились на чай и сахар. Значит ли это, что они занимались промыванием руды только для того, чтобы позволить себе чай и сахар? Или они делали это с целью обеспечить плату за аренду жилья (£3) и покрыть убытки, связанные с беременностями жены и ее невозможностью работать в эти периоды (£20 за все годы)? Скорее всего, не мечты о новинках или стремление произвести впечатление вынуждали эту семью покупать чай, сахар и свечи. Они пользовались этими предметами, чтобы иметь возможность работать глубокой ночью, не мерзнуть и не засыпать при этом.
Связь между желанием иметь больше и решением работать усерднее не всегда существует. В Великобритании изначальный спрос на потребительские товары обеспечивал средний класс, который не становился при этом более трудолюбив: жены купцов не работали. В XVII веке фермеры Фрисландии действительно предпочитали специализироваться на каком-либо одном продукте и продавать его в бо́льших количествах, а на вырученные деньги покупать то, что не производили сами, в том числе диковинки и новинки. А вот в Каталонии, переживавшей индустриализацию в течение следующего века, многие по-прежнему брались за дополнительную работу, при этом новинки в их домах были большой редкостью. Тем временем в процветающем Кенте семьи скупали столовые приборы и занавески, однако они чаще по сравнению с другими сами пекли хлеб и варили пиво, а не покупали их[165]. Разумеется, никакого прямого пути от желания иметь новое к росту и разделению труда в развивающихся обществах не было, так как, вопреки теории трудолюбия, еще не существовало «искушений», способных поголовно завлекать людей на рынок труда ради приобретения новых товаров. Сами желания людей отличались друг от друга в зависимости от географии их проживания, правил приличия и политики институтов власти, принятой в разных местах. Так что, хотя на севере-западе Европы покупательная способность была высокой, одного этого факта недостаточно для объяснения всех тех изменений, что происходили в потреблении на протяжении XVII–XVIII веков.
Европу от Азии отличала государственная система, нацеленная на экспансию и отвечающая на давление конкурентов инновациями и созданием новых рынков. И, пожалуй, самый яркий тому пример – Великобритания, которая создала трансатлантический рынок и параллельно развивала текстильную промышленность, подражая более умелым индийским ткачам, при этом надежно защитив ее запретом на импорт. Индийским ткачам сначала не хватало мотивации, чтобы совершенствовать свою продукцию, ведь, в конце концов, она действительно была на тот момент самой лучшей, а после, к концу XVIII века, когда они почувствовали серьезную конкуренцию со стороны британских производителей, на их стороне не оказалось сильного государственного аппарата, который мог бы их защитить.
Связь между желанием иметь больше и решением работать усерднее не всегда существует.
А вот различия внутри Европы не так очевидны. Великобритания и Нидерланды смогли обогнать другие страны Европы благодаря своеобразному мышлению и политике государственных институтов, которые подталкивали граждан – и в особенности женщин – присоединяться к рядам рабочих и становиться потребителями. Как мы смогли убедиться, регионы, подобные Вюртембергу, развивались медленнее не потому, что их жительницы не имели материальных желаний, и не потому, что они не хотели работать больше, чтобы больше зарабатывать, а из-за того, что их наказывали, если они потакали этим своим желаниям. В 1742 году, например, жене вязальщика, которая работала независимо от мужа, местный деревенский суд приказал прекратить работу и вернуться к мужу. Владельцы магазинов требовали от городского правления запретить уличных торговцев, а мужья запрещали своим женам покидать дом в поисках работы, и в этом их абсолютно поддерживали власти. Гильдии сводили к минимуму мобильность рабочей силы. Все вместе – мужья, отцы, церкви и гильдии – стояли на страже социальной дисциплины, неведомой в Англии[166]. Сравните это положение дел с Лондоном 1455 года, где женщины, крутившие шелк, заявляли, что таких, как они, «больше тысячи», среди них «много леди», которые живут «в чести» и поддерживают свои семьи[167].
Благодаря раннему образованию центрального государства Англия была избавлена от изобилия органов местной и региональной власти, которые мешали передвижению потоков товаров на континенте. Английское правительство направляло свою силу на внешний мир. Показательно ее сравнение с Испанской империей. Первой начав импортировать такие экзотические товары, как шоколад и табак, Испания должна была наилучшим образом использовать такой хороший старт для успеха в дальнейшей гонке. Однако в действительности Испания быстро отстала. Ее главная стратегия, которая заключалась в том, чтобы отнимать ресурсы у колоний, а не превращать их в дополнительные рынки для сбыта своих товаров, оказалась проигрышной. Метрополия на Пиренейском полуострове страдала от фрагментации региональной власти, проблем с валютой, налогов, а также от больших расстояний и плохого транспорта. Кастилия и Наварра имели собственные пошлины на импорт и экспорт, и они могли выпускать свои собственные монеты. У многих городов также были свои финансовые полномочия. Обремененные долгами города, такие как Севилья, могли оставаться на плаву благодаря налогам на потребление[168]. Все эти препятствия неизбежно ограничивали возможность испанцев выбирать новые товары. К середине XVIII столетия, к примеру, лишь каждая четвертая семья со средним доходом имела специальную тарелку для горячего шоколада. Однако кое-что менялось, конечно, в лучшую сторону, особенно в том, что касалось текстильной промышленности. В городе Паленсия на северо-западе Испании среднестатистической семье удалось расширить свой гардероб с 42 до 71 предмета одежды спустя 80 лет после 1750 года. И все-таки новые товары скорее просачивались, чем текли рекой. За пределами Мадрида, в провинциальных городах вроде Сантандера, салфетки и скатерти – главные показатели изысканного вкуса – стали более-менее распространены лишь в начале XIX века. Неудивительно, что даже во многих урбанизированных регионах Испании хлопок заменил лен только в 1830-х годах[169].
В Великобритании правительство и интегрированный рынок создали более благоприятную среду для распространения товаров. Это был важный фактор для роста потребления в этой части мира. Однако наличие благоприятных условий не означает умения извлекать из них максимальную выгоду. Та движущая сила, которая заставляла людей все больше и больше погружаться в мир вещей, все равно остается скрытой. Как мы видели в случае с хлопком, британское правительство защищало свою промышленность от конкуренции иностранных производителей. Однако спрос на сам товар уже существовал: государство не создавало его, а просто направило в нужное русло. Чтобы понять, каким образом вещи стали столь неотъемлемой частью человеческой жизни в современном обществе, нам необходимо рассмотреть культурные факторы, наделившие вещи новым смыслом и значимостью.
115
Smith, Wealth of Nations, bk. IV, гл. 8, 179.
116
Charles Wilson, «Cloth Production and International Competition in the Seventeenth Century», Economic History Review 13, no. 2, 1960: 209—21. 90. C. Lis et al., eds., Guilds in the Early Modern Low Countries: Work, Power and Representation (London, 2006).
117
Тут я ссылаюсь прежде всего на: De Vries and Woude, First Modern Economy; см. также: DuPlessis, Transitions to Capitalism in Early Modern Europe; Bas van Bavel, «The Organization of Markets as a Key Factor in the Rise of Holland», Continuity and Change, 27, no. 3, 2012, 347—78.
118
Jan De Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500–1700 (New Haven, CT, 1974), 218—22.
119
Atwell, «Ming China and the Emerging World Economy», из: Twitchett & Mote, eds., Cambridge History of China, Vol VIII: The Ming Dynasty, 1368—44, Part 2, 396.
120
Здесь и далее см.: Simon Schama, The Embarrassment of Riches (Berkeley, CA, 1988), chs. 3 & 5.
121
Clunas, Empire of Great Brightness, 141.
122
Brant van Slichtenhorst; см. Schama, The Embarrassment of Riches, 193–201.
123
Dyer, An Age of Transition?; а также Kowaleski, «A Consumer Economy».
124
William Harrison, A Description of England (London, 1577/1587), гл. 8, 151—6, в доступе по ссылке: https://archive.org/ stream/elizabethanengla32593gut/pg32593.txt. Про моду того периода см.: Carlo Belfanti, «The Civilization of Fashion: At the Origins of a Western Social Institution», Journal of Social History 43, no. 2, 2009: 261—83.
125
Linda Levy Peck, Consuming Splendour: Society and Culture in Seventeenthcentury England (Cambridge, 2005).
126
Thirsk, Economic Policy and Projects. См. также: Sara Pennel, «Material Culture in Seventeenthcentury «Britain» из: Trentmann, ed., Oxford Handbook of the History of Consumption, гл. 4.
127
Daniel Defoe, A Tour through England and Wales, II (London 1727/1928), 126.
128
Jane Whittle & Elizabeth Griffiths, Consumption and Gender in the Early Seventeenthcentury Household: The World of Alice Le Strange (Oxford, 2013), 120—4, 144—53. О растущем ассортименте продуктов, их качестве и ценах см. далее: Thirsk, Economic Policy and Projects.
129
Lorna Weatherill, Consumer Behaviour and Material Culture in Britain, 1660–1760 (London, 1996, 2nd edn), таблица 3.3, 49.
130
Edward Roberts & Karen Parker, eds., Southampton Probate Inventories 1447–1575 (Southampton, 1992), Vol. I, 54—5.
131
Ann SmartMartin, «Makers, Buyers and Users: Consumerism as a Material Culture Framework», из: Winterthur Portfolio 28, no. 2/3, 1993: 141—57, p. 154. См. также: Cary Carson, «The Consumer Revolution in Colonial British America: Why Demand?» из: Of Consuming Interests: The Style of Life in the Eighteenth Century, eds. Cary Carson, Ronald Hoffman & Peter J. Albert (Charlottesville, VA, 1994), 483–697; а также Carole Shammas, The Preindustrial Consumer in England and America (Oxford, 1990).
132
Peter King, «Pauper Inventories and the Material Lives of the Poor in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries», из: Chronicling Poverty: The Voices and Strategies of the English Poor, 1640–1840, eds. Tim Hitchcock, Peter King & Pamela Sharpe (New York, 1997), 155—91.
133
John Styles, «Lodging at the Old Bailey: Lodgings and Their Furnishing in Eighteenthcentury London», из: Gender, Taste and Material Culture in Britain and North America, 1700–1830, eds. John Styles & Amanda Vickery (New Haven, CT, 2006).
134
Charles P. Moritz, Travels, Chiefly on Foot, through Several Parts of England in 1782 (London, 1797, 2nd edn), 24.
135
Shane White & Graham White, «Slave Clothing and AfricanAmerican Culture in the Eighteenth and Nineteenth Centuries», Past & Present 148, 1995: 149–186, цитата на с. 156.
136
See Frank Salomon, «Indian Women of Early Quito as Seen through Their Testatements», The Americas 44, no. 3, 1988: 325—41, особенно 334—7; а также Elena Philips, «The Iberian Globe», из: Amelia Peck, ed., Interwoven Globe: The Worldwide Textile Trade, 1500–1800 (New York, 2013), 28–45.
137
John Irwin & P. R. Schwartz, Studies in IndoEuropean Textile History (Ahmedabad, 1966). О распространении хлопка по всему миру см.: Sven Beckert, Empire of Cotton: A New History of Global Capitalism (London, 2014).
138
«First Report» (24 Dec. 1783), in Reports from the Committee on Illicit Practices Used in Defrauding the Revenue (1783—4), Vol. XI, цитата на с. 228, данные из приложения 4, 2041. См. также: William J. Ashworth, Customs and Excise: Trade, Production and Consumption in England, 1640–1845 (Oxford, 2003), 149—50. О французских контрабандистах: Michael Kwass, Contraband: Louis Mandrin and the Making of a Global Underground (Cambridge, MA, 2014), в особенности 106—8, 218—20; а также Giorgio Riello, Cotton: The Fabric That Made the Modern World (Cambridge, 2013), 121. О контрабандной торговле шелком см.: William Farrell, «Silk and Globalization in Eighteenthcentury London», PhD thesis, Birkbeck College/ University of London, 2013, 148—95.
139
Maxine Berg, «In Pursuit of Luxury: Global History and British Consumer Goods in the Eighteenth Century», Past & Present 182, no. 1, 2004: 85—142.
140
J. F., The Merchant’s WareHouse Laid Open: Or, the Plain Dealing LinnenDraper. Shewing How to Buy All Sorts of Linnen and Indian Goods (London, 1696), A3, 7, 27, 29–30. О разнообразии узоров, доступных даже более бедным потребителям, см. John Styles: Threads of Feeling: The London Foundling Hospital’s Textile Tokens, 1740—70 (London, 2010).
141
О Франции: Roche, Culture of Clothing, 12639. О шелке см. Natalie Rothstein: «Silk in the Early Modern Period, c. 1500–1780», из: D. T. Jenkins, The Cambridge History of Western Textiles (Cambridge, 2003), 528—61; а также Farrell, «Silk and Globalization in Eighteenth-century London». См. также: S. Horrell, J. Humphries & K. Sneath, «Consumption Conundrums Unravelled», из: Economic History Review (online version 17 Dec. 2014).
142
Roger-Pol Droit, How are Things? A Philosophical Experiment, trans. Theo Cuffe (London, 2005), 52.
143
Четырнадцать дукатов в 1546 году, см. Patricia Allerston: «Clothing and Early Modern Venetian Society», из: Continuity and Change 15, no. 3, 2000: 367—90, на с. 372.
144
1765, цитата из: Beverly Lemire, Fashion’s Favourite: The Cotton Trade and the Consumer in Britain, 1660–1800 (Oxford, 1991), 94. См. также: Prasannan Parthasarathi & Giorgio Riello, eds., The Spinning World: A Global History of Cotton Textiles, 1200–1850 (Oxford, 2009).
145
Roche, Culture of Clothing, 108—11; а также John Styles, The Dress of the People: Everyday Fashion in Eighteenthcentury England (New Haven, CT, 2007).
146
Andrew Bevan & D. Wengrow, eds., Cultures of Commodity Branding (Walnut Creek, CA, 2010).
147
McKendrick, из McKendrick, Brewer & Plumb, Birth of a Consumer Society, 141.
148
Phyllis G. Tortora & Keith Eubank, Survey of Historic Costume: A History of Western Dress (New York, 1998, 3rd edn), 147—9, 158—60.
149
Цитата из: Om Prakash, «The Dutch and the Indian Ocean Textile Trade», из: Parthasarathi & Riello, eds., The Spinning World, 149.
150
Цитата из: Woodruff D. Smith, Consumption and the Making of Respectability, 1600–1800 (London, 2002), 50.
151
Magazine à la Mode, or Fashionable Miscellany (January 1777), 49–51.
152
McKendrick из: McKendrick, Brewer & Plumb, Birth of a Consumer Society, 43—7.
153
Pomeranz, Great Divergence; для сравнения Prasannan Parthasarathi, «The Great Divergence», Past & Present 176, 2002: 275—93; Robert Brenner & Christopher Isett, «England’s Divergence from China’s Yangzi Delta: Property Relations, Microeconomics and Patterns of Development», из: Journal of Asian Studies 61, no. 2, 2002: 609—22; а также Kenneth Pomeranz, «Standards of Living in Eighteenth-Century China: Regional Differences, Temporal Trends, and Incomplete Evidence», из: Standards of Living and Mortality in Preindustrial Times, eds. Robert Allen, Tommy Bengtsson & Martin Dribe (Oxford, 2005), 23–54.
154
Robert C. Allen, The British Industrial Revolution in Global Perspective (Cambridge, 2009); Robert C. Allen et al., «Wages, Prices and Living Standards in China, Japan and Europe, 1738–1925», GPIH Working Paper no. 1, (2005); а также Stephen Broadberry & Bishnupriya Gupta, «The Early Modern Great Divergence: Wages, Prices and Economic Development in Europe and Asia, 1500–1800», Economic History Review 59, no. 1, 2006: 2—31. Сравните с: Jane Humphries, «The Lure of Aggregates and the Pitfalls of the Patriarchal Perspective: A Critique of the High Wage Economy Interpretation of the British Industrial Revolution», Economic History Review 66, 2013: 693–714; а также Robert C. Allen, «The High Wage Economy and the Industrial Revolution: A Restatement», Economic History Review 68, no. 1, 2015: 1—22.
155
Kenneth Pomeranz, «Chinese Development in Longrun Perspective», из: Proceedings of the American Philosophical Society 152, 2008: 83—100; а также Prasannan Parthasarathi, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850 (Cambridge, 2011), 37–46.
156
Bozhong Li, «Xianminmen chi de bucuo», Deng Guangming xian-sheng bainian shouchen jinian wenji (2008). Выражаю благодарность Бочжун Ли за английскую версию этой статьи. Данные по опиуму см.: Zheng Yangwen, The Social Life of Opium in China (Cambridge, 2005).
157
В Японии в период Эдо было, возможно, больше равенства, однако она была закрыта для международной торговли. Уровень жизни японцев в этот период может недооцениваться историками, так как многие крестьянские семьи получали земельные паи, а также дополнительный доход приносили в семью жены и дети, и кроме того, были возможности заниматься несельскохозяйственными подработками. См.: Osamu Saito, «Growth and Inequality in the Great and Little Divergence Debate: A Japanese Perspective», Economic History Review 68, 2015: 399–419; а также Osamu Saito, «Income Growth and Inequality over the Very Long Run: England, India and Japan Compared», (2010), по ссылке: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/rp/publications/no02/ P1-C1_Saito.pdf.
158
Neil McKendrick, «Home Demand and Economic Growth», из: N. McKendrick, ed., Historical Perspectives (London, 1974), 209.
159
Daniel Defoe, Everybody’s Business is Nobody’s Business (1725), Defoe’s Works, Vol. II (London, 1854 edn), 499 f., 504.
160
См. Styles, Dress of the People.
161
Jan De Vries, «The Industrial Revolution and the Industrious Revolution», Journal of Economic History 54, no. 2, 1994: 249—70.
162
Ссылаюсь на: Craig Muldrew, Food, Energy and the Creation of Industriousness: Work and Material Culture in Agrarian England, 1550–1780 (Cambridge, 2011).
163
Hans-Joachim Voth, Time and Work in England, 1750–1830 (Oxford, 2001). Действительно ли у рабочих позднего Средневековья было так много свободного времени, вопрос спорный; см.: Gregory Clark & Ysbrand van der Werf, «Work in Progress? The Industrious Revolution», Journal of Economic History 58, no. 3, 1998: 830—43.
164
Frederic Morton Eden, The State of the Poor: Or, an History of the Labouring Classes in England (London, 1797), Vol. II, 87—8.
165
Julie Marfany, «Consumer Revolution or Industrious Revolution? Consumption and Material Culture in Eighteenthcentury Catalonia»; об ограниченном числе новых предметов см.: J. Torras & B. Yun, eds., Consumo, condi-ciones de vida y comercialización: Catalunˇa y Castilla, siglos XVII–XIX (Castile and León, 1999); Jan De Vries, «Peasant Demand Patterns and Economic Development: Friesland 1550–1750», из: European Peasants and Their Markets, eds. W. N. Parker & E. L. Jones (Princeton, NJ, 1975); а также Mark Overton, Jane Whittle, Darron Dean & Andrew Hann, Production and Con-sumption in English Households, 1600–1750 (London, 2004).
166
Ogilvie, «Consumption, Social Capital, and the «Industrious Revolution» in Early Modern Germany».
167
Цитата из: DuPlessis, Transitions to Capitalism in Early Modern Europe, 36.
168
Regina Grafe, Distant Tyranny: Markets, Power and Backwardness in Spain, 1650–1800 (Princeton, NJ, 2012).
169
Fernando Carlos Ramos Palencia, «La demanda de textiles de las familias castellanas a finales del Antiguo Régimen, 1750–1850: ¿Aumento del consumo sin industri-alización?», из: Revista de historia económica 21, no. S1, 2003: 141—78; а также Torras & Yun, eds., Consumo, condiciones de vida y comercialización.