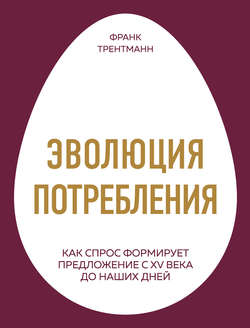Читать книгу Эволюция потребления. Как спрос формирует предложение с XV века до наших дней - Франк Трентманн - Страница 9
Часть 1
2
Расцвет потребления
Горько-сладкий
ОглавлениеВнедрение и популяризация новых товаров являются основными чертами современной культуры потребления. Прослеживая драматические изменения в судьбе экзотических напитков, мы сможем понять, как появилась и распространилась на них мода, а также увидим, какие исторические личности и события стояли за этим. Судьбы чая, кофе и шоколада связаны с перемещением и обесцениванием. Произошло беспрецедентное глобальное перемещение растений, людей и привычек. В своих колониях европейские империи создавали новые территории производства в тропиках. Во времена ацтеков какао в основном выращивали в Соконуско, вдоль берега Тихого океана Мексики. Голландцы перевезли какао в Венесуэлу, католические миссионеры – на Филиппины. Во время путешествия Сандиса кофе выращивали только в Йемене и перевозили из порта Моха. Позже голландцы начали выращивать кофе в Суринаме (1718), французы – на Мартинике (1723), британцы – на Ямайке (1728). В 1840-х годах британцы разбили колониальные плантации чая в Ассаме и на Цейлоне. Сахарный тростник, который первоначально рос в дикой природе в Юго-Восточной Азии, был привезен в Средиземноморье арабами, а затем европейцы перевезли его с Мадейры и Канарских островов в Вест-Индию. Современники осознавали всю важность этих перемещений. В 1773 году французский писатель Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер признался, что хотя и не знает, в какой степени кофе и сахар повлияют на судьбу Европы, но уверен, что эти два продукта стали причиной ужасной трагедии двух континентов. Коренное население Америки истреблялось, так как европейцам нужна была свободная земля для возделывания; сокращалось и население Африки – европейцы увозили местных жителей, потому что для работы на новой земле им требовались люди[172].
О каждом из этих продуктов, вызывающем привыкание, написано много книг. Одной из первых стала работа Сидни Минца под названием «Сладость и власть: место сахара в современной истории» (1985), которая считается точкой отсчета для нового литературного жанра – биографии продукта[173]. Привлекательность подобного жанра легко объяснить. Во-первых, прослеживая жизнь продукта, мы видим взаимосвязь между режимами производства и потребления, которые могут находиться по разные стороны океана и иметь свою национальную историю. Теплая чашка сладкого чая в Великобритании непосредственно связана с жестокостью на рабовладельческих плантациях в Карибском бассейне. Во-вторых, товары, как и люди, ведут «социальную жизнь»[174]. Их характер и ценность меняются с течением времени и в зависимости от места, занимаемого ими в пищевой цепи. Для правителей ацтеков какао-бобы были данью, платежным средством, а также использовались в религиозных ритуалах. Сегодня коробку с чаем можно преподнести в качестве подарка.
Однако биографии продуктов зачастую объясняют слишком много, приписывая каждому растению особый вес в мировой истории. Экзотические продукты породили множество историй и легенд. Согласно одной из них, этикет чаепития и употребления кофе «просочился» из королевских дворов Европы в средний класс, желавший выделиться, а после распространился и среди всего остального населения[175]. Другая история утверждает, что кофейные дома стали местом рождения общественной жизни[176]. Некоторые зашли настолько далеко, что увидели в преимуществе кофе перед шоколадом триумф умеренного, современного, протестантского европейского Севера над самовлюбленным, вычурным, католическим европейским Югом[177]. Согласно еще одной точке зрения, британский чай и сахар сковали имперскую цепь между колониальным рабством и фабричным трудом в метрополии[178]. Проблема здесь кроется в том, что уникальность и важность одного напитка в одном месте начинают меркнуть, если сравнивать его с другими напитками в других условиях. В протестантской Европе, например, рабочим на фабриках давали пиво, джин и бодрящий кофе. Великие страны с развитыми традициями чаепития, включая Россию и Китай, имевшие также сильную имперскую власть и рабочий класс, все же совершенно не похожи на Великобританию. Тем не менее рассмотреть каждый из экзотических напитков мы все-таки должны. В конечном счете они остались в выигрыше именно потому, что оказались необычайно универсальными, смогли приспособиться к различным социальным группам, культурам и экономическим режимам. Это касается и колоний, и небольших стран, и имперских метрополий.
С точки зрения мировой истории культивирование продуктов, которые вызывают привыкание, открыли вовсе не европейцы – наоборот, им пришлось «наверстывать упущенное»[179]. Напитки с кофеином или теобромином (следы которого также найдены в какао) были долгое время связаны с другими цивилизациями. Размельченный зеленый чай был распространен в империи Мин, в то время как черный чай с молоком пили маньчжуры во Внутренней Азии. Кофе употребляли на Среднем Востоке с XV века, когда суфиты открыли технику обжарки зерен и распространили новый горячий напиток в Каире и Мекке. В Восточной Африке был кат, а чуть западнее – орех кола, который жевали в большом количестве по утрам, чтобы «забыть злобу от сдержанности», как говорили в народе хауса[180].
Власть оказывала значительное влияние на привычки и традиции как в Новом, так и в Старом Свете. В конце XVI века испанские иезуиты перевезли плантации какао из традиционных мест в Мексике в Каракас (Венесуэла) и Гуаяс (Эквадор). Шоколад распространился по всей Центральной Америке. Большое количество какао-бобов, выращиваемых в Венесуэле, потреблялось здесь же. В Лиме шоколад пила колониальная элита. В Гватемале и Никарагуа шоколад пили все. На Филиппинах этот популярный напиток готовили по-своему, добавляя к нему нерафинированный сахар, иногда орех пили и жареный рис. В 1898 году ситуацию изменили американцы, которые предпочитали кофе.
Вторым напитком потребительской революции в Латинской Америке, о котором зачастую забывают, является мате – парагвайский кофеиносодержащий чай, изготовленный из вечнозеленого растения падуба парагвайского (Ilex paraguariensis). Изначально падуб парагвайский рос в дикой природе, но миссионеры начали выращивать его на плантациях. Его продавали по всему субконтиненту, от Чили и Перу до Монтевидео (Уругвай). В действительности мате был таким же экзотическим напитком в Буэнос-Айресе, как кофе в Лондоне и Париже. В итоге мате стал даже более социальным напитком, чем чай или кофе. Те, кто пил мате, передавали калабас по кругу вместе с бомбильей или соломинкой. Культура вспомогательных принадлежностей, которая ассоциируется с европейскими чайными церемониями, на самом деле была распространенным мировым феноменом. Серебряные соломинки и калабасы в серебряных оправах добрались даже до высокогорий Эквадора. Как и в случае с европейскими чайными церемониями и посиделками за чашкой кофе (Kaffeekränzchen), ритуалы с мате превращали женщин в самых главных потребителей, как хранительниц домашнего очага, и вместе с этим в потенциальных расточительниц. В 1780-х годах один исследователь писал, что «нет такого дома, бедного или богатого, где мате не стоял бы на столе, и не существует более приятного занятия, чем рассматривать богато украшенную посуду, предназначенную для этого напитка»[181].
Почему же европейцы так пристрастились к экзотическим напиткам? Тот факт, что они содержат алкалоиды, способные вызывать привычку, сыграл свою роль, но едва ли этого было достаточно. Для начала нужно было преодолеть вкусовые барьеры. К тому же не стоит преувеличивать силу привыкания к этим напиткам. Многие пили их разбавленными. Например, к 1780-м годам фермеры, жившие в горах, полюбили кофе, однако в их исполнении этот напиток был «настолько разбавленным, что едва передавал цвет зерен»[182]. В Австрии текстильщики в это время регулярно пили кофе[183]. Чаще всего привычка становилась важнее вещества, вызывающего привыкание. В 1900 году большинство жителей континентальной Европы продолжали пить «заменитель» кофе, изготовленный из цикория или желудей, в котором совсем не было кофеина; настоящий кофе заменил молоко в деревнях Австрии только спустя несколько десятилетий. Разумеется, то, что европейцы были достаточно сильны, чтобы бороздить океаны, завоевывать государства и порабощать Африку, имеет значение, но, с другой стороны, система плантаций в Атлантическом океане пала бы, если бы не их аппетит к сахару и кофе. Так что главным по-прежнему остается вопрос, как и почему изменились вкусы и привычки европейцев. И на этот вопрос не так-то просто дать ответ.
Маршруты перевозки товаров и рабов в 1770 году
В отличие от изменений индивидуальных вкусовых привычек, например, внезапного пристрастия ребенка к кислому или горькому, изменение вкусовых привычек целой нации проходит очень медленно. В рамках этого процесса меняются и вкусовые критерии, и группы людей, которых в разное время считали знатоками вкусов. Во время первой фазы распространения экзотических напитков в Европе – с XVI до начала XVIII века – этим занимались лишь единицы. В 1724 году потребление кофе по всей Англии составляло лишь 660 тонн. Из расчета на единицу населения эта цифра превращается в одну чашку кофе раз в три недели. И это еще довольно удачный год. Потребление чая было немногим больше[184]. Какао начали продавать начиная с 1590-х годов, но даже 100 лет спустя из Венесуэлы в Испанию привозили лишь 65 тонн бобов ежегодно. Кофе и шоколад считались предметами роскоши, которые могло себе позволить очень небольшое число людей. Кроме того, это были редкие товары, требующие определенного подхода, знаний и умений.
Первыми, кто знакомился с новыми вкусами, изначально были миссионеры, торговцы и ученые. Именно их интерес к экзотическим вещам и контакт с другими культурами обеспечили появление в Европе новых продуктов вместе с информацией об их приготовлении, потреблении и медицинских свойствах – обо всем, что они узнавали в процессе своих наблюдений в Аравии и Новой Испании. Первыми европейцами в Новом Свете, кто распробовал вкус шоколада, стали иезуиты и доминиканцы. Они имели прислугу из местных жителей, они ходили на местные рынки, а также пользовались местными изобретениями. Индейцы показали им, как готовить и наслаждаться пенным напитком, который употребляют местные жители, приправляя его медом и окрашивая его семенами дерева ашиот в ярко-красный цвет. В Мезоамерике предпочитали употреблять этот напиток горячим, добавляя красный перец, кукурузу и фасоль и превращая его таким образом в суп. К началу XVII века церкви и монастыри стали главными распространителями какао, поставляя этот продукт из Веракруса своим братьям в Рим[185].
Однако в самой метрополии популярный в колониях напиток был воспринят неоднозначно. С одной стороны, высокий статус какао-бобов в культуре ацтеков делал их чем-то элитным в глазах европейцев, отделяя их от плебейских напитков вроде мате, которому так и не удалось закрепиться по другую сторону Атлантического океана. С другой стороны, попивать горячий шоколад, уподобившись жителям колоний, означало спуститься вниз по общественной лестнице и превратиться из цивилизованного человека в дикаря. Когда вернувшиеся в Испанию колонисты продолжили следовать своей привычке пить шоколад, общество начинало опасаться, что европейцы могут перенять образ жизни жителей завоеванных территорий. Именно знать помогла реабилитировать напиток. Благодаря Дому Габсбургов и аристократическим семействам, соединявшим Мадрид, Париж и Вену, какао удалось завоевать любовь и остального населения. Приготовление напитка осталось примерно таким же, но кое-что поменялось на «европейский лад»: к нему стали добавлять корицу и сахар. Потребление какао оправдывали, ссылаясь на идеи о человеческих темпераментах, сформулированные Гиппократом (предположительно 460–370 гг. до н. э.) и древнегреческим врачом Галеном (131–201 гг. н. э.). Согласно данной теории, напитки и определенная диета способны влиять на здоровый баланс между четырьмя субстанциями, составляющими тело, – между кровью, желтой желчью, черной желчью и лимфой. Чилийский перец постепенно перестали использовать в качестве приправы к шоколаду. Козимо III Медичи добавлял в новый напиток жасмин, а знать на севере Европы – яйца. Какао теперь пили не из калебасов, а из изящных фарфоровых чашечек; его подавали на завтрак и во время специальных шоколадных вечеринок.
Ни кофе, ни чаю не пришлось преодолевать подобного препятствия: к ним никогда не относились с подозрением, как к колониальному «варварскому» товару. Напротив, экзотичность была им на руку. Тот факт, что кофейные зерна и чайные листья привозили из Аравии и Китая, создавал вокруг них ореол таинственности. Кофе боготворили такие ученые мужи, как английский философ Фрэнсис Бэкон и итальянский ботаник Просперо Альпини, которые интересовались миром природы во всех его проявлениях. Европейцы увидели в турецких кофейных домах модель организации социального общения, а также охотно переняли положения арабской медицины. Одним из первых, кто заговорил о положительном воздействии кофе на человека и тем самым серьезно повлиял на его популярность, был французский врач и собиратель древностей Якоб Спон. В 1671 году он описал, как турки берут «полтора фунта семян этого растения», затем «очищают их от кожуры и обжаривают на костре… [а потом] варят их в двадцати пинтах воды», после чего разливают напиток в «маленькие фарфоровые емкости». Спон был категорически не согласен с мнением о том, что кофе, как и чай, истощает тело и разум. Защищая любимый напиток, Спон цитировал не только «выдающегося арабского врача», но и Галена, учение которого продолжало оказывать влияние на европейскую медицину. Горячий кофе, утверждал Спон, обеспечивает баланс между четырьмя «жизненными соками» и не дает «крови закипеть, а силе истощиться». Он отмечал, что арабы принимают кофе при несварении желудка, катаре и для «восстановления цикла у женщин»[186]. Вернувшись на родину, Спон и его коллеги стали выписывать кофе женщинам, страдающим от болезненных менструаций.
Несмотря на это, путь кофе к сердцам европейцев нельзя назвать совершенно беспрепятственным. Импорт и цены на кофе сильно колебались. Конечно, везти кофе было выгодней, чем камни, однако первоначальный маршрут его перевозки – из Йемена в Великобританию – был полон опасностей. Корабли Английской Ост-Индской компании были легкой добычей для пиратов Красного моря. В 1691 и 1693 годах кофе вообще не удалось добраться до британских берегов. Кроме того, Гален не говорил, что горячие напитки всегда полезны, и некоторые врачи Парижского медицинского факультета предупреждали о том, что их употребление может сократить жизнь. В Англии некий доктор Уиллис отправлял пациентов с «холодной тяжелой конституцией» в кофейни, чтобы избавить их от головных болей и апатии. А вот пациентам с горячим темпераментом, напротив, следовало избегать черного напитка, потому что, как считал доктор, «он может обременить и иссушить тело». Если люди такого темперамента будут пить слишком много кофе, то их «поразит паралич, а жизненные соки настолько истощатся, что они не смогут ни заниматься физическими упражнениями, ни выполнять супружеский долг, а это негативно скажется на здоровье их жен»[187]. И действительно, немецкий географ Адам Олеарий, путешествовавший под покровительством герцога Фридриха III в 1633–1635 годах по Персии и Московскому княжеству, заметил, что персы пьют кофе, чтобы контролировать рождаемость. Кстати, шоколад, наоборот, был известен как афродизиак. Мы оставляем нашим дорогим читателем при желании самостоятельно поразмыслить о том, уменьшились бы темпы рождаемости в Великобритании, превратись она в нацию любителей кофе, а не чая[188].
И все же к концу XVII века всем этим напиткам удалось занять свое место в буднях европейцев. Сэмюэл Пипс после ночи пьянки всегда пил шоколад, чтобы успокоить желудок и избавиться от похмелья. Многие кофейни предлагали целый ряд горячих напитков наряду с кофе. Однако именно кофе принадлежало первенство как «бодрящему и культурному напитку»[189]. В обществах с растущей рыночной экономикой бодрящие свойства кофе помогли ему избежать крайностей и не превратиться ни в предмет роскоши аристократии, ни в часть культуры низших слоев общества вроде моряков и проституток, которые курили марихуану и славились своими буйными гулянками. Кофе также рекомендовали употреблять клеркам, так как эль и вино по утрам могут вызвать «головокружения, а это крайне отрицательно может сказаться на их работе»[190]. Кофе стал олицетворением благоразумия, самоконтроля и умеренности.
172
J. H. Bernadin de Saint-Pierre, Voyage à l’Îsle de France (1773).
173
Sidney Mintz, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History (New York, 1985).
174
Arjun Appadurai, ed., The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective (Cambridge, 1986). См. также: Robert J. Foster, «Tracking Globalization: Commodities and Value in Motion», из: Handbook of Material Culture, eds. Christopher Tilley, et al. (London, 2006); Felipe Fernández-Armesto, Food: A History (London, 2002).
175
Elias, The Civilizing Process. Габриель Тард сформулировал похожую модель «сверху вниз» еще в 1890-е.
176
Jürgen Habermas, The Transformation of the Public Sphere (Cambridge, 1989; 1st German edn, Germany, 1976).
177
Wolfgang Schivelbusch, Tastes of Paradise: A Social History of Spices, Stimulants and Intoxicants (New York, 1992).
178
Mintz, Sweetness and Power.
179
Сравните с более евроцентрической трактовкой: Fernand Braudel, The Structures of Everyday Life (New York, 1979/1981), 249—60.
180
Heinrich Barth, Reisen und Entdeckungen in Nord- und Zentralafrika in den Jahren 1849—55 (Wiesbaden, 1858/1980), 238, перевод мой.
181
Antonio de Alcedo, 1786, цитата из: Ross W. Jamieson, «The Essence of Commodification: Caffeine Dependencies in the Early Modern World», Journal of Social History, 2001: 269—94, 278. См. также: William Gervase Clarence-Smith, Cocoa and Chocolate, 1765–1914 (London, 2000); а также William Gervase Clarence-Smith & Steven Topik, eds., The Global Coffee Economy in Africa, Asia and Latin America, 1500–1989 (Cambridge, 2003).
182
Johann Kaspar Riesbeck, 1780, цитата в: Christian Hochmuth, Globale Güter – lokale Aneignung: Kaffee, Tee, Schokolade und Tabak im frühneuzeitlichen Dresden (Konstanz, 2008), 64, перевод мой.
183
Roman Sandgruber, Bittersüße Genüße: Kulturgeschichte der Genußmittel (Vienna, 1986), 80f.
184
Специальный импорт чая составил 540 тонн в 1724 году, однако при одинаковом весе чайные листья производят в четыре раза больше напитка. При подсчете я учитывал потерю веса при обжарке. Подсчеты основываются на данных по специальному импорту из: Elizabeth Boody Schumpeter, English Overseas Trade Statistics 1697–1808 (Oxford, 1960), таблица XVIII.
185
Здесь и далее см. Jamieson, «Essence of Commodification», Marcy Norton, «Tasting Empire: Chocolate and the European Internalization of Mesoamerican Aesthetics», American Historial Review 111, no. 3, 2006: 660—91; Michael D. Coe & Sophie D. Coe, The True History of Chocolate (London, 1996); а также Kenneth F. Kiple & Kriemhild Ornelas, eds., The Cambridge World History of Food, 2 vols. (Cambridge, 2000).
186
Jacob Spon, De l’usage, du caphé, du thé, et du chocolate (Lyon, 1671); я цитирую современный английский перевод: John Chamberlayne, The Manner of Making Coffee, Tea and Chocolate (London, 1685), переизданный в: Ellis, ed., Eighteenth-century Coffee-house Culture, Vol. IV, 105—11.
187
Цитата из: John Chamberlayne, The Natural History of Coffee, Tea, Chocolate, Tobacco (London, 1682), 4–5.
188
Chamberlayne, The Manner of Making Coffee. For Red Sea piracy, see K. N. Chaudhuri, The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660–1760 (Cambridge, 1978), 361.
189
James Howell, 1650s, цитируется в: The Vertues of Coffee. Pepys’s diary, 24 April 1661.
190
James Howell, 1650s, цитируется в: The Vertues of Coffee.