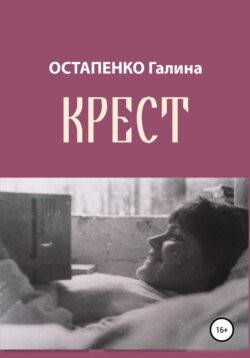Читать книгу Крест - Галина Владимировна Остапенко - Страница 5
Повесть
«Кирицы»
ОглавлениеВот, наконец, место нашего назначения. Маленькая деревня в 60 километрах к югу от Рязани. По названию маленькой речушки названы и деревня, и санаторий. Стоял апрель. Природа готовилась к обновлению, теплу, зелёному наряду. Первыми нас встретили грачи. Из окон машины, в которой я ехала лёжа на заднем сиденье, увидела вдруг высокие тополя, а на их ветвях какие-то чёрные пятна. Спросила у мамы, что это такое. «Это гнёзда грачей», – ответила она. Сразу вспомнилась картина Саврасова «Грачи прилетели». Птицы стаями летали вокруг и громко кричали. Это стало раздражать и, казалось, усиливать боль. Со временем я привыкну к грачиному крику и не буду его замечать. А пока это было для меня непривычным и чужим.
Машина въехала в ворота и оказалась перед необыкновенно красивым дворцом. Здесь мне предстояло провести долгое время. Но я этого еще не знала и не хотела знать. Меня мучила только одна мысль: смогут ли меня здесь вылечить, поднять на ноги.
Я все спрашивала маму: «Сколько мне предстоит здесь пробыть? Спроси у докторов.» К нам подошел врач, посмотрел ласково на меня и сказал: «Ну, от силы полгода полежишь и отправишься домой». Я заплакала: «Я больше не вынесу, не выдержу такой боли. Пожалуйста, начните побыстрее лечение!».
Не предполагала я, что больше трех лет проведу в этом чудном месте, которое для меня окажется родным и так много мне даст! Мама побыла со мной еще дня три и уехала домой, далеко, в нашу родную Сибирь. Её ждала семья и работа. Внутри у меня все опустело. Мне хотелось быть одной, плакать, чтобы мне никто не мешал. Хотелось тишины и покоя. Но меня окружали ровесники, веселые подростки. В палате было двенадцать коек, двенадцать девочек. Им предстояло познакомиться со мной, а мне с ними. Они разговаривали, смеялись, о чём-то перешёптывались. Новый человек в любом коллективе вызывает особый интерес. Ко мне стали подходить, интересоваться – откуда я, что болит. Желания общаться у меня не было никакого. Всё заглушала невыносимая боль. Безразличие ко всем и ко всему заполнило мою жизнь. Хотелось только одного: чтобы никого не было поблизости, чтобы никто меня не трогал, не задавал никаких вопросов, не раздражал любопытством. Постоянная невыносимая боль сделала меня нелюдимой и одинокой.
Через несколько дней, после всевозможных анализов и обследований я была «закована» в гипс. От самых подмышек до кончиков пальцев обеих ног был наложен тяжелый, толстый гипсовый «панцирь». Между ногами вбинтована палка на уровне коленей или чуть ниже. Получилось подобие буквы «А» и называлось это распоркой. Теперь я совершенно не могу шевелиться. На «свободе» остались только руки и голова. В мокром гипсе очень холодно, пробирает дрожь. Со всех сторон кровать обставляют лампами-рефлекторами, чтобы гипс побыстрее высох. Вспомнился мой первый санаторий раннего детства. Подумалось: все повторяется. Неужели вся моя жизнь будет идти по кругу страданий, боли и слёз?
Но время идёт своим чередом. В детском санатории все должны учиться. В санатории «Кирицы» дети лечатся с первого по десятый классы. Меня записывают в седьмой, поскольку я заболела, не закончив его. Учителя приходят после нашего завтрака, надевают белые халаты. Мальчишек нашего же класса на кроватях свозят в палату девочек, то есть нашу, и начинаются занятия. Ходячих мало, они умещаются за одним столом. В основном у всех строгий постельный режим, правда, некоторым разрешалось сидеть. Но в таком тяжёлом состоянии как я не было больше никого.
У каждого из лежачих фанерки. На них мы кладём тетради и, придерживая их левой рукой, пишем. Ходячих вызывают к доске, которая висит в нашей палате. Мне не разрешалось поднимать голову, и я не видела, что пишут ходячие. Могла только слушать. Кровать мою всегда ставили рядом с дверью, чтобы на перемене медсестра могла подойти и сделать укол. Целыми горстями пью таблетки, очень сильные противотуберкулёзные препараты. И хотя боль не отпускает, я замечаю, что стало немного легче переносить ее. Появилось много отвлекающих факторов. Днем – уроки. После тихого часа нужно делать домашнее задание. Девочки не дают уйти в себя. Все относятся ко мне хорошо. Многие из них стали для меня настоящими подругами. Ребята у нас лежали со всех концов Советского Союза: от Находки до Прибалтики. Санаторий имел статус Республиканского, поэтому дети многих Союзных Республик проходили лечение в Кирицах.
Наконец-то закончился учебный год. На летние каникулы всех детей, начиная с первого, по десятые классы переводят из здания на воздух в парк. В парке построены десять открытых павильонов для каждого класса. Павильон имеет две боковые стены и крышу. Обе продольные стороны открыты. Только у одной, где стоят наши кровати, имеется тяжелый брезентовый тент на случай дождя или сильного ветра. Все три летних месяца мы на открытом воздухе. Организм постепенно привыкает к сквознякам, холодным ночам, мы закаливаемся.
В парке очень красиво. Дорожки асфальтовые, наши кровати на колесиках хорошо едут. Ходячие катают на кроватях тех, кто лежит. Повсюду цветы: розы, каллы, петуния, львиный зев, георгины.
Между деревьев – гипсовые скульптуры. Теперь я со стороны могу рассмотреть наше здание. Стараюсь подробнее расспросить у взрослых о его истории. Узнаю, что барон Сергей Павлович фон Дервиз выкупил у мелкого стекольного заводчика земли. Он был из соседнего поместья Старожилово. Барон знакомится со знаменитым архитектором Фёдором Шехтелем и договаривается с ним о постройке дворца. В конце 19-го века у деревеньки Кирицы вырастает романтический замок. По затейливости это один из ярчайших примеров подобных построек в России. Здесь всё связано с ландшафтом. Барон хотел видеть настоящий рыцарский замок. Архитектор постарался угодить заказчику. Огромный парк украшали скульптуры из древнегреческой мифологии. (После революции они были утеряны). Красивые гроты, каскад лестниц, беседки – всё было подчинено романтической теме. Сохранилась беседка на одной из террас. На её куполе подняли головы каменные рыбы в металлической чешуе. Внимание привлекает угловой балкон дворца. Его держит огромный орёл на распростёртых крыльях. Недалеко от замка в овраге построен арочный мост. А на границе бывшего владения сохранились готические ворота. Много позднее, когда начну ходить, я увижу всю эту красоту сама. Девочки будут брать меня на экскурсию по территории.
Специалисты утверждают, что замок спасло от разрушения то, что он был отдан в 30-е годы под детский санаторий. Каменная сказка была подарена детям – будущему страны. Несмотря на тяжёлое хроническое заболевание, многие сотни детей, которых санаторий поднял на ноги, стали настоящими людьми. Он дал образование будущим врачам, профессорам, астрономам (с одним из них я переписывалась), учителям, рабочим. Нас не только лечили, но и воспитывали, учили жить и правильно общаться друг с другом, то есть, прививали правила поведения в обществе. Советское правительство заботилось о здоровье людей, отдавая под лечебные учреждения лучшие дворцы. Ведь лечат не только лекарства, но и красота, окружающая больных. Несколько тяжёлых лет пришлось провести мне в прекрасном месте, которое действительно помогало отвлекаться от страданий. Но настоящее богатство всё-таки составляли взрослые, окружающие нас.
Вечерами, когда стемнеет, наши кровати свозят к натянутому между деревьев белому полотну, и мы смотрим кино. Вообще, жизнь с наступлением каникул не останавливается. Воспитатели не оставляют нас наедине с болезнью ни на минуту. Летние дни полностью направлены на закаливание. Поэтому после завтрака мы принимаем воздушные ванны. Открытое солнце противопоказано, и нас вывозят под тень деревьев, где рассеянный свет, убирают одеяла. Но на мне ещё одно – гипс. Мне надоел этот толстый панцирь. Под ним очень чешется немытое тело. Я линейкой скребу под гипсом, где она достаёт, но она очень короткая. Тогда начинаю стучать по нему, надеясь, что хоть так успокою себя.
Но всё равно я наслаждаюсь тёплым воздухом, который ласково обдувает моё лицо и руки. Кровати девочек стоят на одной половине павильона, а кровати мальчиков на другой. После воздушных ванн – второй завтрак. Больным туберкулёзом положено усиленное питание. Кормят нас шесть раз в день, как и в туберкулёзном санатории Владимира. На завтрак, например, каша, картошка с сарделькой и два яйца. То есть целых три блюда. Затем второй завтрак из печенья или плюшки, и молока. Обед из трех или четырех блюд. Затем полдник. Ужин не менее обильный и всегда с мясом или рыбой, а перед сном обязательно кефир с булкой. Это были шестидесятые годы, когда в обычной жизни, говорят, невозможно было купить печенье ребенку, а белый хлеб был дефицитом. Но мы этого не знали и не ощущали на себе. Нам часто давали черную и красную икру. Ананасы я впервые попробовала тоже в санатории. Они мне не понравились, и я их отдавала. Круглый год у нас были свежие овощи и фрукты. Витамины, сироп шиповника постоянно стояли у каждого на тумбочке. Однажды на ужин нам дали пирожки с мясом. Мальчишки стали кидаться ими друг в друга. И мы увидели, как заплакала наша няня Полина. «Вы неблагодарные, – говорила она. Не знаете, что наши дети уже давно не видят белого хлеба, а вы играете в него словно в мяч». И воспитатель с сестрами стали рассказывать нам, что делается за стенами санатория. Мы жили в замкнутом пространстве, словно в монастыре. Не знали, как и чем живут наши семьи далеко от нас. Думали, что в стране так же сытно, как в санатории. Оказалось, назревает что-то непонятное. Нас лечили, учили, кормили, ухаживали за нами, развлекали, а мы не задумывались о серьезном. Это были последние месяцы правления Н.С. Хрущева. Воспитатели рассказывают о политике в стране, а мы не можем представить, как будем жить в том, непривычном для нас мире взрослых, где всё так сложно.
А пока мы наслаждаемся бездельем: занимаемся своими делами. Я, как и раньше, много читаю. Кто-то играет в шахматы, шашки. Кто-то гуляет по парку. Некоторые рисуют модели платьев, мечтают стать модельерами. В общем, каждый занят своим любимым делом.
Поскольку санаторий наш был всесоюзного значения, к нам часто приезжали делегации иностранных студентов. Доктора показывали условия, в которых живут и лечатся тяжёлые больные, рассказывали о методах лечения. А они ходили по парку, удивлялись окружающей красоте, махали нам руками, улыбались и о чём-то тихо переговаривались.
В те годы было повальное увлечение переписываться с иностранными детьми. В «Пионерской правде» печатались адреса детей из разных стран. Мы выбирали ребят по общим интересам и писали о своей жизни. Я переписывалась с девочкой из Венгрии. В социалистических странах изучали русский язык, и нам было легко общаться. Она писала, что отец её пограничник, а мать ткачиха. Ева (так звали девочку), любила петь, и была участницей большого детского хора. Однажды она пригласила меня в гости. Я написала, что лечусь в санатории и не могу воспользоваться приглашением. Собрала небольшую бандероль с немудрёными украшениями, игрушками, которые попросила купить воспитателей. Деньги мне высылали родители на мелкие расходы. Она написала, что ей очень понравились колечки. И не могла понять, почему я так долго нахожусь в санатории. Ведь все знают, что больше трёх недель в санатории не лежат. Я, как могла, объясняла, конечно, не уточняя свой диагноз. Одна девочка писала мальчику из Китая. Он прислал ей книгу в тонком переплёте. Тогда мы впервые увидели книги, оклеенные блестящей плёнкой, какие стали издавать у нас много позднее. Прислал ей разные тканые флажки с изображением Мао Цзэдуна. Нас поразило двухстороннее изображение китайского вождя на толстых шёлковых тканях. Вскоре их переписка резко прервалась. Стали портиться отношения с большим соседом. Увлечения наши не отличались от интересов здоровых детей. Только мы были ограничены болезнью в свободе. Не могли пойти или поехать куда хотим, физически не могли заниматься, чем хотим.
С началом учебного года нас снова перевели в здание. За летние месяцы палаты отремонтировали, обновили. Повеселел Голубой зал. У малышей на первом этаже был Зеленый зал, а у старших, на втором этаже – голубой. Стены зала были расписаны на темы покорения Северного полюса. Преобладали бело-голубые тона снега и моря в росписи, поэтому его и называли – Голубой зал. Стены Зелёного зала были расписаны на темы джунглей, где преобладал зелёный цвет. На столике в зале стояла радиола со стопкой пластинок. Здесь же нам показывали кино. Кровати свозили рядами вплотную друг к другу, чтобы уместились все.
Как же, наверное, уставали наши няни и сестры, по несколько раз в день перевозя нас то на уроки, то в кино, то на веранду. Веранда была большая с пандусом, выходящим в парк. Обе стороны пандуса украшали рогатые олени. На ночь нас вывозили на воздух. На голову надевали теплые шапки, сверху покрывали ватными «конвертами» и так мы засыпали под темными небесами, украшенными яркими звездами. Когда шёл снег, мне нравилось смотреть на порхающие снежинки и чувствовать, как они тают на моём лице. Просыпались мы уже в палате, не заметив, как нас перевозили назад.
Я стала замечать, что Слава Ходоренко из нашего класса всегда просил сестер поставить мою кровать рядом с ним. Он у нас самый умный, отличник. Его уважают все. Он белорус, говорит со своеобразным акцентом. Я хочу стоять рядом с подругами. С Олей из Кемерова у нас общая тема разговора – астрономия. Мы фантазируем о жизни на других планетах. Она не читает фантастику, но любит слушать о том, что прочитала я. Рассказываю ей о гипотезах Александра Казанцева. Перед этим я прочла его книгу «Гости из космоса» и теперь она ждёт чего-то нового о пришельцах. Но меня не слушают, ставят мою кровать рядом со Славой. Тогда я просто отворачиваюсь и не хочу с ним разговаривать: но каждую минуту слышу у своего уха «Галя! Галя!». «Что ты молчишь?» «Ты обиделась, да?». Со злом отвечаю: «Больше никогда не проси ставить нас рядом!» У меня к нему кроме уважения ничего нет. И, когда начинают надоедать своим вниманием, меня это отталкивает. Девчонки ругают меня: «Ведь он помогает одной тебе по математике, шпаргалки кидает на кровать во время контрольной.» На что я отвечаю: «Теперь буду лучше двойки получать, чем пользоваться его помощью. Я не прошу его об этом».
Прошло несколько месяцев. Наконец решено было снимать мой холодный «панцирь». Под гипсом образовалась корка из омертвевшей кожи, болячек, которые я расчесывала линейкой. Няни вздохнули с облегчением. Теперь им было легче справляться со мной. Пришло время отмывать многомесячную грязь, накопленную под гипсом. Обострение процесса в тазобедренном и коленном суставах было снято. Мне стало полегче, хотя паралич не отпускал. Не отпускала и приступообразная боль от позвоночника в правую ногу. Несколько раз приезжали профессора из Москвы и Ленинграда на консилиумы. Меня каждый раз показывали им. Все чаще стало звучать слово «операция». Но решили испробовать все средства того времени. Мой лечащий врач Вениамин Яковлевич Кузнецов сделал мне глубокую новокаиновую блокаду. После нее мне стало так плохо, что думала – умру. Оказалось, что я не переношу новокаин. После курса лечения одного из новых препаратов я так поправилась, что на руках образовались перетяжки: это попробовали лечение гормонами. В общем, мы продолжали лечиться и учиться. Самыми лучшими друзьями для меня были книги. Они не задавали вопросов, не лезли в душу, не надоедали. Но помогали забыться, помогали отвлечься от тяжёлых мыслей, боли. За чтением я не замечала, как летит время. Перемещалась в другие эпохи, далёкие земли, училась терпению и мужеству героев, о которых читала. Заинтересовалась астрономией. В восьмом классе я изучила учебник астрономии самостоятельно, и мне учитель физики приносил из дома дополнительную литературу, журнал «Земля и Вселенная», книги о рождении и смерти звёзд, о созвездиях и планетах. Поручала готовить доклады, что я делала с удовольствием. У нас были все уроки, кроме физкультуры и черчения. Да и как можно чертить одной рукой, если другой держишь фанерку с тетрадью. Был даже труд. Для лежачих девочек были сделаны специальные столики, в которых имелись углубления для швейных машинок. Столики эти ставили на кровать, на уровне груди. И мы шили лежа. Музыкальные занятия проводили Олимпиада Прокопьевна (фамилию я, к сожалению, забыла) и баянист дядя Миша. Олимпиада Прокопьевна имела высшее музыкальное образование, окончив Московскую консерваторию. Она старалась привить нам вкус к серьезной музыке. А дядя Миша был виртуозом своего дела. Как он мастерски играл на баяне «Полет шмеля!» Мы часто просили его сыграть «Полонез Агинского», «Лунную сонату» Бетховена и многое другое. К каждому празднику они готовили с нами концерты. Вы видели когда-нибудь танец лежачих больных детей? А мы танцевали. В движении были только руки. Но руки эти заменяли нам ноги, и мы старались каждым пальчиком выразить музыкальную мысль. Например, танец с гирляндами. Кровати в голубом зале стояли ровными рядами. Каждому ряду давали гирлянду в руки и под медленную лирическую мелодию мы делали определенные движения гирляндой то вверх, то вниз, в стороны, волнообразные движения. Зрители сидели на сцене. То есть, в нашей жизни все было наоборот: артисты находились в зале, а зрители на сцене, поскольку на сцену кровати не поднимешь. Сверху им было хорошо видно нас, «артистов». Самым любимым танцем у нас была «Лезгинка». На голову девчонкам надевали кавказские украшения. Поверх белой блузки надевались черные безрукавки на шнуровках. Мне, конечно, не надевали, а просто накидывали сверху и заправляли под бока. В руках у нас было по два кинжала, сделанные из картона и обернутые фольгой. Костюмы были только до пояса. Нарядные покрывала поверх обычных одеял натягивались так, чтобы не было ни единой морщинки.
Когда звучала музыка, кинжалы двигались в руках все быстрее и быстрее. Они то пересекались в воздухе, то расходились, то замирали, то выписывали невообразимые движения, и оставалось только ногами пуститься в пляс. Когда санаторий отмечал свое двадцатипятилетние и со всех концов Советского Союза съехались доктора, мы выступали перед ними с таким концертом. Сначала пели. Голоса у наших ребят были замечательные. И не важно, что мы были прикованы к больничным койкам. Таланты у детей остались здоровыми. И если мы не могли двигаться, то оставалось развивать голоса и руки. Сначала прошёл танец с зонтиками, затем с гирляндами. Началась «Лезгинка». Кинжалы в наших руках мелькали словно настоящие. Один солидный врач с Дальнего Востока не выдержал, выбежал на середину сцены и стал плясать в такт кавказской мелодии. Зрители вытирали слезы, произносили много благодарных слов. Говорили, что такого они еще не видели, чтобы тяжелобольные дети могли танцевать, руками выражать музыкальную тему. Фотографировали наш концерт.
Конечно, такие общественные мероприятия отвлекали нас от болезни, не давали уйти в себя, замкнуться на тяжёлых мыслях. Помню, как вначале не хотела участвовать ни в каких школьных делах. Казалось, что это не вяжется с больницей. Да и как петь или танцевать, если физическая боль не отпускает ни на минуту, если мысль направлена только на одно: сколько ещё терпеть такие муки! Но доктора, воспитатели и педагоги нашли прекрасный способ, как помочь детям бороться с недугом активной жизнью. У нас часто проходили разные литературные викторины, конкурсы. А концерты мы готовили для персонала санатория к каждому празднику.
К большим праздникам нам давали сладкие подарки. Не только к Новому году, но и к Первому мая, Седьмому ноября. Все делалось для детей, для их комфортной в больничных условиях жизни, для их выздоровления. Только сейчас я понимаю, что вот так и должны лечиться дети, годами ограниченные в движениях, оторванные от родного дома. Но больше такого, видимо, не будет. Сейчас все построено на деньгах. А тогда это была сказка. Реальная сказка социализма. Я была в этой сказке, жила в ней, хотя и с болью, слезами, страданиями. Пока с болью.
Вениамин Яковлевич Кузнецов, лечащий врач, был для нас идеалом доктора. Мы его очень любили и между собой называли «папа Веня» или «Витамин». Это был солидный мужчина с добрыми глазами, не очень разговорчивый, но понимающий душу ребёнка. Никогда не повышал голоса на кого бы то ни было. После двух лет лечения в санатории стало ясно, что без операции мне не обойтись, чувствительность к ногам не возвращалась, паралич не отпускал. Всё чаще стала слышать слово – «операция». Меня стали к ней готовить. Папа Веня подолгу разговаривал со мной, успокаивал все возрастающий во мне страх. Операции в то время делали не так часто. Медицинским заведением, курирующим наш санаторий, был Институт хирургического туберкулеза в Ленинграде (ЛИХТ). Специалисты данного института, а также из Москвы приезжали в Кирицы для консультаций, консилиумов. На одном из них решено было, что только операция сможет вернуть моим ногам чувствительность, жизнь. Причина болей была в том, что спинной мозг у меня был сдавлен разрушенными туберкулезом позвонками на уровне верхнего грудного отдела. Все возможные методы, примененные ко мне, не помогли. Осталось последнее – скальпель. В один из зимних дней я была прооперирована. Проснулась в послеоперационной палате поздним вечером. Лежала на животе без подушки. Очень болело горло от трубки. Издалека услышала голос Вениамина Яковлевича, который повторял: «Галя, просыпайся». Я с трудом приоткрыла один глаз и попросила, чтобы он взял меня за руку. Он погладил меня и сказал: «Ну-ка попробуй пошевелить пальцами правой ноги» Я еще плохо соображала после наркоза, но увидела, как он широко улыбнулся. «Папа Веня, пальцы шевелятся?» – спросила я. «Скоро танцевать будем», – довольно проговорил он. Мне была сделана фиксация позвоночника, то есть кусочек моего ребра поставили между сдавливающими спинной мозг позвонками, освободили его. Теперь нужно было ждать, когда мой трансплантат вживется в непривычное для него место.
Четыре месяца, тягостных для меня, я лежала только на животе. Нельзя было поворачиваться на бок, и вообще менять позу. Даже повернуть голову вначале не было сил, помогала сестричка. Самым неудобным в моем положении были туалетные процедуры, ведь всё делалось лёжа на животе. Но все терпение мое искупалось тем, что страшные приступы боли прошли, и я наконец-то после долгих лет стала чувствовать мою бедную ногу. Какое счастье было шевелить пальцами, ощущать, что она жива! Но суставы после долгого пребывания в гипсе перестали гнуться. Предстояла очень болезненная разработка коленных суставов, от которой искры сыпались из глаз от боли и слезы текли сами собой. Но все это было уже не так страшно. Главное – паралич оставил меня. Я больше не страдала от болей, годами изнуряющих моё тело, мозг и душу мою.
Через четыре месяца меня перевернули на спину. Боже! Вся палата стала кувыркаться, меня стошнило. Теперь нужно было привыкать к новому положению – лежать на спине. Но уже без гипса, гипсовых кроваток, без боли. Я была на седьмом небе от счастья! Девочки в палате помогали мне догонять учебные темы, от которых я отстала в послеоперационный период. Учебный год продолжался. Мы учились уже в девятом классе. «Кирицы» стали для меня домом, школой, больницей, дружным коллективом. Люся Погудина из Томской области, я знаю, что у тебя сейчас трое детей, есть внуки. Катя Мохнаткина, как ты живешь на родной Камчатке? Люба Семиделова из Казахстана, как твои дела? А у тебя, Володя Лобанов, все ли хорошо на дальнем Владивостоке? Танечка Рузайкина и Оля Корнюшова, у вас все ли благополучно? Вы из Кемеровской области, рядом друг с другом, наверное, встречаетесь? Слава Ходоренко – ты у нас был самым умным, закончил Минский университет. А сейчас как живешь? Аркадий Ким, помнишь, как мы наперебой занимали очередь за фантастикой?
Из девочек я одна увлекалась чтением научно-фантастической литературы. Мальчишки, зная это, оставляли мне вновь поступившие книги в санаторскую библиотеку. Иван Ефремов, Александр Беляев, Артур Кларк, Айзек Азимов, Александр Казанцев, Герберт Уэллс, Станислав Лем, братья Стругацские – фамилии этих писателей я помню с тех самых школьных лет. Перечитала всё, что было в библиотеке санатория. В определённые дни недели библиотекарь разносила книги по палатам и по нашим заявкам. В годы полёта космонавтов поднялся интерес к астрономии, вопросам полёта к планетам солнечной системы и в дальний Космос. Я мечтала о встрече с инопланетянами, которые научат человечество новым технологиям, скоростным полётам к дальним галактикам. Верила, что всё должно случиться при нашей жизни. Фантазировать я любила и умела. А пока с увлечением «глотала» книги на эти темы.
Завучем у нас работала Елена Александровна Деллавос. Семья ее была из старых аристократов. Она знала кроме русского еще четыре иностранных языка и одна преподавала их нам: немецкий, английский, французский и испанский. Речь ее и манеры были изысканны, интеллигентны. Она учила нас нормам этики и морали, была строга и великодушна. Елена Александровна жила одна, а потому всё своё время отдавала детям. Почти все вечера проводила с нами. На какие только темы мы не разговаривали! Человек высокой культуры, она прививала её и нам. Много лет мы с ней переписывались после моего выздоровления. Она поздно ушла на пенсию, переехала в Москву к престарелой сестре. Потом переписка резко оборвалась. И я поняла, что случилось то, что случится с каждым из нас в свое время.
Очень запомнился мне наш учитель математики. Радин Сергей Иванович. Он носил звание «заслуженный учитель России». Хоть я и не дружила с математикой, его ждала с нетерпением. На урок в палату учитель приходил с гитарой. Объяснив тему, чувствовал нашу усталость или то, что мы начинаем отвлекаться. Брал гитару и пел романсы. Дав небольшую передышку, продолжал урок. Рядом с моей стояла кровать Вали Киселевой. Автором учебника математики был тоже Киселёв. Валя, как и я, не знала и не любила этот предмет. Когда Сергей Иванович говорил: «Берите Киселева» – имея в виду учебник, Валя, слыша свою фамилию, вздрагивала всем телом и глубже залезала под одеяло. Перед контрольными она подговаривала меня попросить помощь у Славы Ходоренко. «Он больше никому не помогает», – говорила она. Я наотрез отказывалась. Но Слава сам решал мой вариант, бросал на мою кровать шпаргалку, а потом брался за свой. Валя хватала спасительную бумажку и быстро списывала решение.
У Славы тоже были парализованы ноги. Ему делали операцию, как и мне, но она не помогла. Выписался он на коляске. Не у всех операции проходили удачно и не всех они ставили на ноги. Мне повезло. Наконец, через шесть месяцев после операции меня впервые за много лет поставили в вертикальное положение. Перед глазами всё поплыло. Медсёстры держали меня с двух сторон, а я боялась открыть глаза – палата сразу начинала переворачиваться. В первый день стояла одну минуту, потом две. Так каждый день, прибавляя немного во времени. Я заново училась ходить на костылях. Когда лежала, меня часто мучил вопрос – как нужно повернуть в сторону, если идешь прямо? Как правильно ставить ногу? Внимательно присматривалась к походкам взрослых, училась теории ходьбы. Мышцы за долгие годы совсем ослабли, атрофировались. Кожа висела тряпкой на ногах. Я придумала себе упражнение для укрепления мышц. Держась руками за изголовье кровати, вставала на цыпочки, опускалась на стопу и так повторяла и повторяла до изнеможения. Постепенно ноги перестали быть тонкими палками, обретали нужную форму, округлялись мышцы. Очень страшно было ходить на костылях по лестнице, особенно спускаться вниз. Я боялась упасть и сломать всю операцию. Но девочки страховали меня и учили правильно ставить ноги на ступеньки. Это здоровые не замечают элементарных вещей, все движения выполняют автоматически, не задумываясь над тем, что больному, к примеру, небольшая ямка на дороге является препятствием для движения. Или элементарное принятие ванны составляет большого труда.
Постепенно научилась сама спускаться и подниматься по лестнице. Забылась многолетняя боль. Я становилась такой, какой была до паралича. Молодость брала своё. Вновь вспомнила, что такое смех, шутки, песни. С девочками выходили в парк, гуляли, пели песни под гитару. Вся та жизнь у меня осталась на фотографиях. Вот мы лежачие смотрим кино, вот я учу уроки, а это меня катают ходячие по парку. Потом я уже хожу сама, а это мои дорогие подруги, с кем пришлось провести долгие месяцы.
С наступлением тепла нас вновь перевели в парковые павильоны, на воздух. Мы заканчиваем десятый класс. Многие девочки выписались и уже из дома пишут письма. После экзаменов учителя устроили нам выпускной вечер со сладостями и лимонадом. Теперь выписываться нужно всем. Кто нуждается в продолжении лечения, того переводят во взрослый санаторий. За каждым из нас приезжает кто-то из родственников. Расстаёмся со слезами, фотографируемся на память. Раньше всех приехали за Катей Мохнаткиной с Камчатки. Девочки говорят: «Скоро, Тарасик, приедут за тобой». Так меня звали по моей фамилии Тарасова. Мама написала мне, что сама пока не сможет приехать. Приедет дядя, ее брат из Подмосковья. А она потом заберет меня. К тому времени я уже довольно хорошо научилась ходить без костылей.
Дядя приехал днем. Я не знала его в лицо, да и он видел меня в последний раз, когда мы переезжали в Сибирь. С тех пор прошло более десяти лет. Он вошёл в павильон, и я интуитивно поняла, что приехали за мной. Дядя молча всматривался в лица девочек, видимо, стараясь вспомнить меня. Мне стало интересно, узнает ли он свою племянницу, и я молча наблюдала за ним. Наконец он подошёл к моей подруге и сказал: «Здравствуй, Галя». От обиды у меня выступили слёзы. Так хотелось, чтобы меня признали своей родственницей, чтобы я была похожа на родню, а дядя Вася прошёл мимо, даже не остановив взгляда на мне. Девочки показали в мою сторону. Мы обнялись, и я стала собираться в большую жизнь. Провожали меня и одноклассники, и няни, и сестрички, доктора, и даже повара. «Такой тяжелой больной, – говорили они, – у нас ещё не было». Я до сих пор не забыла, как в послеоперационной палате, когда я ничего не ела, они готовили все по моему желанию: то куриный бульон, то беляши, то салат. Спасибо всем, всем, кто принимал участие в моей судьбе. Спасибо Евгению Ивановичу – рентгенологу, за ту осторожность, с какой он делал мне снимки, чтобы лишний раз не причинить боль, не шевелить меня. Особенно моему спасителю Вениамину Яковлевичу Кузнецову. На протяжении всей жизни я не забывала о нем и благодарила Господа, что послал мне такого доктора.
Когда-то, поступив сюда полуживой, я не верила, что здесь меня поставят на ноги. Хотелось только одного – избавиться от ужасной боли, отнимающей у меня все силы. И вот теперь я уезжаю домой на своих ногах, и даже без костылей. Слово «Кирицы» стало для меня родным. Оно созвучно со словом «Криницы» – колодец, родник. Это настоящий родник с живой водой, который возвращает к жизни обделенных здоровьем детей, таких, как я. И сейчас, случайно встречаясь с теми, кто когда-то проходил лечение в этом чудесном санатории, мы чувствуем себя родными людьми. Родными не только по несчастью, но и по тому ощущению силы духа, заложенного в нас докторами, учителями, воспитателями, который поддерживает нас на протяжении всей жизни.