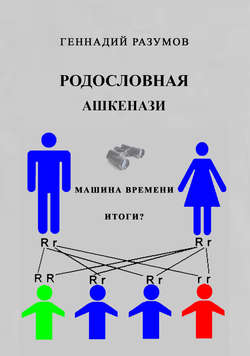Читать книгу Родословная ашкенази - Геннадий Александрович Разумов, Геннадий Разумов - Страница 6
Глава 1
Еврейская родословная
Судьба кантониста
ОглавлениеПрежде, чем ответить на этот вопрос, вспомним одну из наиболее трагических страниц истории русских евреев, которыми они сделались в результате поглощения Россией обширных мест их плотного проживания, происшедшего в результате очередного (3-го) раздела Польши.
После необъяснимой агрессивности по отношению к иудеям «просвещенной» императрицы Екатерины II следующий по очереди период их острого государственного преследования пришелся на реакционное правление Николая I («палкина»). Одним из наиболее подлых его акций, среди многих других, был указ 1827 года, устанавливавший непомерно большие нормы призыва евреев на военную службу. Они были в 3 раза выше, чем для православных – по десять рекрутов с каждой тысячи лиц мужского пола ежегодно, а не по семь и в два года, как для христиан.
Кроме того воинская повинность для евреев вводилась с 12-тилетнего возраста (для всех остальных – с 18). Но эта норма часто нарушалась, и в армию попадали «дети полка» 7-10 лет. Для их поимки формировались специальные команды так называемых «ловчиков» и «хапунов». Они разъезжали на подводах по еврейским местечкам, похищали на улицах и запихивали в мешки без разбора возраста всех попавших им под руку ребятишек.
Нередко кагалы черты оседлости, жалея детей, не поставляли требовавшееся властями число призывников, и тогда в качестве штрафа брались еще трое сверх нормы. Если кто-то из них сбегал, его ловили, секли шомполами, а с общины взимали еще двоих таких же малолеток.
Забирали в армию мальчиков-евреев и в счет денежных налоговых недоимков – по рекруту за каждые 2 тысячи рублей. Но это рассматривалось, как наказание, и если на следующий год налог полностью не уплачивался, то община снова должна была поставлять детей на тех же условиях.
Известно описание А.Герцена («Былое и Думы») его встречи с группой еврейских детей-рекрутов, которых гнали пешим строем в глубь России. Начальник, сопроваождавший команду, ему рассказывал:
«Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми-девятилетнего возраста… Я их принял верст за сто. Офицер, что сдавал, говорил: «беда и только, треть осталась на дороге (и офицер показал пальцем в землю). Половина не дойдет до назначения, – прибавил он -мрут, как мухи». Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал – бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати еще кое-как держались, но малютки восьми, десяти лет… Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст.
Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких толстых солдатских шинелях со стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо равнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без ухода, ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу».
Судьба еврейских мальчиков после прибытия в места их поселения была ужасна. Оторванные от родителей, отправленные в кантонистские гарнизоны Поволжья и Сибири, они становились жертвами муштры, истязаний, голода. Их насильно крестили, давали русские имена и фамилии, которые часто брались с потолка. Поэтому среди кантонистов было так много разных Сидоровых, Петровых, Ивановых.
Редко кто из этих так называемых «николаевских солдат» доживал до конца своего обязательного 25-тилетнего срока воинской службы.
Правилом их воспитания был аракчеевский наказ: «Из десятка девять убей, а десятого доставь». Согласно ему детей муштровали, зомбировали, приучали беспрекословно, не думая, подчиняться начальству. При этом плохо не по росту одевали в тяжелые солдатские шинели и кители, кормили впроголодь. Обычной едой были щи из лежалой полугнилой капусты и жидкая каша на воде. За один сворованный в столовке кусок хлеба давал 25 розг. Недаром кантонистские школы и батальоны называли в народе «жидодерами». Немного лучше жилось еврейским мальчикам, которые будучи собственностью военного ведомства, попадали в услужение к офицерам, хотя и становились фактически их крепостными.
* * *
Можно ли было избежать такой страшной участи, могли ли несчастные родители как-то спасти своих детей? Евреи, веками преследовавшиеся то немецкими крестоносцами, то польскими панами, не были бы евреями, если бы опустили руки и не пытались что-то придумать. Конечно, и в данном случае они искали и находили разные многотрудные обходные пути, тайные узкие лазейки.
Одной из них, хотя и мало доступной для многодетных еврейских семей, был пункт российского Государевого указа, освобождавший от воинской повинности мальчиков, бывших у родителей единственными детьми. Оставляя в семье хотя бы одного «кормильца», царская власть тем самым, по-видимому, стремилась показать просвещенной Европе свою «гуманность» и «заботливость» о поданных государства, даже таких презренных, какими считались евреи.
За эту не слишком хитрую зацепку и ухватился некий Пинхас Бельский, прадед которого когда-то перебрался из Правобережной Украины в российскую Малороссию, избежав таким образом гибели от нагаек и пуль зверски юдофобствовавших там украинских гайдамаков. Несмотря на традиционный государственный и бытовой антисемитизм на юге России во второй половине XIX века евреям жилось здесь тогда все же спокойнее.
А потому правнуку Пинхаса, прихожанину одесской ортодоксальной синагоги на Екатерининской, довелось настрогать со временем целую дюжину детей. Однако мужского пола среди них оказалось только двое – старший Шмая и младший Шимон. Для того, чтобы спасти их от военной рекрутчины, он обратился к жившему неподалеку на Марозлиевской улице одинокому бездетному купцу Розуму. За 50 рублей (золотыми) купил он у него фиктивное усыновление младшенького своего Шимона. Тем самым и второй сын Шмая, оставшись в семье единственным мальчиком, получил право на счастливое детство.
Вот так образовалась фамилия Розумов, первообладатель которого в 1891 году стал и хозяином одного из модных шляпных магазинов Одессы, расположенных на центральной улице города Ришельевской (Рис. 2).
Рис. 2. Ришельевская ул., Одесса, начало XX века.
А неподалеку в тот же благоприятный для бизнеса год возник и «Петроградский магазинъ обуви», к владельцу которого Мойше Бейну частенько стала вдруг захаживать его младшая сестрица Дора. Конечно, ее немного интересовали и лежавшие на прилавке образцы кожи, предназначенные для изготовления по выбору заказчиц женские сапожки с высокой шнуровкой. Но куда большее внимание ее привлекал щеголеватый юноша Давид Розумов, тоже посещавший соседский магазин и с неустанным вниманием подолгу разглядывавший рейторские ботфорты прусского фасона. Скромные переглядывания и робкие попытки заговорить друг с другом плавно переходили к прогулкам по одесским бульварам и провожаниям девушки домой в ее Успенский переулок. Вскоре Дора пригласила своего кавалера на свадьбу своего старшего брата Соломона, где их впервые увидели обе многочленные мишпухи.
А первый поцелуй случился на пероне вокзала, где приходилось делать вид прощающихся пассажиров у дверей вагона отходящего поезда. А где еще им можно было целоваться? В те пуританские времена делать это в подъездах домов и на уличных скамейках не считалось приличным.
Однако получить благословение от папаши Розумова Давиду не удавалось. Тот считал мезальянсом брак с дочерью бедного коммивояжера, каковым в отличие от своего брата обувного богача Мойши был дорин отец Лейзер Бейн. За мизерное вознаграждение он ездил по городам юга Российской империи, заключая торговые сделки и рекламируя продукцию текстильных, коже-дубильных и керамико-дельных фирм (о нем будет еще раз упомянуто при разговоре о родственниках, гл. 3).
Их союз состоялся лишь под звон колоколов льежской ратуши, где они зарегистрировали свой законный брак, одев друг другу на безымянные пальцы обручальные кольца. Нет, конечно, далеко не для этого уехали они из Одессы в Бельгию. Их манила учеба в университете, которая для окончившего реальное училище Давида из-за процентной нормы приема евреев была очень проблематичной, а для гимназистки Доры вообще недоступной.
А те первые годы нового XX-го века, начало бурного этапа индустриальной эпохи, знаменовались железнодорожным строительством, производством паровозов, бытовой техники. Повсюду гудели провода телеграфа, телефона, трамвайных линий, входили в обиход электроутюги и электромоторы. Для их конструирования, проектирования, изготовления нужна была техническая интеллигенция. Одной из ее кузней оказался, в частности, и королевский политехнический университет в Льеже, основанный на базе шахтных разработок угольных месторождений бельгийского Крокиля.
Там мои бабушка и дедушка получили дипломы высшего образования, став специалистами «слаботочниками», то-есть, занимавшимися электроприборами телефонной и телеграфной связи. А госпожа Дора Розумова-Бейн по сообщению «Одесских новостей» от 21 октября 1911 года (Рис. 3) была первой женщиной инженером на юге России (позже уточнилось – и во всей Российской империи).
Отгуляв запоздалую еврейскую свадьбу-хупу и получив, как люди с высшим образованием, «Вид на жительство», молодые отправились в столицу, вскоре ставишую Петроградом, а в 1929 году перебрались в Москву. Впрочем, обо всех этих событиях и дальнейшей судьбе моих grandparents мы еще поговорим в следующей главе.