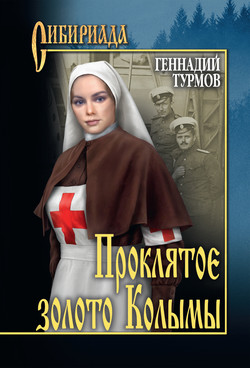Читать книгу Прóклятое золото Колымы - Геннадий Турмов - Страница 6
Прóклятое золото Колымы
Колыма
ОглавлениеБудь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой.
Сойдёшь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету.
Аркадий Северный (по одной из версий)
На Колыме, как ни странно, не было советской власти, она была закрытой территорией, а официально советская власть там была установлена только в 1953 году, после смерти Сталина.
На этой огромной территории хозяйствовали Дальстрой и ГУЛАГ, подчинённые напрямую Управлению Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей (УСВИТЛ).
Вообще основание Колымы начинается с 1931–1932 годов. Первые экспедиции геологов и их изыскания показали, что в недрах зарыты большие запасы редких металлов и, конечно, золота.
Поэтому на Колыму доставлялись заключённые со всех концов страны. А заключённых в СССР всегда хватало.
О Колыме и Дальстрое в последние годы написано и издано множество книг: художественных произведений, мемуаров, лучше которых, наверное, не напишешь.
Тем не менее можно сослаться на размещённые в Интернете воспоминания Ю. Шапиро, который после окончания медицинского института добился распределения на работу в Магаданскую область, где находились в ссылке его родители.
«Начальник Дальстроя является заместителем министра внутренних дел СССР. За всю историю Дальстроя на этой должности сменились четыре человека: Берзин, бывший командир латышских стрелков, Павлов, прославившийся неслыханной жестокостью и покончивший жизнь самоубийством после ХХ съезда партии, генерал-лейтенант Никишов и Митраков, при котором Дальстрой был расформирован…[20]
Старожилы Колымы рассказывали, что заключённых привозили в тайгу, где они сами строили зону для себя и жильё для охраны, после чего начиналась их эксплуатация, невиданная даже в условиях рабовладельческого общества. Скудное питание, нормы выработки, превышающие человеческие возможности, ужасающий колымский климат, жестокость режима, цинга, которой болело подавляющее большинство заключённых, быстро делали своё дело. Но недостатка в рабочей силе не было. Один за другим колымский флот – приспособленные для перевозки в трюмах зэков пароходы «Феликс Дзержинский» и «Джурма»[21] – в период навигации привозили десятки тысяч людей…»
Основными задачами Дальстроя являлись: получение максимального количества золота, разведка и добыча других стратегических полезных ископаемых. На Колыме их было огромное количество.
Евгения Богданова определили на прииск «Штурмовой» недалеко от посёлка Хатыннах, от которого он получил своё название.
Стандартные, наспех сколоченные бараки для заключённых, колючая проволока в несколько рядов, вышки с часовыми…
По утрам кайлом по куску рельса возвещали о начале трудового дня. Колонны заключённых пешком направлялись к золотоносным полигонам, расположенным за несколько километров от лагеря. Стандартным, как и бараки, был и набор орудий труда: тачка, лом, кайло, лопата, лоток для промывки золота…
В воспоминаниях бывших узников ГУЛАГа описываются нечеловеческие условия эксплуатации заключённых.
Один из них писал:
«…Вся площадь под забой окаймлена трапами, окованными полосовым железом. Трапы парные: холостые и грузовые – катят тачки гружёные, а обратно пустыми. Всё втягивается в конвейер.
Никакой возможности остановиться для отдыха не было. Только через полтора часа сигнал на пятиминутный перекур. Рабочий день – двенадцать часов. Обеденный перерыв – час. Обед в забое. В августе рабочий день был четырнадцатичасовым. Некоторое облегчение наступало к концу сезона, когда высота талого слоя увеличивалась и мощность забоя позволяла работать больше лопатой, а не ломами и кайлом. Откатчик и забойщик менялись в обед. Начиная рабочий день, забойщик должен был на границе начала забоя оставить «тумбочку» для замера и определения объёма вывезенной горной массы. По результатам сделанного выдавалось хлебное довольствие. Нормировщик неоднократно наведывается в забой и определяет категорию и класс грунта – объявляет норму на рабочую смену. Если забой мокрый, в конце дня звено получает 50 граммов спирта. Для этого на участке был специальный человек – «спиртоносец»…
Нет у человека такого органа, на который бы не воздействовала с предельной нагрузкой гружёная тачка. В ногах тяжесть сжатия, в руках – растяжение. Шейные мышцы напряжены, зрение сосредоточенно на узкой полоске трапа, позвоночник испытывает вибрацию. Этим и каторжными тачками колымские заключённые перевезли миллиарды кубических метров горной массы во имя укрепления валютного могущества Родины, получая за это баланду, хлеб и незаслуженные проклятия…
Забойщик самостоятельно не мог выкатить тачку к бункеру. Была специальная подмога – крючковые, которые на подходе подцепляли тачку железным крючком и помогали затащить её на эстакаду.
Не менее напряжённо было и на промывке. Промывочная колода длиной в 26–30 метров то и дело забивалась – из-за недостатка воды, мёрзлых кусков породы. Любая задержка оборачивалась бедой – квалифицировалась как вредительство. Напряжённый ритм изматывал до такой степени, что после смены люди едва добирались до лагеря. В бараке некоторые, не дождавшись вечерней баланды, засыпали, будили их только на поверку. Утро забойщика начиналось трудно и мучительно. Пальцы за ночь деревенели – ни согнуть, ни разогнуть. Все мышцы тела теряют подвижность, молодые парни становятся отрешёнными, поникшими. Задолго до конца сезона здесь все становятся стариками. Мало кто дотягивал до сезона. Ещё труднее было тем, кто попадал в забой с «материка», сразу после тюрьмы!
Резкая перемена приводила гораздо быстрее к трагическому исходу. На Колыму лучше прибывать зимой – есть время для адаптации. А так: десять – пятнадцать дней – и «доходяга». Особенно страдали пожилые и представители интеллигенции»[22].
Рождённый в неволе, вместо «исправительно-трудовые лагеря» вариант «истребительно-трудовые лагеря» более точно отражал существующие порядки на Колыме.
Евгений прибыл на Колыму летом и к концу сезона дошёл до полного истощения. Он впервые увидел, как добывают золото, а благодаря своей инженерной хватке получил необходимые знания, спасшие его от неминуемой гибели. Проблемой для приисков была зимняя промывка, когда резко снижалось количество добываемого золота. Евгений таскал тачки, прорабатывал в уме, что можно сделать для увеличения результатов промывки золотого песка.
На следующий день, толкая перед собой тачку, впервые подумал, что зиму он уже не переживёт. Возвратившись после двенадцатичасовой смены, Евгений увидел в бараке развешенные объявления, которые обещали больше поблажки тем, кто предложит новый способ получения золота в зимних условиях.
На следующее утро Евгений катил тачку, еле передвигая ноги.
Мимо него прошла группа военных во главе с начальником Северного управления НКВД Дальстроя Сперанским. Зэки рассказывали, что он входил в состав особой тройки НКВД и отличался особой жестокостью.
«Если не сейчас, то никогда», – пронеслось в голове у Евгения. Он бросил тачку и побежал к Сперанскому. Ему казалось, что он бежит, на самом деле он ковылял, едва передвигая ноги. Увидев направляющегося к нему заключённого, Сперанский остановился. Остановилась и вся группа. Конвоир, сопровождающий группу военных, клацнул затвором, досылая патрон в патронник.
Лёгким движением руки Сперанский остановил его. Запыхавшийся Евгений сдёрнул шапку, назвался: зэка, номер такой-то, добавил к номеру цифру 58 – статью, по которой был осуждён.
– Чего тебе? – спросил Сперанский, брезгливо оглядывая фигуру Богданова. Тот стоял перед военным в замызганной и залатанной телогрейке с грязным вафельным полотенцем на шее вместо шарфа, с коростой герпеса на губах.
– Гражданин начальник! У меня есть предложение по усовершенствованию промывки.
Сперанский[23] ещё раз переспросил фамилию и сказал:
– Иди работай. Тебя вызовут…
Утром нарядчик оставил Богданова в бараке. Через некоторое время его вызвали «с вещами», если таковыми считать узелок, посадили в полуторку вместе с конвоиром, вооружённым винтовкой, и повезли в районный центр Хатыннах, где посадили в одиночку следственного изолятора. Что только не передумал Евгений во время пребывания в изоляторе!
Наконец Евгения доставили к начальнику районного отделения НКВД Смертину[24]:
Тот, не отрывая голову от бумаг на столе, буркнул:
– Фамилия?
– Богданов.
– Имя? Отчество? Статья? Срок? Специальность?
– Студент Ленинградского политехнического института. Выпускной курс машиностроительного факультета.
– По какому вопросу обратился к Сперанскому?
– Имею предложение по совершенствованию зимней промывки.
– Какой ожидается результат?
– Увеличить производительность в 4–5 раз.
– В общем, так: две недели на проработку. Понял?
– Да.
– Что надо для работы?
– Комнату, чтобы никто не мешал, доску с рейсшиной, карандаши, готовальню и техническую литературу по списку.
Записав всё это, Смертин предупредил:
– Если через две недели окажется, что ты обманул, тебя расстреляют.
Евгения поместили в одну из комнат следователей и принесли всё, что он просил. Рядом с его комнатой шли допросы. Выходя в коридор, он видел подследственных, стоявших сутками на «конвейере» с опухшими ногами, слышал доносившиеся из кабинетов крики истязаемых.
Две недели Богданов интенсивно работал, стараясь не выходить из комнаты в коридор, на ночь его отводили в камеру-одиночку. Он и там продолжал работать, обдумывая, как повысить эффективность отдачи тепла к замёрзшей породе.
Решение пришло, когда он придумал применить барабан с маленькими трубочками, вокруг которых располагалась порода. Позднее он использует эту схему для подвижного конвейера, перемещающего породу. Результаты работы превратились в шесть чертежей и папку с объяснительной запиской и тепловыми расчётами.
Через две недели Евгения отвели к Смертину. У того в кабинете сидел одетый в штатское человек, с интересом смотревший на доставленного под конвоем зэка.
«Наверное, специалист», – подумал чуть ли не вслух Евгений.
Они начали рассматривать представленные материалы. Евгений сидел ни жив ни мертв – решалась его судьба, его жизнь.
Наконец вольнонаёмный инженер Клубничкин (Евгений на всю жизнь запомнил эту «сладкую» фамилию), посмотрев все материалы, сказал:
– Да, это совершенно новая идея, очень оригинальная. Её нужно осуществлять и развивать. У нас пока ничего подобного не было.
«Спасён! Спасён!» – билось в голове у Евгения, когда его отконвоировали в камеру.
На следующий день Богданова перевели для разработки рабочих чертежей в барак заключённых-«бытовиков». Там было уже трёхразовое питание и довольно сносные условия: бельё на кровати, душ… Евгений был единственный осуждённый по 58-й статье. Остальные были махинаторы, растратчики и прочие так называемые бытовики.
В 1938 году Богданова, ещё заключённого ГУЛАГа, перевели в технологический отдел Северного управления Дальстроя для разработки рабочих чертежей. Ему даже разрешили вести переписку с семьёй и получать посылки.
Не имея полного инженерного образования, Евгений Богданов занимал ответственные инженерные должности – был старшим инженером-проектировщиком Северного горнопромышленного управления Дальстроя.
Освобождение наступило только 17 декабря 1939 года. В архивной справке значилось:
«Богданов Евгений Иванович, 1913 года рождения, уроженец г. Новочеркасск Черноморского края, осуждён 10 мая 1935 года особым совещанием выездной сессии ОГПУ за контрреволюционную деятельность к пяти года лишения свободы. Начало срока 16 декабря 1934 года. До ареста проживал в г. Ленинграде. Прибыл для отбытия наказания на территорию Магаданского края… 1937 года. Освобождён по отбытию срока наказания 17 декабря 1939 года. Основание: архивная карточка, форма № 2».
Справка была с фотографией, отпечатком указательного пальца. В верхнем правом углу указывалось: «Правом на жительство не служит. При потере не возобновляется».
Для Евгения освобождение не давало свободы в полном смысле этого слова, потому что судимость не снималась, а возвращение в Ленинград было исключено.
Возврат гражданских прав могла дать только реабилитация.
Богданов встретился с Клубничкиным второй раз, когда тот уже собирался к отъезду на материк. Евгений пустился было объяснять, как он благодарен за доброе заключение о его работе по увеличению производительности промывки золота.
Клубничкин прервал его:
– Полноте, молодой человек. Это ведь сделано не только потому, что мне понравилась ваша идея. Мне стало жаль вас, такого, и я думаю, талантливого, подающего надежды инженера. Я ведь предполагал, что с вами сделают, если дам отрицательное заключение. Вам надо всё-таки закончить вуз. Потратьте на это свои способности.
– Я попытаюсь, но как это сделать здесь, на Колыме?
– А вы возьмите отпуск за несколько лет да и махните в Ленинград… – посоветовал Клубничкин.
– Да у меня и паспорта ещё нет, – посетовал Евгений.
– Просите, ждите, добивайтесь, – последовал ответ.
Евгений тяжело вздохнул и неожиданно заявил:
– Знаете, у меня есть предложение, как усовершенствовать тачку.
– Тачку? – удивился Клубничкин.
– Ну да, – подтвердил Евгений и принялся объяснять на пальцах, что нужно сделать, чтобы тачка стала рациональной.
Клубничкин вежливо выслушал его и посоветовал:
– А вы попробуйте оформить свои задумки через бюро изобретений, да и свои предложения по промывке песка тоже…
Они тепло распрощались, а Евгений действительно подал заявку на авторское свидетельство под названием «Рациональная тачка».
В преамбуле к заявке писал:
«В системе Дальстроя широко распространена тачечная транспортировка грузов. Поэтому правильный выбор наиболее рациональной конструкции тачки имеет большое значение для выполнения производственного плана. До сих пор изготовление тачек велось без предварительного расчёта и экспериментирования, а выбор конструкции тачки и её отдельных элементов в большинстве случаев присматривался на усмотрение десятников и бригадиров стройцехов. Вследствие этого мы имеем чрезвычайное разнообразие тачек (даже в изделиях одного типа – дорожного или горняцкого) как по ёмкости короба, так и по всем остальным конструктивным данным.
Основные недостатки большинства тачек заключаются в неправильной статической уравновешенности, в неправильной конструкции ходовой части и в целом всей тачки…» Далее он предлагал конструктивные решения для нового типа тачки.
Ответ на заявку пришёл отрицательный, а эксперт посоветовал оформить её как рационализаторское предложение. Евгений так и сделал.
В СССР внедрением новшеств на предприятиях занималось бюро рационализации и изобретательства, так называемое БРИЗ. Подавшему рацпредложение работнику выплачивалось вознаграждение и выдавалось удостоверение специального образца.
Но Евгений не останавливался на этом, а написал статью, которую опубликовали в журнале «Колыма» в 1940 году в четвёртом номере. Это была его первая научная статья, и называлась она «О рациональной тачке»[25]. Всего же за один 1940 год Богданов опубликовал в этом журнале семь научных статей по вопросам промывки золотых песков.
Официально Евгений Богданов был освобождён в декабре 1939 года, однако паспорт ему был выдан только в марте 1941 года. В паспорте значилось, что выдан он на основании статьи 39 Положения о паспортах.
В народе такие паспорта называли волчьими билетами, потому что по этой записи знали, что обладатель паспорта – бывший заключённый и ему запрещено жить во многих городах (тридцати девяти) и нельзя находиться в пограничной зоне ближе чем на сто километров.
…В этот день или уже ночь Евгений возвращался домой с работы, после восемнадцатичасового корпения над чертежами. Внезапно его остановил едва слышимый женский вскрик. Евгений прислушался, крик повторился. Он пошёл на звук и увидел как какой-то мужик, зажав рот женщине или девушке, в темноте не разобрать, вырывает у неё из рук сумку. Евгений бросился на помощь, нападавший выпустил жертву и бросился наутёк. Евгений подбежал к пострадавшей с вопросом:
– Вам помочь?
– Не надо. Спасибо. Вы вовремя подоспели. А там у меня все документы… – вымолвила она, приходя в себя и показывая сумку.
– Что же вы так поздно ходите, – укорил её Евгений.
– Да так получилось, – протянула она.
Они познакомились, и он проводил её до самого барака, где жили вольнонаёмные.
Итак, она звалась Татьяной. Выпускница Ленинградского горного института прибыла на Колыму по оргнабору как молодой специалист – и устроилась на работу инженером в Дальстрой.
Они стали встречаться в свободное время, которого было так мало. Татьяна была привлекательной девушкой, играла на гитаре и домре, прекрасно пела. Особенно ей удавались романсы.
Видимо, судьбе было угодно, чтобы эти два одиночества сошлись на Колыме, в этом Богом забытом крае.
После нескольких месяцев встреч, каждая из которых была по-своему незабываемой, Евгений и Татьяна решили пожениться. Для того времени шаг этот был довольно смелым, потому что никто не знал, каким боком повернётся судьба к молодожёнам.
Последствия не заставили себя ждать. За связь с «врагом народа» Татьяна сразу же была понижена в должности, её перевели в техники, что сказалось на заработной плате.
Прошёл год, как они поженились. Их отношения ещё больше укрепились. Если раньше их просто тянуло друг к другу, то теперь они друг без друга просто не смогли бы жить.
Они понимали друг друга с полуслова, как будто прожили вместе тысячу лет, потому что составляли единое целое.
Эти годы, которые Евгений провёл с Татьяной, воспитали, а в конечном счёте и сформировали послелагерную его личность в значительной степени больше, чем детские и студенческие впечатления. Может быть, потому, что бесконечное уважение друг к другу гармонично сочеталось с большим разрастающимся чувством – любовью.
Чтобы поддержать подорванное лагерями здоровье Евгения, Татьяна завела подсобное хозяйство: огород, кур, поросят. И это в суровом климате Колымы! В доме царила чистота, она успевала ещё и рукодельничать, обшивала и себя, и Евгения, и детей. В октябре 1942 года родился Олег, а в ноябре 1945 года – Иван. Они были счастливы, насколько можно было назвать счастливой жизнь в полурабском режиме, да ещё в суровых условиях колымского климата.
Однажды Евгений поделился с Татьяной мыслями о самом сокровенном:
– Знаешь, Танечка, недавно грустно размышлял о бренности человеческого бытия, о смысле вечного карабканья по ступенькам судьбы. Мне очень нравится старая восточная мудрость: «Если не знаешь, куда идти, то лучше останься на месте, тогда не угодишь в яму». Хотя сколько раз я в ней оказывался, да и сейчас из неё до конца не выбрался.
– Власть отучила нас от веры в Бога, – продолжал он спустя некоторое время. – Я верю, что есть кто-то, кто видит и слышит тебя. И судит. Это именно тот, кто дал тебе то, за что можно держаться. А может, просто берёт за руку и ведёт к цели, как будто бы знает, что тебе в данный момент нужнее всего.
Они помолчали немного.
– Женя, ты даже не представляешь, как я счастлива, что встретила тебя, а для этого мне надо было приехать именно на Колыму. Наверно, это потому, что мы духовно похожи друг на друга! А разве можно назвать счастливым союз мужчины и женщины, если они совершенно разные: как плюс и минус, ночь и день, огонь и вода? – добавила она и прижалась к мужу.
– Ничего, Таня! Будем держаться… Как говорили в древности, самый тёмный период в ночи наступает перед рассветом. Так и в жизни. Будет и на нашей улице праздник.
Праздник наступил, когда им было по 45 лет: в 1958 году пришло известие, что Евгения Ивановича реабилитировали по всем статьям…
…Военные годы для жителей Колымы стали серьёзным испытанием, дни были тревожными и тягостными. Собственно, такими они были и для всей страны. Стране нужно было золото, много золота, и Колыма его давала.
Каждую осень начиная с 1942 года в Магадан приходили подводная лодка или крейсер из Сан-Франциско и увозили в Америку добытое золото. За помощь по ленд-лизу[26] во время войны Советский Союз расплачивался колымским золотом и кровью своих солдат на полях сражений.
В 1944 году с визитом на Колыму прибыл вице-президент Соединённых Штатов Америки Генри Уоллес. В состав делегации входили три гражданских специалиста и трое военных. Американская делегация направлялась в Среднюю Азию и Китай, и остановилась в Магадане на три дня. По-видимому, Уоллеса интересовала добыча золота в связи с проблемой оплаты договорных обязательств по ленд-лизу.
Ещё осенью 1941 года Евгений узнал, что Ленинград окружён и стал блокадным городом. Он не мог знать, что ещё в самом начале войны мать и Нина с семьёй были эвакуированы в г. Киров. На самом деле они жили в деревне в тридцати километрах от города и в трёх километрах от строящегося химкомбината, где работал муж Нины. Ей негде было устраиваться по специальности, да и Валерии Александровне трудно было бы одной управляться со всем их немудрёным хозяйством и двумя детьми. Семью поддерживал Евгений, периодически присылавший денежные переводы.
Все годы эвакуации Нина была неразлучна с матерью, тяжело умирала у неё на руках, оставив ей своих детей, заботу о которых взяла на себя Валерия Александровна. Нина скончалась в мае 1943 года.
Валерия Александровна осталась в Кирове одна с двумя малолетними детьми, без работы, без средств к существованию. Единственной её опорой и поддержкой оставался Евгений.
Валерия Александровна написала письмо Евгению и попросила оформить ей пропуск на Колыму, куда она решила приехать после смерти дочери. Евгений понимал, что отговаривать мать от безрассудства такого поступка бессмысленно, и выполнил её просьбу.
С некоторых пор Евгений стал понимать, почему самые страшные ураганы носят женские имена. Всё начинается вполне благоприятно, с безобидного ветерка, но скоро перерастает в буйную стихию, способную с лёгкостью сокрушить на своём пути все преграды. Так и некоторые женщины. Это внешне они такие нерешительные, с тихим голосом, но стоит им поставить перед собой цель – и их ничего не остановит в пути её достижения. К таким женщинам Евгений относил и мать. Он навсегда запомнил её рассказы о решении поехать к брату во Владивосток во время Русско-японской войны. Да и её стоицизм ко всем жизненным пертурбациям, которых с лихвой хватало на несколько жизней.
К удивлению, Валерия Александровна с детьми дочери (младшему из которых было всего три года) без особых приключений добрались до места назначения всего за двадцать дней, считая трёхдневную остановку во Владивостоке в гостинице Дальстроя[27].
– Здравствуй, родной ты мой, – только и смогла сказать Валерия Александровна, когда сошла с трапа той же самой «Джурмы», которая в своё время доставила Евгения в колымские лагеря.
– А вы Татьяна? – обратилась она к стоящей рядом с ним женщине.
– Да, конечно, – ответила та сквозь проступившие слёзы.
– А сын где? – спросила Валерия Александровна.
– Дома ждёт, – ответили в унисон Евгений и Татьяна.
– Господи, возмужал-то как, – оглядела мать сына…
Татьяна и Валерия Александровна сразу же нашли общий язык. «Хоть с женой повезло!» – думала Валерия Александровна. Она провела на Колыме несколько лет и убедилась, что Евгения и Татьяну связывают настоящие чувства.
«Это же надо найти свою половинку на краю света», – размышляла она. И молилась тайком, чтобы их чувства не остыли, как случилось у них с Иваном.
Валерия Александровна отогрелась душевно от переживаний последних лет. Конечно, в условиях Колымы слово «отогрелась» неприемлемо. Она сама где-то слышала то ли стон, то ли песню заключённых:
Колыма ты, Колыма —
Чудная планета…
Девять месяцев – зима,
Остальные – лето.
Она тихо радовалась ровному, спокойному укладу жизни в семье Евгения и своим по-настоящему родственным отношениям с Татьяной. Хотя проблем на работе Евгения было выше крыши.
Узнав о прорыве блокады Ленинграда в январе 1944 года, Валерия Александровна засобиралась на материк.
Но уехать ей удалось не скоро.
До Владивостока она с детьми добралась на пароходе «Русь»[28].
В одном из писем к Евгению уже по прибытии в город Буй, где служил отец её внуков Виктор Волков, она писала: «…Пароходом мы ехали в кошмарных условиях, но всё же доехали до Владивостока живыми и невредимыми – дети стойко переносили все трудности – окружение было очень неприятно, просто противное, и мне, сжав зубы, надо было терпеть…»
На пароходе «Русь» в это же самое время отправлялся во Владивосток, а затем в Москву инженер-капитан 2-го ранга Григорий Рывкин. Он отплывал после выполнения правительственного задания, связанного со взрывом парохода «Выборг» в порту Магадана. Его «Воспоминания» представила мне его дочь Ирина Кормилицына.
Ещё при посадке на пароход Рывкин обратил внимание на женщину с двумя малолетними детьми. «Отважная женщина!» – подумал Рывкин. Он перебрался в каюту люкс и попросил капитана, чтобы женщине с детьми доставляли еду из кают-компании. А женщине, после знакомства, посоветовал запереться и не выходить из каюты, а для проветривания использовать иллюминатор.
Инженер-капитан 2-го ранга Г. Рывкин оказался на Колыме в соответствии с правительственной шифрограммой для организации работ по подъёму парохода Дальстроя «Выборг». В своих «Воспоминаниях»… он писал:
«Однажды меня срочно вызвали к адмиралу, который приказал немедленно выехать на его машине на аэродром, где меня ждал самолёт морской авиации типа «Каталина», чтобы доставить в Совгавань. С какой целью, адмирал и сам не знал. Это был приказ из Москвы. Самолёт уже ждал меня на взлётной полосе. Лётчик выразил недовольство моим поздним прибытием, потому что садиться в своём самолёте он может только в светлое время суток. Меня впихнули в самолёт, и мы полетели. Я был единственным пассажиром на единственном сиденье – месте стрелка. Зачем меня доставлять в Совгавань, лётчик тоже не знал. Погода была ясная. Подо мной сначала был виден весь Сахалин от Тихого океана до Татарского пролива, густо покрытый лесами, затем водные просторы широкого здесь Татарского пролива. Самолёт сел на военном аэродроме Совгавани, когда уже начало темнеть. Я выяснил у лётчика, где находится штаб и казарма, и, не зная, что мне делать дальше, пошёл к казарме, рассчитывая отдохнуть. Нашёл свободный лежак, но уснуть не смог.
В Южно-Сахалинске поесть я не успел и теперь был очень голоден. В полутьме добрался до штаба части, нашёл дежурного, дозвонился от него до дежурного по штабу военно-морской базы. Представился, доложил, что доставлен в Совгавань по какому-то указанию из Москвы и не знаю, что мне делать дальше. Дежурный был не в курсе и перезвонил мне через час. Сообщил, что меня должны были переправить в Магадан, а больше он в открытом телефонном разговоре сказать не может. Надо было ждать утра. Мне удалось дозвониться до дежурного аварийно-спасательной службы военно-морской базы. Повезло. Дежурил знакомый мне по службе инженер-капитан 3-го ранга Горбатов. Узнав, что мне некуда деться, я очень голоден, он предупредил, что угостить может только сухарями, и прислал за мной катер. От него я узнал о произошедшей в Магадане трагедии: в порту недалеко от причала взорвалось грузовое судно «Выборг» с толуолом. Эксплуатация порта затруднена. Есть шифрограмма правительства:
– «Аварийно-спасательной службе ВМФ в кратчайший срок поднять пароход и убрать его от причала,
– Дальстрою МВД обеспечить эти работы всем необходимым (плавсредствами, транспортом, рабочими и материалами),
– ответственным за организацию работ АСС назначить находящегося в командировке на Дальнем Востоке инженер-капитана 2-го ранга Г.И. Рывкина,
– ответственным за обеспечение работ со стороны Дальстроя назначить командование Дальстроя МВД (генерал Никитов[29]),
– о ходе работ докладывать в Москву».
Утром вылететь в Магадан я не смог – было воскресенье, а специального указания лететь в выходной лётчики не имели. На второй день авиаторы с укором говорили мне, что, как моряк, я должен знать, что понедельник – день тяжёлый и дальние рейсы по такой тяжёлой трассе нежелательные. Вылетел я только во вторник, прибыл в тот же день в Магадан. Управление Дальстроя МВД размещалось в здании, размеры и массивность которого напоминали здание правительства СССР в Москве. Добившись пропуска к заместителю начальника Дальстроя по транспорту, я шёл к нему по длинному коридору, устланному ковровой дорожкой, пока сопровождающий офицер не открыл мне двери в кабинет высокого начальства в звании генерал-майора войск МВД. Я представился и доложил о готовности приступить к работе со следующего дня. Однако генерал разговаривать со мной отказался, сославшись на более срочные дела, и отдал указание о предоставлении мне места в гостинице. Я стал напоминать ему о правительственной шифрограмме, о нашей общей обязанности докладывать командованию о ходе развёртывания работ. Он уже более резко заявил, что Дальстрой имеет много правительственных заданий и сейчас есть более срочные дела. Я спросил о возможности доложить командованию ВМФ о задержке начала работ. На это он ответил, что никакие доклады без разрешения Дальстроя невозможны, предупредил об отсутствии на Магадане любой другой власти, кроме МВД, и в заключение добавил, что лица, не подчиняющиеся Дальстрою на его территории, могут кончить плохо, потому что другой земной власти здесь нет.
После этой угрозы мне ничего не оставалось делать, как идти в гостиницу и там обдумать создавшееся положение. В гостинице для приезжих, которая больше соответствовала названию «общежитие», я разместился в комнате на пять коек, где моим единственным соседом оказался инженер-геолог, ожидавший предоставления квартиры. Он рассказал мне о порядках в Магадане. Вся власть в городе принадлежит Дальстрою МВД. Нет ни одной организации в городе (почта, телеграф, магазины, все службы управления), которая бы не принадлежала Дальстрою. Основная деятельность Дальстроя связана с добычей золота и других ценных руд, а также с управлением лагерями политических и уголовных заключённых. На территории города расположены лагеря-распределители для вновь прибывших заключённых, разрешение на выезд которых на материк не даётся по несколько лет. Управленческий состав и все специалисты в городе – приезжие, живут здесь ради больших окладов и льгот. Начальник Дальстроя генерал Никитов по вопросам добычи золота и стратегических материалов докладывает лично Сталину, по вопросам содержания заключённых – Берии. По улице, где живёт Никитов и другие высокопоставленные чины Дальстроя, ездить машинам и ходить жителям запрещено. На других улицах обстановка небезопасная. Бывшие заключённые уголовники имеют свои организации, возглавляемые паханами, соблюдают свои воровские законы. Бывают случаи беспричинных убийств человека ножом. Например, если проиграл его в карты. В итоге нашей беседы сосед посоветовал мне не торопиться и выждать время, прежде чем опять напоминать о себе в Дальстрое, поскольку ни почта, ни телеграф ничего не пропустят без разрешения Дальстроя. Тем не менее я сделал попытку отправить телеграмму в Москву или Владивосток через воинские части, размещённые недалеко от Магадана, и через корабли. Попытка оказалась безуспешной. Всюду был контроль Дальстроя. После этого я ещё несколько дней провёл в общежитии, не выходя по совету соседа в город, играя с ним шахматы.
Вдруг неожиданно появился майор МВД и, не объясняя зачем, предложил мне следовать в машину. Наслушавшись соседа по комнате, я встревожился, но поехал. В здании Дальстроя для меня уже был подготовлен пропуск. Майор проводил меня в кабинет начальника Дальстроя Никитова, где под его руководством проходило какое-то совещание. Никитов вполне вежливо пригласил меня участвовать в совещании и сразу попросил помочь спасти утопленное Дальстроем золото. При переправе через речку перевернулась шлюпка, на которой перевозили с приисков мешок с золотом. Затонули шлюпка и два человека, перевозившие золото. Вес этого золота был учтён в отчёте, отправленном в Москву. Задача государственной важности – поднять золото, но у Дальстроя нет водолазного снаряжения и опытных водолазов. О необходимости найти и поднять утонувших людей Никитов даже не упомянул. Люди в этих краях не ценились. Я доложил о своём понимании важности задачи и выразил сожаление, что прибыл уже несколько дней назад для организации работ по подъёму п/х «Выборг». В Совгавани уже сформирован специальный отряд, имеющий водолазов и водолазную технику, а я по вине Дальстроя не смог сообщить командованию флота о необходимости срочной отправки этого отряда в Магадан. Выйти из создавшегося положения можно, если я смогу совместно с Дальстроем дать телеграмму командованию о срочной отправке этого отряда с техникой самолётом за счёт Дальстроя. В этой телеграмме необходимо также подтвердить обязательства Дальстроя обеспечить начало работ на «Выборге» вспомогательной рабочей силой, плашкоутами, баркасами и разместить в порту личный состав отряда. Предложенное мной решение было немедленно принято. Мне было обещано впредь мои просьбы и заявки на всё необходимое для подъёма «Выборга» удовлетворять. Такое указание Никитов тут же на совещании дал своему заместителю по транспорту, тому самому генералу, который до этого общался со мной по-хамски. Прибывшая через несколько дней команда водолазов с оборудованием была передана на время выполнения работ по поиску и подъёму золота в подчинение Дальстроя. Я к этим работам отношения уже не имел, но позже, после отъезда, узнал, что работы эти кончились трагедией. Золото нашли, но мешок на дне реки разорвался и часть золота выпала. Поиск утраченного золота на дне реки затянулся. Началось льдообразование, и движущейся льдиной перерезало шланг подачи воздуха водолазу, отчего он погиб. Это произошло уже после моего отъезда в Магадан.
При мне доставленный в Магадан аварийно-спасательный отряд приступил к работам на п/х «Выборг». При взрыве судна на нём была снесена верхняя часть выше ватерлинии. Большущие куски металлических конструкций летели на берег на расстояние до километра. Подводная часть судна больших повреждений не получила, но всё же затонуло. Причём в нескольких трюмах судна ещё оставался груз. После обследования судна водолазами я и командир отряда инженер-майор Столпер разработали проект подъёма судна понтонами после его полной разгрузки. Необходимости моего пребывания в Магадане больше не было. Дальстрой забронировал мне место на п/х «Русь».
Провожали меня офицеры отряда. Попрощавшись с ними, я зашёл к помощнику капитана по пассажирским перевозкам и по своему литеру на бесплатный проезд получил каюту 1-го класса. Он предложил мне каюту люкс, но у меня оставалось уже не много денег, и я, поняв, чем вызвано его предложение, отказался. Было часов 9 вечера. Спать было ещё рано, и я стоял на палубе. Меня удивило, что пассажиров было всего десять человек. Отход судна почему-то откладывался. Около полуночи на причал стали прибывать грузовые машины с людьми в ватниках. Это были бывшие заключённые, получившие свободу, но отработавшие несколько карантинных лет, чтобы получить разрешение выезда на материк. Всё это время, пока они работали вольнонаёмными, основная часть их заработка шла на сберкнижки, и только теперь, выезжая на материк, они стали богачами. Машины всё прибывали и прибывали, доставляя всё новые партии этих людей. Никто из них не собирался платить за каюты, и они постепенно заполнили все переходы и вестибюли на этом туристическом судне. По словам помощника капитана, все они были уголовниками, политических среди них не было. Увидев, что они располагаются такой плотной массой, что нет даже возможности пройти в туалет, не наступив на кого-нибудь, я внёс доплату и перебрался в каюту люкс, где были все удобства. Закончилась посадка этих людей, и началась погрузка ценной оловянной руды в нумерованных мешочках. Солдаты выстроились в цепочку, передавали их из рук в руки. Я не дожидался конца погрузки и ушёл спать. Засыпая, слушал, как «Русь» отошла от причала. Утром следующего дня пошёл позавтракать в ресторан и с трудом нашёл себе место. У дверей ресторана стояла большая очередь, но я был в форме, и очередь расступилась, когда я подошёл. В ресторане было очень шумно, на столах стояло много бутылок спирта и шампанского. Других алкогольных напитков на Дальний Восток тогда не завозили. Многие были уже крепко выпившими. Официантки, пользуясь случаем, получали крупные чаевые и обсчитывали пьяных. В воздухе висел мат. Я посидел несколько минут и ушёл. Договорился со старпомом, что буду питаться в кают-компании. Верхняя палуба вся была заполнена освобождёнными: одни, сидя на корточках, играли в карты, другие лёжа грелись на солнце.
Вдруг поднялся какой-то шум. Я оглянулся и увидел, что капитан на мостике даёт какие-то срочные распоряжения, а спустя несколько минут мимо меня пронесли на носилках убитого. И опять было тихо, как будто ничего не произошло. Я решил уйти на мостик, охранявшийся матросом с оружием. По пути я столкнулся с молодым парнем, который попросил взять его подсобником на камбуз, потому что пахан отобрал у него все деньги и он ходит голодным. Мне удалось ему помочь. К тому времени, когда мы прибыли в Находку, на судне было уже 6 или 7 убитых. Капитан по радиотрансляции предупредил пассажиров, чтобы не выходили из кают до окончания выхода всех лагерников. Бывшие лагерники столпились на причале, окружённые охраной. Сойдя с трапа, я, зная, что мой поезд во Владивосток уходит ещё через несколько часов, решил остаться на причале и посмотреть, что будет дальше с освобождёнными. Подошли «чёрные вороны» (закрытые машины МВД), и несколько человек, видимо, причастных к убийствам, увезли… На следующий день я уехал в столицу поездом Владивосток – Москва».
А Валерии Александровне пришлось дожидаться своего поезда одиннадцать дней, о чём она написала в своём очередном письме Евгению:
«Во Владивостоке в гостинице Дальстроя мы прожили 11 дней в ожидании поезда (откуда я послала тебе 2 письма) – я с детьми помещалась на одной койке (в комнате было ещё 6 человек), а потом Алексея уложили на стол. Там так измучились, что только мечтали сесть на поезд, но билетов на пассажирский поезд не достать было, т. ч. я решила уехать хоть в теплушке. К счастью, ко мне примкнул один пожилой человек, который уговорил меня ехать в теплушке, и пожалуй, это было лучше, т. к. в вагонах творилось что-то жуткое, а мы хоть могли спать. Ехали 25 суток, дети себя чувствовали неплохо. А Алик захворал ангиной, но я быстро справилась с его болезнью, т. к. у меня были нужные медикаменты. Не раздевались мы за всё это время и были похожи на чертей – так черны и грязны. Помещались всё время на верхних нарах. Лялька ни разу с них так и не сходила. Питание наше кончилось во Владивостоке, так что перед посадкой в теплушку пришлось покупать продукты.
…В пути пришлось менять часть своих и детских вещей на хлеб и продукты. Ели дети в дороге так, что мне было их не удовлетворить. Хлеб такой порой был (чёрный и с всякой примесью), что я не могла его есть, а ребята, что называется, лопали вовсю. В Москву приехали, и началось мытарство, т. к. наш состав не приняли вокзалы московские, а оставили на окружной дороге, и мы 2 суток мучились в бараке железнодорожном, а потом я устроилась с детьми в детской комнате на Ярославском вокзале, и 8 января я уехала в Буй. Попутчик мой довёз нас до самого Буя, т. к. он сдавал свой багаж вместе с моим и думал его взять здесь и уехать в Саратов (но багажа ни его, ни моего до сих пор нет), он пробыл 2 суток здесь и уехал, т. к. ему сказали, что скоро багажа ждать нечего. Мне повезло в этом отношении, и если бы не его участие, с детьми было бы очень тяжело, и я не знаю, как бы я одна справилась со всем, так что свет не без добрых людей…»
20
На самом деле в разное время начальниками Дальстроя были 5 человек: Берзин (1931–1938 гг.), Никишов (1939–1948 гг.), Петренко (1948–1950 гг.), Митрофанов (1950–1956 гг.), Чугуев (1956–1957 гг.). Все они были награждены многочисленными орденами СССР и знаками «Почетному чекисту».
21
Для перевозки заключённых и грузов использовался собственный флот Дальстроя, состоящий примерно из десятка, а то и больше, пароходов (они переименовывались по нескольку раз). Использовались для этих целей и суда Дальневосточного морского пароходства, и ледоколы, осуществляющие зимнюю проводку судов. Первым пароходом, пришедшим в бухту Нагаева, был «Сахалин», на котором прибыло руководство треста «Дальстрой» во главе с его директором Эдуардом Берзиным.
22
Кусургашев Г.Д. Призраки колымского золота. Воронеж, 1995.
23
Сперанский – выходец из дворян, подпоручик царской армии, участник Первой мировой войны. С 1918 года в Красной армии, с 1920 года в органах ВЧК – ОГПУ – НКВД. В 1937–1939 годах – начальник Управления НКВД Дальстроя. Этот период отмечен его вхождением в состав особой тройки и активным участием в репрессиях. Арестован в октябре 1939 года, расстрелян в апреле 1940 года. В 1999 году в реабилитации отказано.\\\Начало массовых репрессий на Колыме связано с так называемой Московской бригадой, направленной Ежовым в конце 1937 года для наведения порядка в Дальстрое. Эту группу в составе четырёх человек и возглавил вновь назначенный начальник УНКВД по Дальстрою Сперанский. На оперативном совещании, проходившем в десятых числах декабря 1937 года, при разборе вопросов следственной работы Сперанский указал оперативному составу на то, что здешние методы работы устарели и что «миндальничать с арестованными нечего и поэтому нужно перейти к активному следствию», подразумевая под ними избиение и пытки.
24
Начальник районного отдела НКВД, арестован и осуждён в ноябре 1939 года военным трибуналом на восемь лет лагерей. Упоминается как старший уполномоченный НКВД в рассказе Шаламова «Заговор юристов».
25
Автор в 1958 году на летних каникулах после окончания девятого класса работал на кирпичном заводе. Приходилось катать тачку с бракованным битым кирпичом. Наверное, эта была тачка, изготовленная по чертежам Богданова.
26
Ленд-лиз (англ. – давать взаймы, сдавать в аренду) государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты.
27
Гостиница называется «Красный Владивосток», была построена в 1937–1939 годах. С 1961 года в здании размещались различные высшие учебные заведения (филиал Московского института им. Плеханова, Дальневосточный институт советской торговли, Тихоокеанский государственный экономический университет, в 2001 году вошедший в состав Дальневосточного федерального университета). Здание расположено на пересечении Океанского проспекта и улицы Дзержинского. Когда-то на этой улице, напротив, был сооружён памятник Дзержинскому (1954 г.). В 1992 году памятник был снесён ветром демократических перемен.
28
В декабре 1947 года в бухте Нагаево прогремели взрывы на пароходах «Генерал Ватутин» и «Выбор», гружённых взрывчатыми материалами. Причины трагедии так и не были выяснены.
29
Так в тексте «Воспоминаний». На самом деле фамилия начальника Дальстроя Никишов.