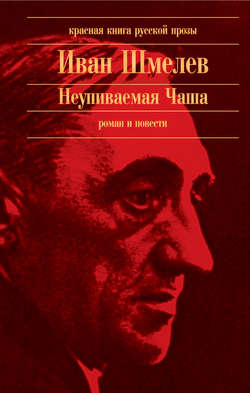Читать книгу Неупиваемая Чаша (сборник) - Иван Шмелев - Страница 7
Повести
Человек из ресторана
VII
ОглавлениеСказался я метрдотелю, что завтра приду к двум часам. Пришел домой в четыре, а у нас еще свет. А это все мои в одну комнату сбились и спят при огне. Страшно им, что Кривой повесился. Наташка на диванчике прикорнула. Колюшка так на столе голову положил. Как сиротинки какие. Только Луша не ложилась, потому что жутко ей в спаленку нашу идти – рядом с той комнатой, где Кривой обитал.
Поднял Колюшка голову и смотрит тяжело так. И сразу похудел, одни глаза.
– Чего ж ты не ложишься? – спрашиваю.
Молчит. А Луша мне:
– Измаял он меня. Хоть ты-то его успокой. Все твердит – из-за нас да из-за нас… И так-то тот все мерещится, а он еще тут… Спасибо еще Черепахин Наташку все развлекал, конфеты ей принес с бала…
Посмотрел я – дверь в комнату Кривого закрыта и даже стул приставлен. Так вот и мерещится, как он там лежит на полу и кулаками грозится. Стал я Колюшку успокаивать. Рассказал, что директора видел и он очень веселый был и ласковый, а он мне вдруг сердито так:
– Будете завтра говорить с ним, так держите себя как следует… А то привыкли кланяться!…
Очень он меня этими словами уколол.
– А вот ты, – говорю, – привык с отцом зуб за зуб! Ты вот, может, последнего человека жалеешь, какого-то Кривого, который нам напакостил через свою гордость… Он, – говорю, – и удавился-то нарочно у нас, а ты своему отцу в глаза тычешь!
А он мне с такой укоризной и даже головой стал качать:
– А вы еще про религию говорите! Религиозный человек!..
Тогда я в расстройстве был и так, конечно, про Кривого сгоряча сказал, а он меня не мог извинить.
– А ты, – говорю, – после этого скот, а не сын! Дармоед ты!.. Вот что!
Он повернулся и пошел в коридорчик, где спал. А мне бы хоть бить кого, хоть убежать бы… Рванул я Наташку с дивана, обругал… А она со сна смотрит – ничего не понимает. Пошел, водки прямо из графина. Залить бы все… Я очень много тогда перестрадал и потом. Ах, как я болел Колюшкой! И не приласкал я его за всю жизнь, а обижал часто… Друг дружку обижали… Характер-то у него во-от… каменный…
Легли мы с Лушей спать, и она стала приставать, чтобы переехать с квартиры. Не останусь и не останусь здесь ни за что! Во всех углах, говорит, куда ни пойдешь, все представляется, как дразнится. И мне-то – вот стоит в дверях и смотрит, как той ночью… А у нас очень крысы полы грызли тогда, – ну прямо как царапается кто под полом. Лежим и думаем, и сон не берет. А Луша и говорит:
– Поликарп-то Сидорыч как странно стал себя вести… Сегодня весь день, как ты ушел, по комнате кружился и себя за голову щупал. А пришел с бала и Наташке колечко поднес… Говорит, на улице нашел. И совсем новенькое, с красным камушком. Просил принять по случаю семейного несчастья. Ничего это, что она взяла? Рублей пять стоит…
– Что ж тут такого? – говорю. – Он к нам очень расположен…
– Да. Если, говорит, откажетесь принять, я все равно в помойку брошу. У меня, говорит, никаких сродственников нет, а вам удовольствие… Положил ей на руку, а сам в комнату скрылся…
А это он из расположения. Очень он любил сестру свою, Катеньку. Она в портнихах жила и померла от несчастной любви, выпила нашатырного спирта. Рассказывал мне. С молодым человеком жила, а тот женился… Черепахин-то того на улице поймал и кулаком убил до смерти, но суд его оправдал, и присудили только к церковному покаянию. Очень это сильно на него подействовало, и он к нам так и прицепился, что нет у него никого на свете. И зашибал он часто, как тоска нападала. А как выпьет, так все грозился подвиг какой ни на есть совершить, чтобы себя ознаменовать. И очень его специальность мучила, насчет трубы. Только и разговору: связала и связала меня труба на всю жизнь. И Наташка-то его все дразнила:
– Что это вы, Черепахин, такой большой, – а он очень высокий и могущественный, – и такими пустяками занимаетесь, в трубу играете?.. Если бы вы на рояли могли играть, а это даже и не музыка!..
А он весь покраснеет и руки начнет потирать.
– Все равно, и это как музыка, только, конечно, не для женского уха… А если бы у меня были деньги, я бы на рояли стал… У меня очень пальцы способны для рояли…
И как растопырит, такой смех, – как вилы. А та его на трубе заставляет играть, а он стесняется.
– Ну тогда я от вас конфет не возьму и разговаривать с вами не буду.
И начнет он марш трубить, а она рада и покатывается. Такая насмешница. А он для нее был как ягненок, очень хорошего характера для нее-то.
Стала она как-то смеяться, что такая у него фамилия – от черепахи, так он совсем расстроился и дня два из комнаты не показывался. А потом вдруг заявился и говорит:
– Вы, Наталья Яковлевна, про фамилию мою сказали… Не хотел я говорить, а теперь должен сказать. Она такая необыкновенная, потому что я от разбойников произошел…
Очень нас насмешил. Чудак был!..
– Не от черепахи я, а от разбойников. Мой дедушка был в шайке и кистенем бил со страшной силой, и как ударит по голове, так череп – ах! Вот его и прозвали. И это в суде записано, и можете даже справиться во Владимирской губернии… И песня даже есть про моего деда, и помер он на каторге… И сам я тоже очень страшной силы человек и могу пять пудов одной рукой вытянуть!..
Схватил при нас железную кочергу и петлей свернул, как бечевку. А как Луша забранилась на него, он опять напрямь вытянул.
– И если вас, Наталья Яковлевна, кто посмеет обидеть, вы мне только прикажите… Я с тем человеком поступлю, как с кочергой!..
Лежим мы с Лушей и раздумываем, и слышу я, как в коридорчике словно как чвокает что. Луша мне и говорит:
– Никак Колюшка?.. Что такое с ним творится…
А я ей ни-ни, что к директору завтра потребован, чтобы пуще не расстраивать прежде времени.
Вышел я в коридорчик и слушаю: очень тяжело вздыхает. Чиркнул спичкой, а он как вскочит…
– Ай! Испугали вы меня!..
Я ему и стал говорить от сердца:
– Зачем ты и себя и нас мучаешь? Колюшка, милый ты наш сын… голубчик ты мой! Вот ты плачешь…
А он с гордостью мне:
– Ничего я не плачу! Представляется вам…
А тут спичка и погасла.
Подошел я к нему и сел рядышком. Обнял его в темноте, и так мне его жалко стало… Худой он был – ребра слышны, хоть и жилистый и широкий по кости.
И он ко мне притискался. Молча так посидели. Поласкал я его тут молча, по щеке потрепал. Так меня тогда взяло за сердце.
Только раз за всю жизнь так его приласкал. И стал я ему на ухо говорить, чтобы Луша не услыхала:
– Попроси завтра прощения у учителя!.. Ну мало ли и мне обид делали? Люди мы маленькие, с нами все могут сделать, а мы что… А ты бери пример с Исуса Христа…
– Не могу, папочка… не могу!..
Через слезы сказал. И никогда так раньше меня не называл – папочка. И как-то даже совестно мне сделалось… и хорошо, очень нежно сказал.
– Я не человек буду после… я не могу!… Так меня унижали, так мучили… Вы не знаете ничего. Таких, как я, кухаркиными детьми зовут. Нет, нет! Не стану!..
Вскочил и меня за руки схватил.
– Знайте, что я на гадости не пойду… Я ваш сын, и я рад… Может, я совсем другой был бы… Папочка, вы ложитесь… вы устали… Ах, папочка!.. Так мне тяжело, так тяжело…
За плечи меня схватил, сам дрожит…
И тогда я перекрестил его в темноте.
– Попроси прощения… Мать убьешь, Колюшка… У ней сердце больное…
– Не мучайте… не могу!..
А Луша из комнаты звать стала:
– Что такое? Что вы шепчетесь? Да поди ты, Яков Софроныч… жуть…
Так и расстались. И не лег я спать. Такое нашло на меня, что я долго молился в ту ночь, все молитвы перечел, какие знал. И за Колюшку, и за упокой души Кривого. А с Лушей припадок случился от удушья, кричала все, чтобы форточку открыть… Всю ночь фортки от ветру бились, точно кто в окошки стучал.