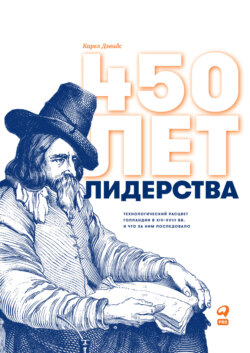Читать книгу 450 лет лидерства. Технологический расцвет Голландии в XIV–XVIII вв. и что за ним последовало - Карел Дэвидс - Страница 7
Введение
Технологическое лидерство
ОглавлениеПонятие «технологическое лидерство» существует в экономической истории и в истории технологий не первый год[13]. Оно применяется не только к промышленным компаниям, но и к социогеографическим сущностям: городам, областям, странам. В этой книге мы говорим исключительно о социогеографических сущностях, поэтому наряду с обычным толкованием «технологическое лидерство» будет здесь означать, что некоторая страна, область, город или скопление городов оказывается инициатором развития новых технологий в широком спектре производств.
Конечно, в литературе о техническом лидерстве часто обсуждают, чем и как подобное лидерство можно измерить. Для нашего времени обычный метод – измерение производительности труда. Так, по определению Ангуса Маддисона, страна-лидер «находится на острие технического прогресса», а рост производительности труда служит «средством грубо и приблизительно измерить скорость этого прогресса»[14]. Однако пользоваться таким эталоном в применении к отдаленному прошлому непросто. Чем дальше движешься назад во времени, тем больше появляется трудностей, вызванных элементарным отсутствием данных. В этом смысле источники из раннего Нового времени не дают таких исчерпывающих и точных сведений, как источники XIX–XX столетий. Изучая этот период, лишь в исключительных случаях можно измерить достижения в техническом развитии, опираясь на данные о производительности труда. Кроме того, при интерпретации любых данных о производительности труда нужно помнить об одном – разница в уровне производительности труда не указывает прямо на неравенство в научно-техническом развитии. «Общая факторная производительность зависит от многих элементов, и владение технологиями – лишь один из них», – отмечают Нельсон и Райт[15]. Толкуя любые данные о производительности, следует это учитывать.
Другой способ найти технологического лидера – изучить мнения современных наблюдателей. Путевые заметки, экономические монографии, личная переписка, дипломатические отчеты и другие подобные документы того или иного периода способны многое сообщить о том, как в то время представляли технологические достижения той или иной страны за рубежом: эффективность ее экономики вообще и отдельные качества, позволившие достичь такого уровня. Впрочем, лидерский статус отражается не только на восприятии наблюдателей, но и на практических действиях. Третий способ установить технологическое лидерство – проследить направление и плотность потоков технологической информации. Можно назвать это «методом технологического внешнеторгового баланса»[16]. Он исходит из того допущения, что относительный вклад страны, области, города или скопления городов в развитие технологий в тот или иной исторический период можно до какой-то степени определить по их роли в распространении научно-технических знаний. Чем больше мы узнаем о природе и объемах импорта и экспорта знаний в той или иной стране, тем точнее можем определить ее роль в создании новых технологий. Составив баланс ввозимых и вывозимых знаний, можно точнее оценить мощь этой страны. Таким образом, перемещение технологий позволяет узнать, кто лидирует в научно-техническом прогрессе.
В отличие от сопоставления производительности труда, метод технологического внешнеторгового баланса можно без затруднений применять и к периоду раннего Нового времени, хотя его применение и не может дать таких же точных результатов, как в наше время. Как писал Дж. Р. Харрис, «лакмусовая бумажка технологической плодовитости и первенства – пути и активность промышленного шпионажа»[17]. Чем больше промышленных шпионов привлекает сообщество, рассуждает Харрис, тем более очевидно, что оно обладает знаниями, которых пока нет у других стран, – иначе зачем был бы нужен такой интенсивный шпионаж? И хотя в действительности связь между промышленным шпионажем и технологическим лидерством не так однозначна, как полагает Харрис[18], это явление тем не менее может служить убедительным показателем того, насколько важным хранилищем технических знаний оказывается страна. Вместе с тем шпионаж, «разумеется, лишь один из широкого спектра методов сбора данных»[19]. Информацию о технологиях можно собирать и иными средствами, без тайных приемов. Каналы распространения знаний включают в себя, кроме прочего, издание технической литературы, регулярные отчеты путешественников, миссии дипломатов или коммерческих агентов, приезд иностранцев на заработки и для обучения, экспорт машин, отдельных узлов и инструментов или переезд за границу рабочих и предпринимателей[20]. Направление и насыщенность этих информационных потоков могут указывать на технологического лидера не хуже, чем маршруты и активность промышленных шпионов. Эти обстоятельства могут пролить свет на то, что нам нужно: кто у кого и чему учился.
Но разумеется, чтобы установить, была ли страна, область или город пионером развития технологий, лучше использовать несколько методов и много источников. Чем больше данных из разных источников можно сопоставить, тем более объемной получится картина. Точной оценке состояния технологий в стране также способствует изучение структуры и динамики ее экспорта (в той степени, в какой экспортные производства применяют передовые технологии) или сравнение потока технических знаний, исходящего из страны, с такими же потоками, исходящими в тот же самый период из других стран. Впрочем, передача технологий в раннем Новом времени пока еще не изучена так широко и глубоко, как хотелось бы. Свидетельства, имеющиеся сегодня, не дают достаточного материала для сопоставления. Тем не менее есть достаточно данных для разных периодов времени и мест, которые позволяют более широко увидеть роль такой страны, как Нидерланды.
Важный момент, который подразумевает мой подход, – миссию пионера технологического развития, разумеется, нельзя определить заранее. Она необязательно предполагает только (или преимущественно) серию «макроизобретений» или революционных инноваций в области производственных процессов. Технологическое лидерство может выражаться и в том, что страна, область, город или скопление городов активно и плодотворно генерируют небольшие усовершенствования или разрабатывают множество новых видов продукции. Важные инновации необязательно революционны, они могут осуществляться постепенно и медленно. Природа лидерства может быть разной. Именно суждение современников определяет, какой «прогресс» важнее всего в ту или иную эпоху.
Следующий важный вопрос о технологическом лидерстве: какими факторами можно объяснить появление и уход лидеров. В существующей литературе эта тема разбирается на трех уровнях. Прежде всего, есть работы об исторических случаях технологического лидерства, в которых освещаются силы и обстоятельства, которые могли вызвать появление или уход того или иного лидера. Например, Вольфганг фон Штромер, рассуждая о взлете Нюрнберга в позднем Средневековье, говорит, что этому способствовали соглашения о беспошлинной торговле, заключенные с другими городами, отсутствие гильдий и высокий уровень доверия, обеспеченный верховенством закона, которое гарантировало местное правящее сословие[21]. В своей работе о начале и конце технологического лидерства США в XX в. Ричард Нельсон и Гэвин Райт утверждают, что доминирующее положение Штатов после Второй мировой войны обеспечивалось, с одной стороны, их «господством в промышленных отраслях массового производства», которое «происходило от того, что страна исторически получила доступ к богатейшим природным ресурсам и располагала крупнейшим в мире внутренним рынком», а с другой стороны, «первенством в высокотехнологичных производствах», которое «было следствием щедрых частных и государственных вложений в науку и в естественнонаучное и техническое образование» в послевоенные годы. Америка утратила лидерство, пишут Нельсон и Райт, когда в мире выросло число стран, обладающих теми же преимуществами, и США, таким образом, лишились былого исключительного статуса[22].
Второй уровень – это исследования, рассматривающие силы, под действием которых исполняется «закон Кардуэлла», как таковые. Согласно Джоэлю Мокиру, для создания среды, способствующей как «генерации», так и «утилизации» полезного знания, необходимы такие условия, как политический плюрализм и открытость, «способствующая свободному передвижению товаров, агентов и технологий»[23]. Вместе с тем, по мнению Мокира, рождению новых технологий в экономике или в отдельных ее отраслях может препятствовать появление «антитехнологического набора институтов», не только создаваемого «олсонианскими коалициями для защиты территории», но имеющего «чисто интеллектуальные источники». Сопротивление техническому прогрессу – это не всегда только защита корыстных интересов, считает Мокир. У нее могут быть и глубинные идеологические корни. Таким образом, утрату лидерства в научно-техническом прогрессе можно рассматривать как более или менее «нормальный» результат усиливающегося противодействия дальнейшему развитию технологий[24].
Третий уровень – это теория научно-технического развития и инноваций в целом. Поскольку суть технологического лидерства – это способность инициировать развитие новых технологий в широком спектре областей деятельности, начало и конец лидерства можно в какой-то степени толковать как особое событие в научно-техническом развитии и истории инноваций. Теории, претендующие на исчерпывающее объяснение природы научно-технического развития и инноваций, применимы и в случаях, когда перемены в технологиях и технические новшества достигают небывало высокой концентрации. В литературе по научно-техническому развитию и инновациям обычно разграничиваются «теории спроса» и «теории импульса»: первые утверждают, что техническое развитие задается главным образом рыночным спросом, вторые – что оно в значительной степени определяется собственной динамикой.
Теории спроса, когда-то популярные среди экономистов, в последние 20 лет подверглись серьезной критике, они так и не вернули прежних позиций. Из всех возражений, которые вызывают теории спроса, для главной темы нашей книги особенно актуальны следующие[25]. Во-первых, наличие рыночного спроса не объясняет, благодаря чему, когда и какими способами он будет удовлетворен, когда и как появятся новые изделия или промышленные процессы и почему они примут ту или иную форму. Теории спроса не показывают, как открываются возможности для развития технологий и что происходит между «осознанием “необходимости” (…) и появлением нового продукта»[26]. Во-вторых, сам по себе рыночный спрос, который, несомненно, влияет на скорость и направление технического прогресса (служа своего рода «фокусировочным устройством»)[27], никак не может быть независим от технических инноваций. В действительности объем рынка, который получит изобретение, сам зависит от технического творчества. Таким образом, теории спроса не могут объяснить процесс технического развития в целом.
Теории собственной динамики – это блок гипотез, существующих в самых разных формах. Развитие идеи о том, что научно-технический прогресс имеет собственную динамику, влияющую на многое, идет в разных направлениях. Следуя Лео Марксу и Мерриту Роу Смиту, можно признать, что эти гипотезы образуют широкий спектр от «жестких» до «мягких» версий технологического детерминизма. Теории, располагающиеся на «жестком» полюсе, приписывающие «способность нести перемены (…) самим технологиям или каким-то их неотъемлемым атрибутам», вызывают, однако, критику своей склонностью к реификации[28]: в сущности, как отмечают Маркс и Смит, «ни одна технология, сколь бы тонкой и действенной она ни была, никогда не порождала действий, не предопределенных людьми[29]. В то же время теории с противоположного конца спектра «помещают [технологию] в гораздо более сложную и разнообразную экономическую, политическую и культурную матрицу»[30] собственной динамики, а не гипотезы «жесткого» толка, сегодня находятся на острие научного поиска.
В этой мягкой части спектра самые «жесткие» варианты теорий выстраиваются вокруг понятия траектории технического развития. Главная мысль этих теорий сводится к тому положению, что будущее развитие технологий зависит от того направления, в котором они развивались в прошлом. По мнению Карла Гуннара Перссона, техническое развитие в доиндустриальную эпоху можно объяснить «постоянно действующими силами, способствующими техническому прогрессу», внутренними (эндогенными) для каждой отрасли: это случайные модификации принятых методов, опыт проб и ошибок, обучение на практике, обучение через применение, специализация и разделение труда и пр.; эти эндогенные силы генерируют «технологические последовательности», чьи траектории «можно считать «предопределенными»[31]. В схеме, предложенной Марком Элвином и Яном де Врисом, совокупный объем знаний и умений, приобретенный при долговременном соблюдении некоторой технологической традиции, может достигать столь высокой степени связности и совершенства, что вероятность отклонений от нее, вызванных внутренними силами, в дальнейшем сводится практически к нулю. Общество тогда может оказаться в «ловушке равновесия высокого уровня», и ему придется выплачивать «штрафы прогрессу»[32].
Другие «траекторные» теории делают акцент одновременно на парадигматической функции известных способов решения технических задач, именуемых «технологическими траекториями», «технологическими режимами» или «технологическими стилями», и на возможностях отбора, применимых на разных уровнях абстракции. «Технологические траектории», по емкому определению Джованни Дози, это схемы «нормального процесса решения задач (…) на основе технологической парадигмы», а «технологические парадигмы» – это «модели», или «схемы», решения «избранных технических задач, основанные на избранных принципах, открытых научным поиском, и на избранных материальных технологиях». Когда некоторая технологическая траектория уже «задана и выбрана», пишет Дози, «она обладает собственным импульсом движения». Сам же выбор, по его мнению, диктуют не требования технологии, а рыночные механизмы и политические и организационные факторы[33].
Ряд ученых сделали в этом рассуждении следующий шаг, сформулировав завершенную эволюционную теорию научно-технического прогресса[34]. В сущности, подобные теории состоят, с одной стороны, из набора постулатов, объясняющих вариации появления технических новшеств, а с другой стороны, из моделей, описывающих механизм отбора. В обеих частях уравнения авторы склонны занижать роль «собственной динамики». Если постулируется, что вариации обновлений случайны или происходят по некоторой системе (например, в результате выбора той или иной стратегии научно-технического поиска)[35], считается, что их источник – не только в самой динамике технического развития. Даже если инновации основаны на уже существующих объектах и идеях[36], считается, что источник творчества находится не внутри самой технологии, а в более широком социально-экономическом, культурном и интеллектуальном контексте. То же предполагается и в отношении отбора: какие из новшеств выживут, определяют рыночные и нерыночные силы, действующие в среде, а не технология как таковая[37].
Самые мягкие разновидности теории «собственной динамики» придают «социальной, экономической, политической и культурной матрице» еще большее значение. Мансур Олсон утверждает, что в любом стабильном обществе с закрепленными границами появляются «организации и сговоры в целях выгоды», или «распределяющие коалиции», которые неизбежно начинают снижать способность общества усваивать технические инновации[38]. По мнению Джона Стауденмайера, развитие любой эффективной технологии неизбежно подразумевает возникновение трех «кругов причастных»: это «конструкторский круг», состоящий из индивидов и организаций, генерирующих оригинальные конструкции, «круг страдания», объединяющий всех индивидов, субъектов и организации, которые проигрывают от появления новой технологии, и «круг поддержки» – «все люди, объединения и организации, попавшие в зависимость от новой технологии и, соответственно, вынужденные мириться с ограничениями, которые она накладывает»: этот круг обычно противится дальнейшей модификации технологии, даже если меняются внешние условия[39].
В этой книге о технологическом могуществе Нидерландов я буду обращаться к работам по всем трем уровням технологического лидерства. В рассуждениях о том, как Нидерланды стали лидером технического прогресса и как утратили эту роль, исследования исторических случаев технического лидерства будут не менее полезны, чем труды о силах, лежащих в основе «Закона Кардуэлла», и теории научно-технического прогресса и инноваций. Теории спроса и «жестко детерминистские» теории научно-технического развития, однако, вряд ли будут настолько же полезны, насколько теории с «нежесткого» полюса гипотез о собственной динамике технического прогресса – по причинам, изложенным выше. Настоящий фундаментальный разбор восхода и заката голландского технологического лидерства, в свою очередь, поможет глубже понять различные аспекты такого явления, как техническое лидерство вообще.
13
Ames and Rosenberg, ‘Changing technological leadership’, Cardwell, Turning points, 190, 206, Musson and Robinson, Science, 9, Mokyr, Lever of riches, 207, Harris, Essays, 164, Nelson and Wright, ‘Rise and fall’, Davids, ‘Shifts of technological leadership’.
14
Maddison, Dynamic forces, 30, 69.
15
Nelson and Wright, ‘The rise and fall’, 1931.
16
Производная от термина «внешнеторговый баланс» – отношение стоимости товаров, вывезенных из страны, к стоимости ввезенных товаров. – Прим. ред.
17
Harris, ‘Industrial espionage’, 164.
18
Davids, ‘Openness or secrecy’.
19
Harris, ‘Industrial espionage’, 164 – 165.
20
Hilaire-Perez and Verna, ‘Dissemination’.
21
Stromer, ‘Nuremberg as epicentre’, 41 – 42.
22
Nelson and Wright, ‘Rise and fall’, 1933 – 1934.
23
Mokyr, Lever of riches, 186 – 190, idem, ‘Cardwell’s Law’, 573, idem, Gifts of Athena, 282.
24
Mokyr, Lever of riches, 266 – 269, idem, ‘Technological inertia’, idem, ‘Political economy’, ‘Cardwell’s Law’, Gifts of Athena, chapter 6.
25
See especially Mowery and Rosenberg, ‘Influence of market demand’, Dosi, Technical change, 8 – 11, Mokyr, Lever of riches, 151 – 153.
26
Dosi, Technical change, 10.
27
Понятие, которое означает «овеществление» – превращение абстрактных понятий в якобы реально существующие явления. – Прим. ред.
28
Rosenberg, Perspectives, 108 – 125.
29
Marx and Smith, ‘Introduction’, xii.
30
Marx and Smith, ‘Introduction’, xiii.
31
Persson, Pre-industrial growth, 7 – 12, 124 – 125.
32
De Vries, European economy, 94, 252, idem, ‘Holland: commentary’, 57, Elvin, Pattern of the Chinese past, 312 – 315.
33
Dosi, Technical change, 14 – 20, Nelson and Winter, ‘In search of a useful theory’, Hughes, ‘Technological momentum’, Rosenberg, ‘Path dependent aspects’, Staudenmaier, Technology’s storytellers, 199 – 200.
34
См., напр., Mokyr, Lever of riches, 273 – 299, Basalla, Evolution of technology, passim, Nelson and Winter, ‘In search of a useful theory’. Nelson, Understanding technical change.
35
Nelson and Winter, ‘In search of a useful theory’.
36
Cf. Basalla, Evolution of technology, 45.
37
Basalla, Evolution of technology, chs. 5 and 6, Mokyr, Lever of riches, 276 – 277, 283, Nelson and Winter, ‘In search of a useful theory’.
38
Olson, Rise, chapter 3 esp. p. 74.
39
Staudenmaier, Technology’s storytellers, 192 – 199.