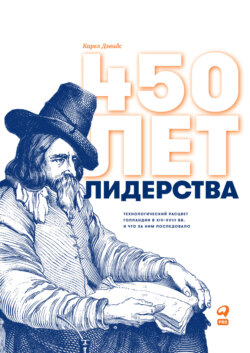Читать книгу 450 лет лидерства. Технологический расцвет Голландии в XIV–XVIII вв. и что за ним последовало - Карел Дэвидс - Страница 8
Введение
Развитие технологий в раннее Новое время
ОглавлениеОсобенность нидерландского случая в сравнении с другими ныне изученными историческими прецедентами, заключается в том, что расцвет эпохи голландских технических достижений точно совпадает с ранним Новым временем, что создает определенный парадокс. В истории Европы технический прогресс обычно связывают либо с эпохой после 1750 г., либо со Средними веками, но не с периодом между тем и другим. Нидерландский случай вроде бы приходится на то время, когда не происходило никаких заметных перемен. Устойчивый и нарастающий прогресс технической мысли, влияние которого распространялось на все сферы хозяйственной жизни, начинался в Европе с промышленной революции. Сама суть этой революции определяется как последовательность взаимосвязанных технологических изменений, в числе которых замена человеческих усилий работой механизмов, то есть использование неодушевленной силы – включая пар – вместо людей и животных, и значительное усовершенствование процессов добычи и обработки сырья, особенно в химической и металлургической отраслях[40]. В Средневековье также наблюдался технический прогресс. Именно тогда появились такие, по общему мнению, важнейшие изобретения, как стремя, подкова, современная упряжь, самопрялка с большим колесом, ветряная мельница с горизонтальным валом и механические часы, началось широкое применение силы воды в промышленных целях – все это заметно сказывалось и на экономике, и на характере общества. Жан Гимпель даже дал своей знаменитой монографии о средневековых технологиях подзаголовок «Средневековая промышленная революция»[41]. Находящееся между этими революционными эпохами раннее Новое время легко может показаться периодом технического застоя, или, в лучшем случае, скромного прогресса. Попытка Джона Нефа объявить, что в елизаветинской Англии тоже происходила «ранняя промышленная революция», так и не нашла широкого отклика[42]. Не приходится сомневаться, что на исходе XVIII в. научно-технический прогресс в Европе значительно ускорился и углубился. Нет смысла спорить с тем, что в раннее Новое время Европа в аспекте технологий все еще оставалась во многом подобна Римской империи или Древней Греции. Самый радикальный технический рывок в европейской истории происходил в течение двух веков после 1800 г., а не за два тысячелетия до того. В этом Дэвид Лэндис, Э.A. Ригли, Г.У. Плекет, Джоэль Мокир и др. совершенно правы. Однако, даже если технический прогресс до 1800 г. был относительно скромным в сравнении с теми обширными переменами, что произошли позже, это совсем не означает, что заметного развития не было вовсе. Не стоит обманываться картинами l’histoire immobile, столь любезными историкам из школы «Анналов», которые считали – по меткому замечанию Генри Хеллера, – что ancien régime был просто «стабильной экосистемой», и «уровень технического развития» между поздним Средневековьем и серединой XVIII столетия «оставался в целом неизменным»[43].
Во-первых, сами люди, жившие в ту эпоху, вовсе не разделяли этих представлений о технологической инертности. Напротив, их удивляли масштабы перемен. Именно в XVI–XVII столетиях в дискурсе Республики ученых[44] впервые появляется идея технического прогресса. Античные авторы никогда не размышляли о возможности постоянного совершенствования технических знаний. Даже в Высоком Средневековье люди не верили в постоянное развитие технологий[45], но в ранее Новое время многие образованные европейцы не сомневались, что живут в эпоху небывалых технических достижений. Как свидетельства тому обычно упоминались каталоги изобретений и открытий, неизвестных античной эпохе. Список, составленный в 1449 г. папским библиотекарем Джованни Тортелли и опубликованный в 1471 г., был первым в серии подобных каталогов, выходивших в XVI, XVII и XVIII столетиях. Самой знаменитой была, конечно же, триада изобретений, в 1620 г. включенная в Novum Organum Френсиса Бэкона: порох, компас и печатный станок. Помимо этих трех новшеств, изменивших, согласно формулировке Бэкона, «облик и состояние мира», списки изобретений и открытий включали такие пункты, как стремя, механические часы, шелководство, дистилляция, масляная живопись, телескоп, географические карты, ветряные мельницы с горизонтальным валом и открытие Америки[46]. Французский современник Бэкона Николя Брио в 1617 г. утверждал, что европейцев среди всех обитателей Земли выделяет «особая тонкость и изобретательность во всем, потому что гигантские области искусств и ремесел (…) были созданы или доведены до совершенства именно здесь»[47]. К середине XVIII столетия участники Республики ученых уже достаточно ясно видели, как идет технический прогресс, и, выделив изучение инженерного дела и техники в отдельную область знаний, названную «технологией», принялись составлять объемные, всеобщие описания инженерных практик по широкому спектру отраслей производства[48]. В эту эпоху появились великие технические энциклопедии, технические словари и периодические издания. Словом, если технические инновации раннего Нового времени и кажутся нам не такими кардинальными, как инновации в эпоху промышленной революции, их воздействие тем не менее было весьма существенным по меркам образованных людей, которые жили тогда и сами наблюдали происходившие перемены.
Помимо этой довольно широко разделяемой современниками оценки, есть ряд других причин, по которым развитие технологий в раннее Новое время заслуживает пристального внимания историков. Если технические достижения средневековой Европы и впрямь столь значительны, какими их объявляют, закономерно возникает вопрос, что стало с этими достижениями в последующие эпохи? Использовались ли они для дальнейшего развития после 1500 г.? Изменили ли такие изобретения, как порох, компас и печатный пресс, сам контекст технического прогресса? В каком смысле технический прогресс в Средние века и раннее Новое время был действительно непрерывным или прерывистым? Те же вопросы возникают, когда мы оглядываемся назад из контекста заката XVIII в. В какой степени Промышленная революция опирается на фундамент, заложенный в раннее Новое время? В каком аспекте технический прогресс в 1500 – 1750 гг. создал контекст, сделавший возможными великие промышленные достижения второй половины XVIII в.? В каком смысле мы наблюдаем преемственность или разрыв в развитии технологий между ранним Новым временем и современной промышленной эпохой? Кроме того, научно-технический прогресс начала Нового времени интересен еще и как часть картины великих перемен в общественном устройстве, культуре и расстановке сил в Европе после 1500 г. Ведь раннее Новое время было эпохой грандиозных сдвигов в культурном и религиозном ландшафте, временем всеобщего роста государствообразования и мощного рывка в освоении заморских земель. Как эти фундаментальные перемены общего контекста повлияли на развитие технологий?
Некоторые из связей во времени и контексте любопытным образом разбирались в работах по истории технологий раннего Нового времени, появившихся в последние 30 лет. Джеффри Паркер и Джон Лэндерс среди других ученых рассматривали многообразные последствия «пороховой революции», наступившие после 1500 г. в Европе и за морями[49]. Элизабет Эйзенстайн первой обратила внимание на возможные последствия изобретения печатного пресса в аспекте распространения и применения технического знания[50]. Модификацию ценностей и воззрений по отношению к инженерным практикам в Европе между Высоким Средневековьем и 1600 г. в подробностях реконструировала Памела Лонг. Она утверждает, что представления о собственности на производственные знания распространялись начиная с Высокого Средневековья, что не только породило промышленные секреты и патентную защиту, но и создало «новый альянс» между «университетскими гуманитариями», «ремесленниками из мастерских» и городскими правящими элитами, способствующий широкой публикации инженерной литературы, особенно после изобретения печатного станка, и формированию культуры «открытости». Общим у «эзотерической» и «открытой» традиций была нацеленность на «преобразование материального мира»[51]. Появление в XVI в. патентной защиты и печатных «книг о машинах», по мнению Маркуса Попплоу, сформировало контекст для прорастания «нового понятия» о «машине», под которой стали понимать любые артефакты, способные при подключении к некоторому постоянному источнику энергии «самостоятельно» выполнять определенные действия, и создало ситуацию, благоприятную для процветания «инновационной инженерии». По мнению Попплоу, религиозные споры, вопреки утверждениям Ансгара Штеклайна и других авторов, в этой смене ментальности не сыграли практически никакой роли[52]. Дэвид Гудман, Николас Гарсия Тапия, Генри Хеллер и другие авторы показывают, как центральные правительства в Испании и Франции в конце XVI – начале XVII в. все активнее участвовали в совершенствовании технологий. В обеих странах государственные учреждения в этот период приступили к более или менее согласованным действиям по стимуляции изобретательства и усовершенствований в областях, связанных с военным делом и колонизацией заморских земель, и поощряли возникновение новых видов промышленности и рост сельскохозяйственного производства. Во Франции этим действиям правительства помогало «стремление к техническому прогрессу» среди современных писателей разного толка, большая часть которых, по мнению Хеллера, «находились под сильным влиянием кальвинистских религиозных предубеждений»[53].
Что касается вопросов преемственности и прерывности развития технологий в раннем Новом времени и в эпоху современной промышленности, некоторые историки, например Э.А. Ригли, Джон Лэндерс и Йоахим Радкау, подчеркивают критическую важность смены энергетической базы. Они признают, что в раннем Новом времени имели место определенные технологические инновации, но настаивают, что рост производительности труда в этот исторический период неизменно оставался довольно слабым: его «сдерживала ограниченность запасов энергии в доступных органических источниках». До конца XVIII в. большая часть энергии, применявшаяся в производственных процессах, добывалась, прямо или косвенно, с поверхности земли: в виде древесины, торфа или продовольствия, потребляемого людьми и животными. Мир еще пребывал в эпохе «органической экономики», как ее именует Ригли. Низкая производительность, в свою очередь, ограничивала возможности разделения труда, замедляла социальное расслоение и препятствовала появлению специальных учреждений «для развития и передачи “базы знаний”, накопленной обществом». Как утверждает Джон Лэндерс, технические знания передавались преимущественно устно «по сетям неформальных связей, основанных чаще всего на родстве или свойстве, или через различные институционализированные формы “изучения на практике”, которые по своей природе способствовали консервативному партикуляризму в техническом развитии»[54]. Лишь в конце XVIII в., когда «органическую экономику» начала вытеснять «экономика минеральных энергоресурсов», в которой основную энергетическую базу обеспечивают запасы каменного угля, промышленность смогла значительно нарастить количество используемой энергии, производство на душу населения стало быстро расти, и обмен технологиями достиг небывалой прежде интенсивности. В то же время другие авторы доказывают, что нарушение преемственности между ранним Новым временем и эпохой современной промышленности в области развития технического знания не было столь резким, как это выглядит в разрезе энергетической базы. Например, Кристин Маклеод и Ларри Стюарт показывают, как и до какой степени прогресс технического знания в Британии, связанный с Промышленной революцией, мог опираться на изменения в патентной системе, на представления об изобретениях и на мнения о практической ценности науки, которые начали складываться задолго до середины XVIII в.
Как и работы о технологическом лидерстве, литература по истории технологий в ранее Новое время, упомянутая в этой главе, содержит немало идей и гипотез, полезных для настоящего исследования о возникновении и закате технологического лидерства Нидерландов в 1350 – 1800 гг. Случай Нидерландов, в свою очередь, поможет прояснить различные вопросы истории технологий в раннее Новое время, очерченные выше.
40
Landes, Unbound Prometheus, 1, 3.
41
Lynn White, Medieval technology, idem, Medieval religion, 77 – 80, Gimpel, Medieval machine, Pacey, Maze of ingenuity, chapters 1 and 2, Reynolds, Stronger than a hundred men, chapter 2, Gille, Histoire des techniques, 508 – 579, Stromer, ‘Eine «Industrielle Revolution»’, Troitzsch and Wohlauf (eds.), Technik-Geschichte, 105 – 138, Frances and Joseph Gies, Cathedral, forge and waterwheel. Вместе с тем теорию «промышленной революции» подвергают критике, напр., в Richard Holt ‘Medieval technology’ and Adam Lucas, ‘Industrial milling’.
42
Nef, ‘Progress of technology’, Rosenband, ‘John U. Nef’.
43
Heller, Labour, esp. Chapter 7 on the ‘inertia of history’ in publications by Annales-historians.
44
Международное объединение ученых, существовавшее в эпоху Возрождения и Просвещения. – Прим. ред.
45
Pacey, Maze of ingenuity, 56 – 58, Keller, ‘Mathematical technologies’, 11 – 13, White, Medieval religion, 250.
46
Eisenstein, Printing press, 20 – 21, Keller, ‘Mathematical technologies’, 22 – 23, idem, ‘A Renaissance Humanist’, 345 – 365, Spedding, Ellis and Heath (eds.), Works Bacon, vol. I Novum Organum, Aphorism CXXIX, [Johannes Stradanus] Nova Reperta, Heller, Labour, 180.
47
Цит. по Heller, Labour, 180.
48
See e.g. Troitzsch, Ansätze technologischer Denkens.
49
Parker, Military revolution, Landers, Field and forge, esp. part II.
50
Eisenstein, Printing press, 552 – 557.
51
Long, Openness, secrecy, authorship, 5 – 15, 92 – 93, 244 – 250.
52
Popplow, ‘Verwendung’, passim, idem, ‘Erfindungsschutz und Maschinenbücher’ passim, idem, Neu, nützlich und erfindungsreich, esp. Einleitung.
53
Goodman, Power and penury, Garcia Tapia, Tecnica y poder, Heller, Labour, chapters 4 and 6, esp. p. 118.
54
Wrigley, Continuity, chapters 1 and 2, Landers, Field and forge, 1 – 3, 47 – 71, Radkau, Technik in Deutschland, 59 – 73.