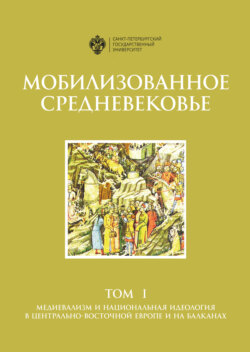Читать книгу Мобилизованное Средневековье. Том 1. Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 4
Глава I. Медиевализм до медиевализма. Историческое воображение и этнический дискурс в средневековой Центрально-Восточной Европе
Славянские этногенетические легенды: единство в многообразии
ОглавлениеИсторические произведения, содержавшие обстоятельные рассказы о происхождении народов и правящих династий, о деяниях культурных героев и становлении политических организмов, появляются в Западной Европе уже на заре Средневековья, в VI–VIII вв. Таковы труды Кассиодора, Иордана и Исидора Севильского о готах, Павла Диакона о лангобардах, Беды Достопочтенного об англо-саксах, Григория Турского о франках. В странах Центральной, Восточной, а также Северной Европы подобные произведения, в связи с более поздним распространением здесь христианства и письменной культуры, возникают несколько позже – преимущественно в XI–XII вв., в содержательном и структурном плане воспроизводя уже существовавшую к тому времени в Византии и Западной Европе традицию историописания.
Хотя содержавшиеся в произведениях средневековой историографии этногенетические (о происхождении народа) и этиологические (о происхождении тех или иных элементов культурного порядка – власти, сословного общества, письменности и т. п.) мифы все еще являются предметом различных интерпретаций среди медиевистов, давно прошли времена, когда историки в духе наивного историзма рассматривали эти легенды как племенную память поколений, стремясь во что бы то ни стало отыскать исторические прототипы тех или иных легендарных персонажей – Кия, Крака, Пяста и др. К настоящему времени не вызывает сомнений то, что мифы о далеком прошлом служили задачам легитимизации актуального настоящего, шла ли при этом речь о конкретной политии и/или этнической общности или социальном порядке в целом. В свою очередь, структура таких мифов определялась тем, что в медиевистике обычно именуется «устойчивыми схемами истолкования действительности» или «социальным знанием»[65]. Споры в современной науке вокруг этих мифов ведутся главным образом о том, в какой мере эти схемы являются порождением бесписьменного первобытного общества, а в какой – результатом воздействия на умы христианской цивилизации и/или рецепции античной культуры.
Огромную роль в понимании социального знания, определявшего формы репрезентации далекого прошлого в средневековых исторических текстах, сыграл структурализм. Использование теоретических открытий Клода Леви-Стросса[66] и Жоржа Дюмезиля[67] позволило идентифицировать важнейшие архетипы, в соответствии с которыми средневековое общество воображало свое прошлое. К настоящему времени можно говорить о существовании в исторической науке уже весьма солидного корпуса исследований, посвященных анализу мифов, в том числе тех, что содержатся в средневековых письменных памятниках. При этом переход от «мифологического» прошлого, которым обладали бесписьменные архаические общества (в терминологии Леви-Стросса – так называемые «холодные общества», еще не вступившие на путь форсированной социальной эволюции), к прошлому «историческому» (то есть к прошлому, в котором вместо богов-демиургов и актов творения Земли фигурируют исторические события и персонажи – князья, битвы, основание городов и т. п.), при всей его значимости не следует абсолютизировать.
Как отмечал Е. М. Мелетинский в своем классическом труде «Поэтика мифа» (1976 г.), основное отличие архаической мифологической эпики от более поздних исторических форм заключается «не в степени достоверности рассказа, а именно в “языке” повествования, которое передается в терминах не космических, а этнических, оперирует географическими названиями, историческими именами племен и государств, царей и вождей, войн и миграций». При этом, продолжает исследователь, «эпическое время строится по типу мифического», как начальное время, предопределившее будущий порядок[68]. Это означает, что и этногенетические, и этиологические мифы вписываются в общую матрицу мифологического мышления, унаследованную письменными обществами от поколений архаической эпохи.
В том, что касается этногенетических мифов, наиболее обстоятельную попытку интерпретировать их значение в контексте процесса «формирования племен» (нем. Stammesbildung), то есть древнейших форм этнических групп, предприняли исследователи Венской школы исторической этнографии (Х. Вольфрам, В. Поль, Й. Вуд и др.)[69], развивавшие идеи работ немецких медиевистов Вальтера Шлезингера и Райнхарда Венскуса. В их работах не только обнаружены нити, связывающие этногенетические мифы с различными сферами социальной и политической жизни людей раннего Средневековья, но и обстоятельно показано, какую роль играли эти мифы в формировании групповых идентичностей. Оказалось, что роль эта была весьма велика: этническая общность (племя) структурировалась через приобщение к мифу практически в той же степени, что и через политическую лояльность и социальные связи. При этом одно в данном случае было немыслимо без другого, ведь сама фигура вождя вписывалась в ту же мифологическую матрицу: вождь (по крайней мере, во многих случаях) должен был происходить от богов и обладать божественной харизмой, а его политическая успешность (в том числе по строительству племени на основе правящего клана и вооруженной свиты) была следствием «избранности» общности, ее соответствия отражающемуся в мире людей божественному порядку[70].
Для многих ученых этногенетическая модель Венской школы, позволявшая судить об устройстве племени через мифы и, наоборот, интерпретировать мифы через устройство племени, стала «волшебным ключиком», с помощью которого открывалась дверь в мир раннесредневековой этничности. При этом стало окончательно ясно, что раннесредневековые племена, подобно более поздним видам этнических общностей, конструировались подчас из весьма гетерогенных, даже разноязыких, элементов. В процессе групповой идентификации приобретала универсальное значение сама роль мифа, позволяя тем самым провести аналогию между древними племенами и модерными нациями, где роль, аналогичную роли раннесредневекового этногенетического мифа, играет то, что родоначальник этносимволизма Энтони Смит предложил именовать «мифомотором»[71]. Между тем, какими бы остроумными ни казались нам трактовки, объясняющие этногенетические мифы с универсальных антропологических позиций, необходимо помнить о том, что все эти мифы были записаны в христианскую эпоху, причем преимущественно духовными лицами. Следовательно, этнический дискурс их авторов должен был как минимум находиться под влиянием христианской и ассимилированной ею античной цивилизации. А что, если в том виде, в каком он отразился в дошедших до нас памятниках, он целиком сложился лишь в результате христианизации и чтения клириками Библии и античной литературы о «варварах»?
Представление о том, что в варварской среде этничность играла такую же важную роль, какую она играла в более поздние эпохи, вызывает у современных историков большие сомнения. Другой вопрос, волнующий скептиков, это с неизбежностью вытекающая из построений Венской школы большая глубина племенной памяти при не вполне определенных механизмах ее трансляции. Как это соотносится с выводами Я. Вансины и других антропологов о максимальной глубине памяти в три поколения? Не имеем ли мы в данном случае дело с «изобретенной традицией», искусно выдаваемой ее авторами – начитанными средневековым книжниками – за языческую архаику?
К настоящему времени взгляды скептиков оформились в виде Торонтской школы (В. Гоффарт, А. Мюррэй и др.), весьма влиятельной в современной медиевистике[72]. Особенно острая полемика развернулась при этом вокруг сочинения Флавия Магна Аврелия Кассиодора Сенатора «История готов» (519 г.), положившего начало жанру «origo gentis» – повествований о происхождении «народа», – пронизывающему всю последующую средневековую историографию. Некогда было популярным представление о том, что Кассиодор, подобно современному фольклористу, тщательно собрал эпические песни готов, а затем выстроил на их основе свое увлекательное повествование о странствиях этого народа из Скандинавии в Италию через Польшу, Украину, Балканы. В настоящее время все больше исследователей готовы признать, что Кассиодор, писавший свой труд по заказу правившей в Равенне остготской элиты, создавал его по лекалам античной историографии, опираясь преимущественно на письменные источники, и при этом отнюдь не готского происхождения. Эрудиция, ученость, широкий кругозор – вот что в первую очередь потребовалось римскому сенатору, чтобы «возродить из забвения» (а на деле сконструировать) историю славного народа готов. Она предстает в современных исследованиях эпохалистским конструктом, выстроенным для легитимизации возникшего в Паннонии в середине V в. (а отнюдь не в Швеции за две тысячи лет до этого!) королевства харизматического рода Амалов, не в последнюю очередь обязанных своим возвышением статусу римских федератов[73].
Из этого следует, что одной из центральных задач в исследовании этногенетических традиций варварских народов, дошедших до нас в изложении образованных средневековых книжников, является выявление в этих текстах разнородных элементов информации, удобным способом классификации которой может быть использование понятий социального и локального знания[74]. В то время как широко понимаемое социальное знание определяло базовые способы интерпретации социальной реальности, принятые в той или иной социокультурной среде, локальное знание отвечало за историческую конкретику, наполняя архетипическую структуру содержанием локального исторического опыта. При этом, разумеется, существовало еще и книжное знание, дававшее возможность обогатить ту или иную локальную традицию историческими представлениями, сложившимися на основе чтения Священного Писания и античной литературы, и неизбежно вбиравшее в себя соответствующее этим текстам социальное знание. Идентифицировать эти элементы в известных нам текстах, содержащих повествования о началах народов, – задача не из легких, особенно когда речь заходит о проблеме разграничения социального знания варварского и христианского общества. Поэтому неудивительно, что даже в тех случаях, когда удается выявить архетипические структуры и установить локальное происхождение тех или иных элементов традиции, нередко остается открытым вопрос об обстоятельствах формирования традиции как единого целого.
Одной из наиболее ранних с точки зрения времени фиксации этногенетических легенд славянского мира является записанная в 30-й главе трактата византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей» (середина Х в.) хорватская этногенетическая традиция, повествующая о поселении хорватов в Далмации под руководством семи вождей, их победе над аварами и франками и принятии христианства при архонте Порине[75]. В отличие от других глав так называемого «далматинского досье» трактата «Об управлении империей», в которых описывается ранняя история южных славян, в 30-й главе при изложении истории хорватов не фигурирует византийский император Ираклий, который, согласно исторической схеме Константина Багрянородного, играл роль восстановителя имперского порядка в Далмации после опустошительного вторжения аваров. Это обстоятельство, как и ряд несвойственных трактату эпических деталей рассказа, позволяет думать, что в тексте 30-й главы была зафиксирована историческая традиция самих хорватов, попавшая в Константинополь в более или менее целостном виде[76].
Анализ этой традиции показывает, что она обнаруживает значительное структурное сходство с этногенетическими легендами, относящимися к германским народам эпохи Великого переселения. Изучивший структуру данных легенд австрийский ученый Хервиг Вольфрам, видный представитель Венской школы, не без оснований усматривает в них важные элементы идеологии раннесредневековых элит, первоначально существовавшие в устной традиции варваров.
Первый элемент, выделяемый Вольфрамом в структуре таких легенд, именуется им «изначальным деянием» (primordiale Tat). Оно служит задаче легитимизации харизматического рода, осуществляющего социально-политическую сборку новой общности, одновременно символизируя выход на историческую арену нового народа (gens)[77]. Таким «изначальным деянием» является преодоление символической границы – моря или реки – и/или победа над могущественным врагом. Например, в случае с готами «изначальным деянием» стало пересечение ими во главе с первым королем Беригом Балтийского моря вследствие исхода из Скандинавии, а в случае с лангобардами, также покинувшими Скандинавию, – победа над вандалами, в результате которой племя, первоначально именовавшееся винилами, обрело новое имя лангобардов.
Второй выделяемый Вольфрамом элемент – это смена религии или культа, которая в этногенетических легендах также изображается как одномоментное событие. По убеждению исследователя, этот элемент сохраняет свое идеологическое значение и в том случае, когда речь идет о принятии христианства. Так, лангобарды после победы над вандалами принимают культ дружинного бога Одина, а франки во главе с Хлодвигом принимают христианство после победоносной битвы с алеманнами[78]. Оба элемента – и «изначальное деяние», и смена культа – сопряжены с идеей избранного народа, который стремится к обретению новой родины под руководством божества[79].
Нетрудно заметить, что в приведенном императором Константином рассказе о происхождении хорватов, который с полным правом можно назвать «origo gentis Chroatorum», присутствует как тот элемент, который Вольфрам именует «изначальным деянием», так и элемент, связанный со сменой культа. При этом под «изначальным деянием» можно понимать не только победу хорватов над аварами – могущественным врагом, разгромив которого хорваты стали хозяевами Далмации, то есть обрели новую родину, но и их победу над франками, после которой, став независимыми и самовластными, они осуществили смену религии – приняли христианство. Таким образом, «origo gentis Chroatorum» предстает перед нами примером структурно организованного, легитимизировавшего этнополитическую общность, мифа, чья картина прошлого должна была соответствовать идеологии и социальному знанию хорватской элиты середины Х в.
Осмысление деталей рассказа о переселении и крещении хорватов в рамках такой интерпретационной модели недавно позволило исследователям иначе, чем это было принято прежде, взглянуть и на такую центральную фигуру хорватского предания как архонт Порин. Персонаж, который обычно отождествлялся в историографии с хорватскими князьями Борной (около 818–821) или Бранимиром (879–892), был не без оснований сопоставлен с богом Перуном, ведь место, отводимое Порину в хорватском этногенетическом мифе, весьма напоминает ту роль, которую в похожих германских легендах приписывалась богу Одину[80].
Казалось бы, случай с хорватской традицией говорит в пользу универсальности теоретических положений Венской школы, ее применимости к анализу этногенетических традиций за пределами германского мира. Однако выводить какие либо закономерности было бы весьма опрометчиво – в лучшем случае мы можем говорить о гентилизме как об одном из механизмов формирования групповой идентичности, свойственных обществам, где интегрирующей силой была мобильная воинская элита. Более того, звучащая в современной историографии критика «модели этногенеза» Р. Венскуса и его последователей не ограничивается скептическими замечаниями в отношении постулируемой в рамках данной модели большой глубины исторической памяти варваров или аутентичности тех или иных элементов гентильной традиции. Речь, в конце концов, идет о более важной проблеме – самой природе этничности в бесписьменном варварском обществе.
Нетрудно заметить, что сама по себе модель этногенеза предполагает наличие в варварской среде таких запросов на идентификацию и таких структур групповой идентичности, которые с учетом всех различий и естественной поправкой на элитность этнического дискурса формируют сообщества, весьма напоминающие современные нации. Но не модернизируем ли мы тем самым варварские общества? Можем ли мы быть уверены в том, что не только отдельные структурные элементы этногенетических легенд, записанных средневековыми клириками, но и сама их главенствующая роль в репрезентации варварской общности не являются лишь последствием трансформации варварского «хаоса» под воздействием социального знания, некогда сформировавшегося в очагах письменной цивилизации? И даже если свести весь варварский гентилизм к одному лишь групповому названию, постулировав якобы свойственную ему в глазах варваров престижность и сакральность, не рискуем ли мы приписать людям прошлого, пусть лишь даже их облеченным властью представителям, современную нам, привыкшим к письменному слову, одержимость названиями?
Видимо, неслучайно во многих известных нам славянских мифах о происхождении собственно этнические параметры манифестируемой общности настолько тесно переплетены с этиологическими и космологическими, что практически неотделимы друг от друга[81]. Информацию к размышлению дают и случаи тех славянских племен, чья групповая идентичность формировалась на основе общего культа: укорененное в ландшафте священное, лежавшее в основе идентичности, представляется более приемлемым примером формирования идентичности в мире земледельцев, нежели гентилизм в его вышеописанном значении.
Особый интерес в связи с этим представляет реконструкция древнейшего славянского этногенетического мифа, предложенная чешским ученым Душаном Тржештиком[82]. Взяв за основу главным образом рассказ арабского географа ал-Масуди о древнем царстве славян Валинана, которое возглавлял царь Маджак, и свидетельство «Баварского географа» о королевстве народа «серивани» (Zerivani), от которого, по словам источника, произошли все славянские народы, чешский исследователь сопоставляет их с похожей германской легендой, приведенной Тацитом, и с преданием о происхождении скифов, приводимым Геродотом. В интерпретации историка легендарный Маджак – это первый человек Муж, славянский вариант индоевропейского Мануса.
Таким образом, этногенетический миф, по сути, оказывается космологическим. При всей несомненной привлекательности реконструкция Тржештика ввиду неоднозначности информации привлекаемых письменных источников объективно остается в высшей степени гипотетической. Для нас, однако, важнее обратить внимание на вопрос о характере общности, возникновение которой могло объясняться через данный миф. Разумеется, это не могли быть славяне в том виде языковой общности, в каком она предстает, к примеру, в «Повести временных лет», где отразился развитый этноязыковой дискурс, свойственный письменной культуре. По мысли Тржештика, космологический миф о царе Муже и трех его сыновьях в раннем Средневековье мог использоваться разными славянскими племенами, в то время как древнейшее название тех, кто со временем стал именоваться славянами, остается для нас неизвестным[83].
Впрочем, основой для реконструкции древнейших структур групповой идентификации в славянском мире могут послужить не только письменные источники. Интересную попытку выявить эти структуры на основе изучения так называемых сакральных ландшафтов предпринял словенский археолог Андрей Плетерский. Анализируя пространственное размещение языческих сакральных мест и/или соответствующих им архаичных славянских топонимов, интерпретируемых в контексте индоевропейской мифологии (в первую очередь реконструированного В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым «основного мифа» и его славянской версии о поединке Перуна и Велеса[84]), Плетерский, а вслед за ним и другие исследователи, сумели идентифицировать сакральные ландшафты, построенные по единой троичной модели[85]. В интерпретации Плетерского эти священные треугольники представляют собой древнейшие структуры организации пространства в славофонных сообществах Европы[86]. Стоит ли говорить, что такие пространственные микрокосмы затруднительно представлять в этнических категориях: идентификация на уровне апеллировавших к этим ландшафтам локальных сообществ была, по-видимому, семантически недифференцированной, а историческое воображение всецело заменяла собой космогония.
Элементы древнего доисторического мировоззрения обнаруживаются и в позднейших «origines gentium», где уже присутствует развитый этнический дискурс и зачатки исторического воображения в собственном смысле слова. Более того, эти элементы играют в таких легендах важную, по сути, структурирующую роль архетипических матриц. На славянском материале, используя практически неограниченные возможности «тотальной компаративистики»[87], эти архетипы исторического сознания, уходящие в конечном счете в архаичную дописьменную эпоху, в наиболее полном виде выявил, описал и растолковал польский медиевист Яцек Банашкевич. Причудливые картины прошлого древней Польши, подчас ставившие в тупик поколения исследователей, стали обретать в его работах ясный смысл и внутреннюю логику, сообразную структуре этногенетических и этиологических мифов[88]. Методологически к работам Банашкевича близки исследования Ч. Дептулы[89], Д. Тржештика[90], А. С. Щавелева[91]. Этим авторам удалось сделать немало ценных наблюдений, касающихся области функционирования в средневековом славянском обществе структурно организованных мифов о происхождении народов, государств, правящих династий и т. п., а также выводов относительно их отражения в памятниках раннего славянского историописания. К данным работам примыкают и появившиеся в последнее время труды, анализирующие использованные средневековыми авторами нарративные стратегии и их дискурсивную обусловленность[92].
В XI–XII вв. историографические труды в жанре повествования о происхождении народа («origo gentis») появляются во всех странах Центральной и Восточной Европы. Появление их было прямым следствием возникновения в регионе крупных политических образований предгосударственного и/или раннегосударственного характера и создававшихся на их основе этносов, которым требовалось создание легитимизирующих их существование исторических традиций. Такие произведения могли вбирать в себя элементы более древних, архаичных по своей структуре, племенных мифов, подобных хорватскому, передававшихся изустно где-то в окружении правящих кланов, могли замещать их более сложными и гетерогенными этногенетическими конструкциями, почерпнутыми из письменных памятников «цивилизованного» мира, а могли (и, судя по всему, это было наиболее распространенным случаем) совмещать то и другое в сложную амальгаму, истолковать которую с переменным успехом пытаются современные исследователи[93].
Принято считать, что отдельную группу легенд о началах составляют так называемые династические мифы. В отличие от этногенетических легенд они описывают происхождение не народов, а правящих родов. Между тем, эти мифы в дошедших до нас памятниках оказываются тесно вплетенными в повествования об образовании государства, о становлении власти и законов, что позволяет рассматривать их в контексте историографического жанра «origo regni»[94], то есть «происхождение государства». При этом необходимо помнить, что эти государства, в свою очередь, дают начало новым народам, приходящим на смену прежним племенам или преобразующим эти древние племена в более широкие и устойчивые этнополитические общности. При этом, как уже отмечалось выше, средневековые нарративы жанров «origo gentis» и «origo regni» нередко заключали в себе элементы более древних гентильных традиций с характерной для них взаимосвязанностью этнического и политического параметров идентичности. Понятно, что в этих условиях разграничение этногенетических и династических («политических») мифов, с точки зрения их роли в легитимизации возникающей групповой идентичности, не всегда является продуктивным.
Прекрасным примером подобного сложносоставного исторического нарратива, составленного из элементов архаичных племенных традиций и призванного легитимизировать как этнические, так и социально-политические узы этнополитического организма, являет собой ранняя история Чехии, изложенная деканом капитула пражского кафедрального собора Св. Вита Козьмой Пражским, автором «Хроники чехов»[95]. Притом что сама хроника была написана в первой четверти XII в., отдельные элементы чешского «origo regni» сформировались гораздо раньше. Древнейшим памятником, в котором отразилась династическая легенда Пржемысловичей, является так называемая «Легенда Кристиана» или «Житие и страдание св. Вацлава и бабки его св. Людмилы» (конец Х в.)[96]. Автором этого произведения, написанного на латыни, был монах Кристиан – брат чешского князя Болеслава II Благочестивого (972–999)[97]. В этом тексте, повествующем о приходе христианства в Чехию и первых чешских святых, содержится небольшой рассказ о том, как язычники-чехи, жившие словно «дикие звери», получив «совет божества» от некой «знахарки» (известной из позднейшей хроники Козьмы Пражского как Либуше), основали Прагу и избрали своим предводителем искусного в земледелии «проницательного и опытного мужа» Пржемысла, ставшего супругом «знахарки» и основателем династии, с тех пор беспрекословно почитавшейся чехами[98].
По мнению чешского историка В. Карбусицкого, эта легенда утвердилась в качестве легитимизирующей идеологии княжеского рода в правление Болеслава I Грозного (935–972)[99], с которым в чешской историографии традиционно связывалось построение «дружинного государства», вскоре превратившегося в большую «империю», простиравшуюся от границы с Германией на западе до верховьев Буга и Стыри на востоке. В комплиментарном отношении к этому тезису находится и замечание Д. Тржештика, обратившего внимание на важное место, которое отводится Праге как центру формирующейся этнополитической общности в «Легенде Кристиана», не содержащей в себе чешского этногенетического мифа в собственном смысле слова. Действительно, держава Болеслава была многоплеменной, а ее социальная сплоченность во многом обеспечивалась интегрирующей ролью Праги как главного политического и торгового центра[100].
Легенда о Пржемысле Пахаре, в гораздо более детальном виде представленная в хронике Козьмы Пражского, неоднократно становилась объектом анализа исследователей и к настоящему времени изучена почти досконально[101]. В качестве ее ближайшего аналога обычно рассматривается не менее известный рассказ из хроники Галла Анонима об основателе польской династии Пястов – бедном, но гостеприимном крестьянине Пясте, сын которого был поставлен новым польским правителем взамен изгнанного князя Попеля[102]. В славянском мире засвидетельствован еще один известный случай апелляции к образу правителя-крестьянина – восходящий ко временам Карантанского княжества знаменитый обряд интронизации герцогов Каринтии, в ходе которого особая социальная группа крестьян-косезов выбирала и интронизировала нового герцога, а сам кандидат в правители, выдвигаемый императором Священной Римской империи, должен был при этом облачаться в крестьянскую одежду, ведя с собою к месту церемонии лошадь и быка[103]. При этом и в Чехии, и в Польше, и в Карантании мы встречаем соответствующий священный ландшафт – специальные интронизационные поля, на которых находились каменные престолы, и другие священные места[104]. Компаративные исследования сюжетов о пахарях, ставших основателями правящих династий, показали, что здесь мы сталкиваемся с древним индоевропейским мифом о правителе – подателе плодородия[105].
Как очень верно замечает чешский историк Вратислав Ваничек, первоначальная чешская государственность характеризуется не только территориальным, но и идейным (идеологическим) континуумом, разделяемым всем обществом. В центре этого идеологического континуума оказывается правитель, обладающей священной харизмой (sacrum)[106]. Под пером Козьмы Пражского, рафинированного интеллектуала, получившего редкое по тем временам образование в кафедральной школе Льежа, элементы племенной архаики искусно вкрапляются в поистине эпическое полотно, наполненное библейскими аллюзиями и бесчисленными явными и скрытыми цитатами античных классиков[107].
В рассказе Козьмы о начале Чехии можно, вслед за современными исследователями, выделить следующие основные смысловые блоки: 1) об обретении родины праотцом Чехом и «золотом веке» древней чешской общности; 2) становлении социального порядка и появлении княжеской власти; 3) христианизации Чехии[108]. Именно первая часть представляет собой «origo gentis» в собственном смысле слова. Козьма рассказывает о приходе «в безлюдные края» человека по имени Богемус (pater Bohemus), сопровождаемого спутниками. По словам хрониста, Богемус устроил первое поселение у горы Ржип в центре будущей Чехии, установив в данной местности статуи богов (пенатов), которые его спутники принесли с собой. На вопрос Богемуса, какое имя следует дать обретенной ими стране, его спутники единогласно ответили, что лучшим названием будет «Богемия» – в честь предводителя[109].
Обычно считается, что легенда о переселении чехов принадлежит к числу древних племенных преданий. Такой мысли придерживался, в частности, Д. Тржештик, сопоставлявший легенду о Чехе с рассмотренным выше преданием о переселении хорватов и обнаруживавший в обеих легендах племенную память эпохи миграций с территории Аварского каганата[110]. Однако миф о праотце Чехе мог возникнуть гораздо позже, уже в период существования Чешского королевства, с тем чтобы легитимизировать сложившийся на основе древнего племени новый этнополитический организм – чешский народ.
Другое дело, что вне зависимости от того, когда именно возникла легенда о Чехе, в ней в любом случае обнаруживаются весьма архаичные элементы, восходящие, по-видимому, еще к дохристианской эпохе. Таков, например, мотив древнего центра страны – горы Ржип, очевидно, представлявшей собой священное место, элемент языческого сакрального ландшафта. Неслучайно еще в XII в. на горе Ржип, очевидно с целью ее символической христианизации, был воздвигнут храм Св. Георгия. Таким же архетипическим элементом исторического воображения, а не просто результатом следования античным литературным лекалам о золотом веке, вероятно, являлся и возникающий далее в рассказе Козьмы мотив эпохи мира и покоя, которым древние чехи наслаждались в период после «обретения родины».
В следующей части повествования Козьмы, посвященной становлению социального порядка и появлению княжеской власти, помимо уже упомянутой легенды о Пржемысле Пахаре, выделяется предваряющий ее сюжет о мудром судье Кроке и трех его дочерях – Кази, Тэтке и Либуше, избранной после смерти отца судьей всего племени и впоследствии ставшей супругой Пржемысла. В начале Козьма Пражский дает развернутую характеристику состояния общества, вышедшего из «золотого века» и оказавшегося в глубоком кризисе вследствие появления частной собственности и развития в людях пагубной страсти стяжательства. Люди наносили друг другу несправедливые обиды, но при этом не имели ни князя, ни судьи, к которому бы могли апеллировать в своих спорах, что побуждало их обращаться за помощью к тем своим соплеменникам, которые выделялись лучшими нравами и были уважаемы за свое богатство.
В таких обстоятельствах и произошло возвышение Крока и его семьи: «Соплеменники считали этого человека совершенным. Он располагал большим имуществом, а при рассмотрении тяжб вел себя рассудительно; к нему шел народ не только из его собственного племени, но и со всей страны, подобно тому как к ульям слетаются пчелы, так к нему стекался народ для разрешения своих тяжб. У этого столь многоопытного человека не было мужского потомства; но у него родились три дочери, которых природа щедро одарила мудростью не меньшей, чем обычно наделяет мужчин»[111].
Перед нами – чешская вариация классического мифа о герое-законотворце, ближайшая аналогия которой содержится в хронике Винцентия Кадлубка. Это польская легенда об основании Кракова легендарным Краком, избранным первым королем поляков-лехитов и давшим законы своему народу. Сюжет о трех мудрых дочерях чешского судьи Крока, каждая из которых обладала особым, важным для всего племени даром, также чрезвычайно архаичен, наполнен языческими аллюзиями и может быть осмыслен, как и некоторые элементы легенды о Пржемысле, в рамках знаменитой индоевропейской модели трех социальных функций, выявленной исследованиями Жоржа Дюмезиля. При этом стоит отметить, что у первого короля лехитов Крака тоже было трое детей – двое сыновей, поразивших чудовище, и взошедшая затем на престол дочь Ванда, роль которой в польском мифе, как уже неоднократно отмечалось в историографии, во многом аналогична роли Либуше в чешской легенде.
В отличие от чешской, содержащаяся в хронике Галла Анонима древнейшая польская легенда жанра «origo regni», тщательно изученная Я. Банашкевичем и Ч. Дептулой[112], имеет сугубо династический, а точнее политический характер. Собственно этнические параметры формирующейся общности подданных Пястов здесь почти не прослеживаются.
Галл Аноним сообщает о том, как во время правления князя Попеля в городе Гнезно двух чужеземцев, которые хотели попасть на пир, готовившийся в честь пострижения сыновей правителя, не только не пригласили на празднество, но даже грубо отогнали от входа в город. После этого, по словам хрониста, «чужеземцы спустились в пригород и по счастливой случайности пришли к домику пахаря вышеназванного князя, устраивавшего пир в честь своих сыновей»[113]. Бедный пахарь Пяст и его супруга Репка оказались гостеприимны и пригласили странников в свой дом. На пиру в честь пострижения сына Пяста произошло чудо: еда и питье не убывали, так что на пир решили пригласить и самого князя. Чужеземцы совершили обряд пострижения сына Пяста, дав ему имя Земовит, «согласно предсказаниям о будущем»[114]. Этим будущим стало вокняжение династии Пяста вместо династии Попеля. «После того, как все это произошло, мальчик Земовит, сын Пяста, внук Котышко, рос, мужал и с каждым днем выказывал свое благородство до такой степени, что Царь царей и Князь князей ко всеобщей радости назначил его князем Польши и совершенно изгнал из королевства Попеля со всем его потомством»[115].
Если вынести за скобки отдельные элементы повествования (вроде истории о гибели Попеля, искусанного мышами, которую Галл Аноним передает со ссылкой на «глубоких старцев», и в которой без труда обнаруживается бродячий литературный сюжет), фабула польского «origo regni» как целостного произведения стала объектом двух разных интерпретаций, различие между которыми заставляет вспомнить о полемике между Венской и Торонтской школами относительно интерпретации этногенетических мифов. В то время как Банашкевич в своем классическом исследовании обнаруживает в рассказе Галла Анонима дохристианскую традицию, воспроизводящую как структурно, так и на уровне отдельных элементов архаичные представления о власти, характерные для индоевропейских народов[116], Дептула усматривает в рассказе о сыне бедного пахаря, ставшего правителем, сугубо христианский смысл и использование библейских матриц[117]. Разграничение языческих (или универсальных) и христианских мотивов, несомненно, является важной проблемой в интерпретации средневековых нарративов о началах. Для нас же важно подчеркнуть то, что разница в интерпретациях не влияет на понимание роли, которую легенда придает роду Пястов в формировании нового социально-политического порядка. Как замечает М. Карп, повествование Галла Анонима о началах Польши оперирует сугубо династическо-территориальными категориями, причем династия оказывается первичным фактором, а государство, понимаемое как совокупность территорий, – вторичным. Галл чаще говорит о стране, чем дает этнические определения ее жителям, причем «творцами страны» выступают Пясты[118].
Отсутствие в повествовании Галла этногенетического мифа, с одной стороны, вполне соответствует характеру раннесредневековой польской идентичности, постепенно формировавшейся на основе принадлежности к державе Пястов, а, с другой стороны, в очередной раз позволяет релятивизировать значение этнического дискурса в историческом воображении, говоря о существовании в средневековом историописании такой стратегии в легитимизации групповой сплоченности, которая не предполагала апелляции к сфере этнического. Лишь спустя столетие краковский интеллектуал магистр Винцентий Кадлубек, используя, подобно Галлу Анониму, материал локальных племенных мифов, создаст новую версию польского «origo regni», в центре которого окажется уже не правящий род, а новое воображаемое сообщество – народ лехитов.
Архетипические структуры, обнаруженные учеными в результате компаративных исследований средневековых славянских этногенетических и династических легенд, сразу же породили трудный вопрос: как соотносились эти архаичные матрицы мышления, обнаруживающие поразительное сходство с теми, что наблюдались у народов древности, с временами классического Средневековья, когда они были записаны своими авторами – учеными клириками? Имеем ли мы право дистиллировать средневековое историописание, вычленяя из него вневременные мифы и рассматривая их вне культурного контекста эпохи, когда они были записаны?
Яцек Банашкевич, одним из первых поставивший этот вопрос на славянском материале[119], в своем труде о хронике Винцентия Кадлубка убедительно показывает, что средневековые исторические произведения отнюдь не являлись бессмысленным набором архетипов – мифологические сюжеты не только подбирались вполне сознательно, но и приобретали дополнительную символическую нагрузку в общей ткани повествования[120]. По крайней мере, такой блестящий интеллектуал, каким был магистр Винцентий, определенно знал, что делал, когда, описывая начало польского государства, рассказывал о победе сыновей легендарного Крака над чудовищем, будто бы обитавшим в разломе скалы на месте будущего Кракова[121].
65
См.: Эксле О. Г. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья / пер. и предисл. Ю. Арнаутовой. М., 2007. С. 23–38.
66
Леви-Стросс К.: 1) Первобытное мышление / пер. А. Б. Островского. М., 1994; 2) Структурная антропология / пер. В. В. Иванова. М., 2000; 3) Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль / пер. А. Б. Островского. М., 2008.
67
Dumézil G. Mythe et épopée. Vol. I: L’idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. Paris, 1968; Vol. II: Types épiques indo-européens: un héros, un sorcier, un roi. Paris, 1971; Vol. III: Histoires romaines; Idées romaines. Paris, 1973.
68
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 2012. С. 243–244.
69
О «Венской школе» см. подробно: Шпирт А. М. Венская школа исторической этнографии и проблема этногенеза в эпоху раннего Средневековья (опыт историографического обзора) // Альманах по истории средних веков и раннего Нового времени. 2013. № 3–4. С. 42–52; Kasperski R. Problem etnogenezy Gotów w ujęciu Herwiga Wolframa: Refleksje nad metodą // Kwartalnik historyczny. 2011. Rocznik 118. Z. 3. S. 399–430.
70
Wenskus R. Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen gentes. Köln; Graz, 1961; Wolfram H.: 1) Gothic history and historical ethnography // Journal of Medieval History. 1981. Vol. 7/4. P. 309–319; 2) Einleitung oder Überlegungen zur Origo Gentis // Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern. Teil I / Hrsg. von H. Wolfram, W. Pohl. Wien, 1990. S. 19–34; 3) Origo et religio. Ethnic traditions and literature in early medieval texts // Early Medieval Europe. 1994. Vol. 3/1. P. 19–38.
71
На это обстоятельство справедливо указал Ф. Курта: Curta F. The making of the Slavs: history and archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. Cambridge; New York, 2001. P. 15.
72
См.: Goffart W.: 1) The narrators of barbarian history (A D 550–800): Jordanes, Gregory of Tours, Bede, and Paul the Deacon. Princeton, 1988; 2) Does the distant past impinge on the Invasion Age Germans? // On barbarian identity: critical approaches to ethnicity in the Early Middle Ages / ed. by A. Gillett. Turnhout, 2002. P. 21–37; Gillett A.: 1) Was ethnicity politicized in the earliest medieval kingdoms? // On barbarian identity… P. 85–121; 2) Ethnogenesis: a contested model of early medieval Europe // History Compass. 2006. Vol. 4. P. 241–260; Murray A. C. Reinhard Wenskus on “ethnogenesis”, ethnicity, and the origin of the Franks // On barbarian identity… P. 39–68.
73
Подробный критический обзор актуальной дискуссии о труде Кассиодора см.: Kasperski R. Teodoryk Wielki i Kasjodor. Studia nad tworzeniem «tradycji dynastycznej Amalów». Kraków, 2013.
74
См.: Ančić M. Dva teksta iz sredine 14. stoljeća. Prilog poznavanju “društvenog znanja” u Hrvatskom Kraljevstvu // Starohrvatska prosvjeta. Ser. III. 2013. Sv. 40. S. 156; Geertz C. Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology. New York, 1983.
75
Константин Багрянородный. Об управлении империей / пер. Г. Г. Литаврина; под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. М., 1991. С. 130–133.
76
Подробнее см.: Алимов Д. Е. Этногенез хорватов: Формирование хорватской этнополитической общности в VII–IX вв. СПб., 2016. С. 136–162.
77
Wolfram H. Origo et religio. Ethnic traditions and literature in early medieval texts // Early Medieval Europe. 1994. Vol. 3/1. P. 31.
78
Wolfram H. Origo et religio. Ethnic traditions and literature in early medieval texts // Early Medieval Europe. 1994. Vol. 3/1. P. 32.
79
При этом, несмотря на все сходство со Священным Писанием, говорить о библейском влиянии, по мнению Вольфрама, все же не приходится, так как христианские авторы в данном случае следовали архаичной гентильной идеологии. Мотив божественного руководства, столь явственно выступающий в «origo gentis» лангобардов, одержавших победу над вандалами благодаря поддержке бога Годана (Одина), обнаруживает себя также в генеалогиях королевских родов ряда германских народов, где Один или Гаут (именем Гаута называется Один) выступает в качестве первопредка династии (Wolfram H. Origo et religio. Ethnic traditions and literature in early medieval texts // From Roman Provinces to Medieval Kingdoms / ed. by T. F. X. Noble. London, 2006. P. 45–47).
80
См.: Milošević A. Tko je Porin iz 30. glave De administrando imperio? // Starohrvatska prosvjeta. Ser. III. 2013. Sv. 40. S. 127–134; Алимов Д. Е. Этногенез хорватов… С. 190–197.
81
О древнейших славянских этногенетических мифах см.: Тржештик Д. Славянские этногенетические легенды и их идеологическая функция // Studia Balcanica. Т. 20: Раннефеодальные славянские государства и народности. София, 1991. С. 35–42; Leciejewicz L. Legendy etnogenetyczne w świecie słowiańskim // Slavia Antiqua. 1990. T. XXXII. S. 129-144; Banaszkiewicz J.: 1) Slawische Sagen de origine gentis (Al-Masudi, Nestor, Kadlubek, Kosmas) – dioskurische Matrizen der Überlieferungen // Mediaevalia Historica Bohemica. 1993. Vol. 3. S. 29–58; 2) Origo et religio – wersja słowiańska (o sposobach budowania tożsamości wspólnotowej w społecznościach wczesnego średniowiecza – “wzorcotwórcze pamiątki” i opowieści o nich) // Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze / red. P. Dymmel, B. Trelińska. Lublin, 1998. S. 37–62.
82
Třeštík D.: 1) Král Muž. Slovanský etnogonický mýtus v Čechách 9.–10. století // Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k semdesátinám. Brno, 1999. S. 71–85; 2) Mýty kmene Čechů (7.–10. století). Tři studie ke “Starým pověstem Českým”. Praha, 2003.
83
Тржештик Д. Славянские этногенетические легенды… С. 36.
84
Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974. Также см.: Katičić R. Božanski boj – tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine Zagreb, 2008.
85
Belaj V., Belaj J. Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije. Zagreb, 2014; Pleterski A.: 1) The trinity concept in the Slavonic ideological system and the Slavonic spatial measurement system // Światowit. 1995. Vol. 40. S. 113–143; 2) Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih // Zgodovinski časopis. 1996. Letnik 50. Št. 2. S. 163–185; 3) Kulturni genom: Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe. Ljubljana, 2014.
86
Pleterski A. Kulturni genom: Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe. Ljubljana, 2014.
87
См.: Żmudzki P. Spór o analizę strukturalną podań i mitów dotyczących “Początku” Polski: (na marginesie książek Jacka Banaszkiewicza i Czesława Deptuły) // Przegląd Historyczny. 2002. T. 93, nr. 4. S. 451–471.
88
См.: Banaszkiewicz J.: 1) Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi. Warszawa, 1986; 2) Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka. Wrocław, 1998; 3) Takie sobie średniowieczne bajeczki. Kraków, 2012.
89
Deptuła Cz.: 1) Galla Anonima mit genezy Polski: studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego. Lublin, 1990; 2) Archanioł i smok: z zagadnień legendy miejsca i mitu początku w Polsce średniowiecznej. Lublin, 2003.
90
Třeštík D. Mýty kmene Čechů (7.–10. století). Tři studie ke «Starým pověstem Českým». Praha, 2003.
91
Щавелев А. С. Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян. М., 2007.
92
См.: Skibiński E. Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy. Poznań 2009; Żmudzki P. Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynach i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi. Wrocław, 2009; Pleszczyński A., Sobiesiak J., Szejgiec K., Tomaszek M., Tyszka P. Historia communitatem facit. Struktura narracji tworczących tożsamości grupowe w średniowieczu. Wrocław, 2016.
93
Из новых работ см., например: Plassmann A. Origo gentis: Identitäts- und Legitimitätsstiftung in früh- und hochmittelalterlichen Herkunftserzählungen. Berlin, 2006.
94
Banaszkiewicz J. Slavonic origines regni: Hero the Law-Giver and Founder of Monarchy // Acta Poloniae Historica. 1989. Vol. 60. P. 97–131.
95
Kosmova kronika česká / eds K. Hrdina, M. Bláhová. Praha, 1972; Kosmova kronika česká / překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Praha; Litomyšl, 2005; Козьма Пражский. Чешская хроника / пер. Г. Э. Санчук. М., 1962. О памятнике и его авторе см. также: Třeštík D.: 1) Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. Praha, 1968; 2) Kosmas. Studie s výběrem Kosmovy kroniky. Praha, 1972.
96
Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily / Vyd. J. Ludvíkovský. Praha, 1978. О датировке памятника см.: Třeštík D. Deset tezí o Kristiánově legendě // Folia Historica Bohemica. 1980. Vol. 2. S. 7–38; Kalhous D. Legenda Christiani and Modern Historiography. Leiden; Boston, 2015.
97
О Кристиане см.: Třeštík D. Přemyslovec Kristián // Archeologické rozhledy. 1999. Roč. 51. Č. 4. S. 602–613; Sobiesiak J. 2017. Bolesław II Przemyślida. Pobożny buntownik i mąż znamienitej damy. Kraków, 2017. S. 24–29.
98
Ср. в переводе А. С. Щавелева: «Чехи, жившие под самым Арктуром, преданные идолопоклонническим культам, как необузданный конь без управления, без какого-либо предводителя или правителя, или города, блуждали подобно диким животным то там, то здесь, и населяли пустынную землю. Наконец истощенные бедствиями люди, пришли, как передает молва, к какой-то знахарке, требуя у нее совета божества. Получив его, они воздвигают город и дают ему имя Прага. После этого, найдя весьма проницательного и опытного мужа, который очень хорошо знал земледелие, по совету знахарки назначили его своим предводителем, имя ему было Пржемысл. Он сочетался браком с вышеупомянутой девой-знахаркой. И так, избежав несчастья и разных бед, с тех пор они стали ставить над собой правителей из потомства этого достойного мужа. Они продолжали служить статуям демонов и предавались неистовствам нечестивых обрядов, пока власть в этом государстве наконец не перешла к одному мужу, рожденному от этих предводителей, по имени Борживой» (цит. по: Щавелев А. С. Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян. М., 2007. С. 140, прим. 171).
99
Karbusický V.: 1) Nejstarší pověsti české, Praha 1966. S. 31–46; 2) Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. Praha, 1995.
100
Třeštík D. “Veliké město Slovanů jménem Praha”. Státy a otroci ve střední Evropě v 10. století // Přemyslovský stát kolem roku 1000: na paměť knížete Boleslava II. Praha, 2000. S. 49–50.
101
Подробнее см.: Deptuła Cz. Galla Anonima mit genezy Polski… S. 173–218; Třeštík D. Mýty kmene Čechů… S. 30–67; Щавелев А. С. Славянские легенды… С. 139–150.
102
Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich / red. K. Maleczyński. Kraków, 1952; Gall Anonim. Kronika Polska / Tł. R. Grodecki; wst., opr. M. Plezia. Wrocław, 2003; Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских / пер. Л. М. Поповой. М., 1961. Переиздание см.: Славянские хроники / сост. А. И. Цепков. СПб., 1996. С. 325–412.
103
Grafenauer B. Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev. Ljubljana, 1952; Štih P.: 1) The Middle Ages between the eastern Alps and the northern Adriatic: Select papers on Slovene historiography and medieval history. Leiden; Boston, 2010. P. 380–407; 2) Ustoličevanje koroških vojvod med zgodovino in predstavami: Problemi njegovega izročila, razvoja in poteka kot tudi njegovo razumevanje pri Slovencih // Zgodovinski časopis. 2012. Letnik 66. Št. 3–4. S. 306–343.
104
1. Наиболее известны княжеский камень и княжеский трон в Карантании, а также княжеский трон в Праге. Однако, как показывают исследования польских ученых, аналогичные места существовали и в древней Польше. См.: Boroń P. Pstrokate konie i kamienne trony. Obrzędy intronizacyjne u Słowian // Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach. Warszawa, 2008. S. 2. 187–216.
105
Deptuła Cz. Problem mitu monarchy – dawcy żywności w Polsce. Na przykładzie podania o Piaście // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1975. T. 3. S. 41–56; Třeštík D. Mír a dobrý rok: státní ideologie raného přemyslovského státu mezi křesťanstvím a “pohanstvím” // Folia Historica Bohemica. 1988. Vol. 12. S. 23–45; Banaszkiewicz J. Slavonic origines regni. P. 97–131.
106
Vaníček V. Sacrum dynastie Přemyslovců na počátku středověku (od Přemysla Oráče k svatému Václavu) // Historia Slavorum Occidentis. 2016. Nr. 2 (11). S. 32.
107
Подробнее см.: Sadílek J. Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Praha, 1997.
108
Pleszczyński A., Sobiesiak J., Szejgiec K., Tomaszek M., Tyszka P. Historia communitatem facit… S. 18–19.
109
Козьма Пражский. Чешская хроника / пер. Г. Э. Санчук. М., 1962. C. 30.
110
Třeštík D. Mýty kmene Čechů… S. 55–98.
111
Козьма Пражский. Чешская хроника. С. 35–36.
112
Banaszkiewicz J. Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi. Warszawa, 1986; Deptuła Cz. Galla Anonima mit genezy Polski: studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego. Lublin, 1990.
113
Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. 1996. С. 331–332.
114
Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. 1996. С. 332.
115
Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. 1996. С. 333.
116
Banaszkiewicz J. Podanie o Piaście i Popielu… S. 68.
117
Deptuła Cz. Galla Anonima mit genezy Polski… S. 97.
118
Karp M. J. Więź ogólnopolska i regionalna w średniowiecznych mitach początku // Przegląd Historyczny. 1981. T. 72. Z. 2. S. 212.
119
Banaszkiewicz J. Slavonic origines regni… P. 97–131.
120
Banaszkiewicz J. Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka. Wrocław, 1998.
121
Banaszkiewicz J. Smok wawelski – czyli o potrzebie obecności potwora u zarania dziejów // Dwa oblicza smoka: katalog wystawy. T. 2: Eseje / red. M. Podlodowska-Reklewska, M. Starzyński. Kraków, 2015.