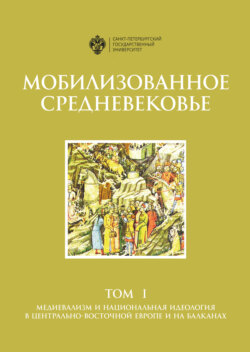Читать книгу Мобилизованное Средневековье. Том 1. Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 6
Глава I. Медиевализм до медиевализма. Историческое воображение и этнический дискурс в средневековой Центрально-Восточной Европе
«Другой Рим»: антикизация прошлого в историческом воображении
ОглавлениеПри всей популярности гуннской и готской традиций, обращение к средневековым историческим сочинениям показывает, что «превращение» в потомков гуннов или готов было далеко не единственной возможной стратегией для того, чтобы обрести достойных предков, способных конкурировать в доблестях и славе с римлянами. При наличии должной эрудиции и таланта можно было даже создать новую, неизвестную доселе, эпохалистскую идентичность в античном интерьере. Классическим примером подобного подхода является знаменитый труд валлийского историка Гальфрида Монмутского «О деяниях бриттов» («De gestis Britonum») (ок. 1136 г.)[203], где конструируется квазиимперская «бриттская» идентичность, а древняя Британия выступает равноправным партнером и соперником Римской империи[204]. Похожее явление наблюда ется и в труде датского историка Саксона Грамматика «Деяния данов» («Gesta Danorum») (ок. 1200 г.)[205]. Созданный в период датского великодержавия, когда сфера влияния датской короны простиралась от Рюгена до Эстонии, труд Саксона Грамматика представляет нам величественную картину истории «балтийской империи» данов[206], которая посредством использования антикизирующих географических и этнических названий, а также недвусмысленных исторических аллюзий вызывает у читателя однозначные ассоциации со «средиземноморской империей» римлян[207].
Примером такой стратегии в интересующих нас странах Центральной Европы является «империя лехитов» – дискурсивный конструкт, созданный гением краковского каноника (будущего краковского епископа) Винцентия Кадлубка, одного из образованнейших людей Польши в XII–XIII столетиях. Свое произведение «Хроника поляков» («Chronica Polonorum») магистр Винцентий облекает в форму изысканного по своим риторическим свойствам диалога двух ученых мужей – гнезненского архиепископа Яна (1146–1167 гг.) и краковского епископа Матвея (1143–1166 гг.)[208]. Вымышленный разговор двух интеллектуалов переполнен цитатами и аллюзиями, выдающими колоссальную начитанность Кадлубка. Тут и Цицерон, и Сенека, и Лукан, и Платон, и Овидий, и Макробий и множество других авторов, не исключая и современников магистра[209]. При этом важно отметить, что все это книжное знание использовалось автором отнюдь не только в риторических целях. Оно помогло Кадлубку, во-первых, сформировать уникальный «республиканский» политический идеал, отвечавший интересам краковской элиты эпохи правления Казимира II Справедливого (1177–1194 гг.)[210], а во-вторых, как некогда Кассиодору в случае с готами, «вернуть из забвения» славные деяния лехитов, то есть поляков, искусно сконструировав при этом такую версию истории, которая отвечала вышеупомянутому политическому идеалу.
Согласно магистру Винцентию, предки поляков – лехиты – издревле были доблестным народом-воителем. Их история прослеживается автором со времен древних галлов, которые сами будучи великими завоевателями, сумевшими захватить Рим, столкнулись с лехитами, когда покорили Паннонию. Однако справиться с лехитами им не удалось, и, заключив перемирие, два могучих народа фактически поделили между собой Европу. В то время как в руках галлов уже оказалась Греция, «нашим», сообщает Кадлубек, достались земли, «тянувшиеся с одной стороны вплоть до страны парфян, с другой – вплоть до Болгарии, с третьей – до границ Каринтии»[211]. Так возникла огромная «империя» лехитов, дожившая до времен раннего Средневековья. Вызывает интерес само происхождение названия «лехиты». В источниках, предшествующих труду Кадлубка, оно не встречается, хотя существовал ряд похожих племенных этнонимов – лендзяне, личики, лицикавики, о соотношении которых друг с другом в науке уже более столетия ведутся бесплодные споры[212]. Известно также, что на Руси всех подданных державы Пястов именовали «ляхами» – названием, произведенным от имени польского племени лендзян, обитавшего в верховьях Буга и Стыри[213]. Все это позволяет думать, что лехитская идентичность была сконструирована Кадлубком из наличного славянского материала по образцу античных этнонимов.
Первым правителем лехитов, согласно Кадлубку, был Гракх (Крак), прибывший из Каринтии и основавший Краков. История Крака и двух его сыновей, победивших чудище (holophagus), обитавшего в пещере под Вавелем, несомненно, заключает в себе элементы древних мифов, восходящих, вероятно, еще ко временам древнего Вислянского княжества (IX–X вв.), чьим племенным центром являлся Краков. Так, уже само имя Крака, трактуемое исследователями как древнее славянское понятие, обозначавшее «законотворца», вызывает ассоциации с именем легендарного правителя чехов – мудрого судьи Крока, известного из «Чешской хроники» Козьмы Пражского[214]. Сходство имен этих персонажей, конечно же, не является случайным, отражая сходство их исторических ролей. Подобно чешскому Кроку, Крак в повествовании магистра Винцентия предстает в роли культурного героя: он сообщает лехитам законы и становится их первым королем, фактически создавая тем самым новый народ. Победу сыновей Крака над чудовищем также следует трактовать как преодоление хаоса и рождение новой цивилизованной общности людей[215]. Наконец, сообщение магистра Винцентия о том, что Крак пришел (вернулся) в район Вавеля из Каринтии, заставляет вспомнить древние этногенетические легенды с характерным для них топосом миграции племени и/или прихода извне первого правителя[216].
Показательно, однако, что, вводя в свое повествование автохтонный миф о Краке и придавая этому «культурному герою» ключевую в своей исторической концепции роль законотворца и основателя державы лехитов, магистр Винцентий антикизирует имя своего героя, называя его Гракхом (Graccus). Таким образом, возникает аллюзия к известному персонажу римской истории – трибуну-законотворцу Тиберию Семпронию Гракху (ок. 163–133 гг. до н. э.), что хорошо соответствовало как республиканским политическим идеалам самого магистра Винцентия, так и роли Крака как «устроителя общества» в исходном славянском мифе.
Параллели с римской историей можно при желании усмотреть и в самой сюжетной линии рассказа об основании Кракова. Так, история победы сыновей Крака над чудовищем может вызвать ассоциации с победой Геркулеса над «полузверем» Каком, обитавшим, согласно «Энеиде» Вергилия, в пещере на месте будущего Рима, а описанная затем магистром Винцентием история убийства младшим сыном Крака, стремившимся стать наследником отчего престола, своего старшего брата способна вызвать в памяти историю Ромула и Рема. Впрочем, даже если считать эти параллели случайными, Краков неминуемо должен был обретать в глазах образованного читателя черты Рима, ведь основанный Краком город был метрополией великой империи – империи лехитов.
Искусное переплетение автохтонных славянских мифов Краковской земли с разного рода античными сюжетами и реминисценциями продолжается и в дальнейших главах, где магистр Винцентий посредством вымышленного диалога двух прелатов продолжает знакомить читателя с важнейшими вехами истории лехитов. Чрезвычайно интересен в этом отношении сюжет о дочери Крака Ванде, избранной правительницей лехитов после короткого правления его сына Крака II.Согласно Кадлубку, Ванда была чрезвычайно мудрой женщиной, обладавшей сверхъестественными способностями. С их помощью она сумела остановить выступившее против лехитов войско «леманского» (алеманнского, немецкого) тирана. Современные исследователи отмечают чрезвычайную архаичность сюжета о Ванде[217], обнаруживая любопытные параллели ему в скандинавской и кельтской мифологиях[218]. Между тем, рассказывая о Ванде, магистр Винцентий не ограничивается пересказом древнего мифа: он сообщает о том, что в честь Ванды получила свое название река Вандал, именуемая также Вислой, в то время как подданные королевы Ванды стали именоваться вандалами[219].
Как видно, Кадлубек связал миф о Ванде с распространенным в средневековой Европе отождествлением поляков с древним народом вандалов. Это отождествление, впервые встречающееся еще в Х столетии в «Чудесах св. Одальрика», где польский князь Мешко назван «дуксом вандалов»[220], может объясняться, как полагают современные исследователи, двумя факторами. Первым было очевидное сходство этнонима «вандалы» с германским названием славян «венды», а вторым – восприятие средневековыми авторами представлений античных географов о проживании вандалов на севере Центральной Европы[221]. Ко времени появления труда Кадлубка отождествление поляков с вандалами было весьма распространенным в Западной Европе и, судя по сообщению Гервазия Тильбурийского о том, что он узнал о вандальском происхождении поляков от своего польского знакомого, пустило корни и в самой Польше[222]. Важно, однако, что Кадлубек, как справедливо отмечает польский исследователь В. Михальский, подчиняет концепцию тождества поляков и вандалов автохтонному мифу о Ванде. Иными словами, согласно Кадлубку, это лехиты стали называться вандалами, а не вандалы – лехитами[223].
Антикизации в труде Кадлубка подверглись не только персонажи ранней истории лехитов, но и древние польские города. Так, описывая сопротивление, которое древние лехиты будто бы оказали самому Александру Македонскому, магистр Вицентий цитирует фиктивное письмо Александра Великого своему учителю Аристотелю, где македонский царь рассказывает о своей победе над лехитами и взятии славного города под названием «Caraucas». Данный город, естественно, отождествляется Кадлубком с Краковом, который, вообще говоря, на античный манер повсеместно именуется им «Гракховией». Здесь, впрочем, следует отметить, что фигура Александра Великого, историю деяний которого магистр Вицентий хорошо знал из античной литературы, была весьма популярна в средневековой Европе благодаря особому жанру сочинений – «Александридам». Александр Великий принадлежал к числу излюбленных персонажей средневековых авторов, и его присутствие в древней лехитской истории могло казаться чем-то совершенно естественным. Согласно магистру Винцентию, лехитам все же удалось победить войско завоевателя благодаря военной хитрости одного из жителей – златоткача, прозванного Лешеком[224]
203
В русском переводе см.: Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина / изд. подгот. А. С. Бобович, А. Д. Михайлов, С. А. Ошеров. М., 1984.
204
Согласно Гальфриду Монмутскому, родоначальник бриттов Брут был праправнуком троянца Энея. Как подчеркивает К. Р. Кобрин, внутренний сюжет книги Гальфрида Монмутского – это «борьба Рима и Британии, борьба старшего и младшего братьев, сыновей одного отца (Трои)» (Кобрин К. Р. Средние века: очерки о границах, идентичности и рефлексии. М.; СПб., 2016. С. 23).
205
В русском переводе см.: Саксон Грамматик. Деяния данов: в 2 т. / пер. С. Досаева. М., 2017.
206
Как замечает датский исследователь Ларс Мортенсен по поводу труда Саксона Грамматика, основной проблемой, вставшей перед средневековым историком, стремившимся написать «амбициозную историю германского народа», было определение отношений между культурой данного народа и римской культурой – эталонной для мыслившего универсалистскими категориями средневекового читателя. Соответственно, по мнению исследователя, Саксон Грамматик столкнулся с четырьмя возможными опциями: 1) забыть о языческом прошлом и начать историю с принятия римского христианства и распространения латинского языка; 2) связать Данию с Римом через миф о происхождении или некие древние контакты; 3) минимизировать важность языческой эпохи для датчан, подчеркнув их прежнюю отсталость и стремительное возвышение с принятием христианства; 4) возвеличить языческое прошлое Дании, придав ему самоценный характер, то есть сконструировать по классическим лекалам образ древней датской «цивилизации». Как видно, Саксон Грамматик пошел именно по четвертому пути, который Мортенсен справедливо считает самым трудным. В отличие от Гальфрида Монмутского, прочно связавшего римлян с бриттами легендой об их общем происхождении и превратившего их таким образом в «братские народы», что можно рассматривать как частный случай легитимизации через прославленных предков, Саксон Грамматик обходится без подобных генеалогических конструкций, что, однако, отнюдь не мешает ему конструировать свою древнюю датскую «империю» как совершеннейший аналог империи Римской (Mortensen L. Saxo Grammaticus’ View of the Origin of the Danes and his Historiographical Models // Cahiers de l’Institut du Moyen-Age Grec et Latin. 1987. Vol. 55. P. 175–176).
207
Подробнее см.: Mortensen L. Saxo Grammaticus’ View of the Origin of the Danes and his Historiographical Models // Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec Et Latin. 1987. Vol. 55. P. 169–183; Bailey Ch. L. Saxo Grammaticus: History and the Rise of National Identity in Medieval Denmark. Masters Theses. Charleston (Ill.), 2002.
208
Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum / red. M. Plezia. Kraków, 1994 (Monumenta Poloniae Historica. Nova series. T. 11); Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek). Kronika polska / przeł. i oprac. B. Kürbis. Wrocław, 2008.
209
Skibiński E. Źródła erudycji Kadłubka // Roczniki Historyczne. 1994. R. 60. S. 163–172; Chmielewska K.: 1) Recepcja rzymskiej literatury antycznej w Kronice polskiej Mistrza Wincentego // Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego / red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz. Warszawa, 2009. S. 215–230; 2) The Impact and Influence of Antiquity and the Bible in the Chronica Polonorum // Writing History in Medieval Poland. Bishop Vincentius of Cracow and the “Chronica Polonorum” / ed. by D. von Güttner-Sporzyński. Turnhout, 2017. P. 119–137; Kałuża Z. Vincentius’s Chronicle and Intellectual Culture of the Twelfth Century // Writing History in Medieval Polan… P. 139–173.
210
О политических идеалах Винцентия Кадлубка см.: Флоря Б. Н. Польская общественная мысль на переломе от раннего к развитому Средневековью // Власть и общество в литературных текстах Древней Руси и других славянских стран (XII–XIII вв.) / отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 2012. С. 231–276; Mądrowska E. Polska jako “patrimonium”, “regnum” i “res publica” w “Kronice” Mistrza Wincentego // Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane Jadwidze i Edmundowi Kotarskim / red. I. Kadulska, R. Grześkowiak. Gdańsk, 2004. S. 41–46; Domański J. “Kronika Polska” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem a kultura humanistyczna XII wieku (próba analizy kilku wątków prologu dzieła) // Społeczeństwo i Rodzina. 2006. R. 9. Z. 4. S. 4–34; Bieniak J. Jak Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój państwa polskiego // Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego / red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz. Warszawa, 2009. S. 39–46; Lis A. Rex iustus – model władcy w średniowiecznej Polsce (na przykładzie Kroniki polskiej mistrza Wincentego) // Przegląd Prawno-Ekonomiczny. Rocznik 2012. Nr. 21. S. 26–49; Żmudski P. Vincentius’s Construct of a Nation: Poland as res publica // Writing History in Medieval Poland… P. 175–198.
211
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek). Kronika polska / przeł. i oprac. B. Kürbis. Wrocław, 1992. S. 9.
212
Из новых работ см., например: Banaszkiewicz J. “Lestek” (Lesir) i «Lechici» (Lesar) w średniowiecznej tradycji skandynawskiej // Kwartalnik Historyczny. 2001. T. 108. Z. 2. S. 3–23.
213
Parczewski M. Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej // U źró deł Europy środkowo-wschodniej: pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań archeologicznych / red. M. Dębiec, M. Wołoszyn. Rzeszów, 2007. S. 161–176.
214
Panic I. Krak w polskiej i czeskiej tradycji wczesnośredniowiecznej // Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej / red. A. Barciak, W. Iwańczak. Katowice, 2006. S. 48–61; Skibiński E. Wanda i Lubosza. Mit i motyw – kilka uwag o budowie opowiadań w tekstach kronik średniowiecznych // Formuła – Archetyp – Konwencja w źródle historycznym. Materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne. Kazimierz Dolny 14–15 grudnia 2000 r. / red. A. Górak, K. Skupieński. Lublin; Radzyń Podlaski; Siedlce, 2006. S. 35; Wojtczak J. Legendarni przodkowie dynastii Przemyślidów w świetle dziejopisarstwa czeskiego // Historia Slavorum Occidentis. 2013. Nr. 1(4). S. 118.
215
Подробнее см.: Banaszkiewicz J.: 1) Slavonic origines regni: Hero the Law-Giver and Founder of Monarchy // Acta Poloniae Historica. 1989. Vol. 60. P. 97–131; 2) Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka. Wrocław, 1998; Álvarez-Pedrosa J. A. Krakow’s Foundation Myth: An Indo-European theme through the eyes of medieval erudition // The Journal of Indo-European Studies. 2009. Vol. 37. Nr. 1–2. P. 164–177.
216
Об истоках мифа о каринтийском происхождении Крака см.: Grzesik R. Południowosłowiańskie wątki w małopolskiej tradycji historycznej XIII w. // Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego / red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz. Warszawa, 2009. S. 287–293.
217
Помимо вышеуказанной монографии Я. Банашкевича, где подробно анализируется данный миф, см. также: Plezia M. Wanda, geneza imienia – geneza legendy // Plezia M. “Scripta minora”. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek. Kraków, 2001. S. 345–358; Lis A. Legenda o Wandzie w historiografii – spór o interpretacje // Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej. T. II / red. A. Lis. Lublin, 2012. S. 131–154; Słupecki L. P. Krak i Wanda przed Kadłubkiem, u Kadłubka i po Kadłubku // Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego / red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa, 2009. S. 160–189; Śniadała P. Kim jest Wanda, co Niemca nie chciała? Próba reinterpretacji mitu o Wandzie zawartego w “Kronice Polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem // Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej. 2011. R. 17. S. 227–235.
218
Słupecki L. P. Vanda Mari, Vanda terrae, aeri Vanda imperet. The Cracowian tripartie earthheaven-sea formula and her Old-Icelandic, Old-Irish and Old-High-German counterparts // Światowit. 1995. T. 40. S. 158–167.
219
«Ab hac Wandalum flumen dicitur nomen sortitum, quod eius regni centrum extiterit; hinc omnes sunt Wandali dicti; qui eius subfuere imperiis» (Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum / red. M. Plezia. Krakow, 1994. P. 13).
220
Подробнее см.: Strzelczyk J. Wandalowie i ich arfykańskie państwo. Warszawa, 1992.
221
Michalski W. Kronika Dzierzwy z kolekcji historycznej Macieja z Grodziska. Krótko o cennym zabytku średniowiecznego dziejopisarstwa i jego kulturowym znaczeniu // Bibliotekarz Lubelski. 2017. Rocznik XL. S. 55–56.
222
Strzelczyk J. Ut ab Ipsos indigenis accepi. W kwestii polskiego informatora Gerwazego z Tilbury // Przegląd Zachodniopomorski. 2006. Rocznik XXI. Z. 4. S. 63–69.
223
Michalski W. Kronika Dzierzwy… S. 56.
224
Подробный анализ мифа см.: Banaszkiewicz J. Podanie o Lestku I Złotniku. Mistrza Wincentego Kronika polska I 9, 11 // Studia Źródłoznawcze. 1987. T. XXX. S. 39–50.