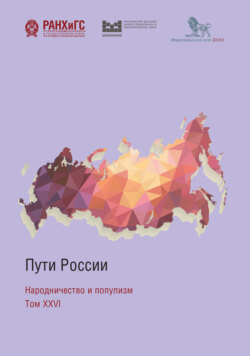Читать книгу Пути России. Народничество и популизм. Том XXVI - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 6
Народничество
«Предтечи большевизма», «злейшие враги марксизма» и «подлинные революционеры»: исторические портреты народников
«Свой бог, своя религия»: СЕКТАНТСТВО ИЛИ ЭТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ?
ОглавлениеВопрос о религиозности народников, как и революционного движения в целом, эсхатологичности, мессианства, религиозной экзальтации также постоянно поднимался исследователями. Народничество стало «национальной религией тех, кто отрекся от Бога, не верил власти и не принадлежал к народу»[60], считает Л. Г. Березовая. Как разновидность религиозного типа сознания, скрытого за секуляристской оболочкой, трактует народничество и Е.Б. Рашковский[61]. Ф. Помпер также отмечает религиозный характер народнического движения, чувство общности народников-пропагандистов с первыми христианами, использование языка и символов христианства, которое могло в некоторых случаях быть и признаком «религиозной амбивалентности»[62], что означало сохранение веры в Бога, заложенной еще в детстве, но соединение ее с верой в народ, в революцию и особую миссию интеллигенции. Недавно изданная фундаментальная работа Юрия Слезкина вновь предлагает трактовку не народничества, но большевизма в рамках концепции религиозного сектантства[63].
Воспоминания самих народников действительно дают немало оснований для характеристики народничества как движения, содержащего значительный религиозный компонент. Как убедительно показала Ф. Фишер фон Вайкерсталь, до настоящего времени исследователи часто продолжают некритически воспроизводить образы революционеров, созданные ими в автобиографиях и воспоминаниях[64]. Потребность в нравственных идеалах наряду с нарастающим разочарованием в церкви, влияние Чернышевского (религиозный компонент его творчества подробно раскрыт в работе И. Паперно[65]) приводили к переосмыслению христианства, наполнению религиозных символов новым содержанием или использованию сложившегося религиозного языка для выражения революционных идей. Фигнер вспоминала: «…Но и у меня был свой бог, своя религия – религия свободы, равенства и братства. И во славу этого учения я должна была перенести все»[66]. Религиозные метафоры в текстах о революции не являются исключительной характеристикой народников, ими наполнены сочинения К. Маркса, не говоря уже о литературе XIX – начала XX века.
Страдание и смерть придавали сакральный характер революционной деятельности, соединяя участников революционного движения со святыми мучениками, вписывая в одну общую историю первых христиан (показательно обращение именно к раннему христианству) и революционеров-народников, которые принадлежали к одному пространству: пространству борьбы за общее благо, принесение себя в жертву ради наступления нового «царства». В этом общем сакральном пространстве стиралось различие между историческими эпохами, соединялось прошлое и настоящее. «Смерть казалась желанной, она сплелась с идеей мученичества, понятие о святости которого закладывалось в детстве традициями христианства, а затем укреплялось всей историей борьбы за право угнетенных», – писала Фигнер[67]. О влиянии христианства Фигнер подробно писала в главах, не вошедших в «Запечатленный труд», но опубликованных отдельно в 5-м томе ее собрания сочинений. Она подчеркивала отстраненность от церкви, но важность и близость для нее христианского учения, что стало во многом характерным для российской интеллигенции начала XX века. «Как это ни странно, я, которая без особенной борьбы рассталась с официальной религией, привитой в детстве и отчасти сохраненной в школе, я, совершенно равнодушная ко всем церковным установлениям и, как естественница по образованию, примкнувшая к материалистическому миропониманию, была, однако, насквозь пропитана христианскими идеями аскетизма и подвижничества»[68].
В воспоминаниях Чарушина отмечается индифферентное отношение к религии его поколения, но признается важность для него евангельского учения: «…истинной религиозности в детстве нам не внушали, а наша официальная церковность, скорее, действовала на нас не в положительном смысле, а в отрицательном. И лишь евангельское учение импонировало нам, но не как божественное откровение, а как моральная доктрина, во многом совпадающая с усвоенными нами понятиями и принципами»[69]. В. Засулич также вспоминала о чтении Евангелия в детстве, о сопереживании и отношении к богу, размышляя об истинной религиозности: «Не его заступничества просить мне хотелось, а служить ему, спасать его. Года через четыре я уже не верила в бога и легко рассталась я с этой верой. ‹…› А единственное в религии, что врезалось в мое сердце, – Христос, – с ним я не расставалась; наоборот, как будто связывалась теснее прежнего»[70].
Конфликт между христианскими ценностями и практикой революционной деятельности (неизбежно возникавший вопрос о насилии в революции) приводил либо к обоснованию необходимости жертв в рамках религиозного дискурса, либо совмещению различных языков, параллельности дискурсов. Конфликт осознается и авторами революционных мемуаров. Так, например, Фигнер, описывая Людмилу Волкенштейн как настоящего революционера, полностью преданного идее и делу революции, готового совершить террористический акт, пожертвовать своей жизнью и жизнью других людей, особо отмечает случай в крепости, когда Волкенштейн не хотела даже случайно раздавить насекомое. В биографическом очерке о Волкенштейн Фигнер пишет, что человека более гуманного по отношению к людям трудно было встретить, и удивляется, как ее любовь к людям могла совмещаться с насилием и террором. Объясняя ее превращение в террористку, Фигнер использует типичное для народнических автобиографий и биографий положение – ответственность возлагается на несправедливый политический и экономический порядок, эксплуатацию народа и невозможность свободной общественной деятельности[71]. Сама Фигнер, участвовавшая в подготовке террористических актов, признавала, что она готова была бы совершить по крайней мере три убийства в том случае, если бы подтвердились подозрения в предательстве некоторых участников революционной организации, и в убийстве царя или высокопоставленных чиновников она не видела конфликта с евангельским учением, оправдывая насилие свободой и благом народа.
Моральные нормы, характерные для чайковцев, имеющие даже большее значение, чем политические взгляды, определяли и отношение к террору. То, что к террору перешли их товарищи, которым они безусловно верили и считали их убежденными революционерами, идейными народниками, заставляло поверить в необходимость и правильность выбранной тактики, хотя сомнения оставались. Чарушин писал об обсуждении террора уже находившимися в Сибири народниками: «Мы не могли не приветствовать открытого перехода к политической борьбе, а следовательно, несмотря на все наше отвращение к убийствам, – и к террору, так как иных путей для активной политической борьбы мы тоже не находили. Правда, приветствуя этот переход, не все из нас без большой внутренней борьбы для себя приняли его как одну из форм этой борьбы»[72]. Чарушин вспоминал, как, выйдя на поселение, встречаясь в Селенгинске с Брешко-Брешковской, они как будто снова были в России, переживая вместе все печали и невзгоды, но бессильные найти верный путь. Только Брешко-Брешковская была далека от всех сомнений, признавая террор во всех его видах[73].
Служение народу и освобождение его часто описывается как «символ веры». Религиозными метафорами наполнено и описание событий 1873-1874 годов, само «хождение в народ» часто называется «крестовым походом в российскую деревню». По мнению Чарушина, «люди безгранично верили в свою великую миссию, и оспаривать эту веру было бесполезно. Это был в своем роде чисто религиозный экстаз, где рассудку и трезвой мысли уже не было места»[74]. Обратим внимание на отстраненный характер описания Чарушина, явно не разделявшего такого отношения к пропагандистской деятельности. В то же время чайковцы видели в религиозности народа одно из препятствий для социальной революции и старались вести антирелигиозную пропаганду среди рабочих. Министерство внутренних дел сообщало о Чарушине: «…старался внушить рабочим, что мощей нет, и вообще подорвать в своих слушателях религиозное чувство»[75]. Хотя достаточно быстро чайковцы осознали, что, если они хотят сохранить доверительные отношения в рабочей, а тем более в крестьянской среде, они должны избегать вопросов религии в своих беседах.
Как провести границу между этикой и религией, говоря о состоянии умов той эпохи? С. Моррисей употребляет термин «моральная экономика» (moral economy), традиционно используемый в исследованиях крестьянства (возникает вопрос, насколько вообще возможно использование этого термина применительно к революционному движению), чтобы описать «комплекс этических ориентиров, обусловленный общими ценностями, установками, соглашениями и нормами», в то время как для нас более важной является связь между этикой и идентичностью. В связи с этим мы предпочитаем использовать термин «этический рационализм», а не термин «моральная экономика». Мы согласны с Моррисей, что народники в целом соединяли моральные и идейные поиски, но полагаем, что это являлось не способом оправдания, а основанием их действий[76]. И кружок чайковцев является ярким примером движения, основанного не столько на конкретной политической программе, сколько на этических нормах (во многом реакцией на дело Нечаева, отвергая его принципы и стараясь предотвратить «нечаевщину» как явление). Этический компонент в кружке чайковцев был отмечен Вентури, ссылавшегося на воспоминания Л. Шишко; по его мнению, именно этическое основание политического идеала позволило чайковцам избежать сектантства[77]. Вентури провел четкую границу между этической составляющей народничества и религиозным языком описания, считая последний не более чем формой.
60
Березовая Л.Г. Самосознание русской интеллигенции начала XX века. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1994. С. 51.
61
Рашковский Е.Б. Об одной из социально-психологических предпосылок институционализма в развивающихся странах (еще раз о проблеме «популизма» в странах третьего мира) // Общество, элита и бюрократия в развивающихся странах Востока. М., 1974. Кн. 1. С. 68–70.
62
Pomper P. The Russian Revolutionary Intelligentsia. Harlan-Davidson, Wheeling, Illinois, 1993. P. 117–118.
63
Slezkine Yu. The House of Government: A Saga of the Russian Revolution. Princeton: Princeton University Press, 2017.
64
Fischer von Weikersthal F. «I could hardly be called an ignorant fanatic» // AvtobiografiЯ. 2017. № 6. P. 54. Блестящий анализ комплекса автобиографий народников, написанных специально для словаря «Деятели СССР и революционного движения в России» в середине 1920-х годов, был проведен Хильдой Хугенбум, исследовавшей тексты с точки зрения гендерной специфики автобиографического письма и соответствия «модели», предложенной авторам Верой Фигнер (Hoogenboom H. Vera Figner and Revolutionary Autobiographies: The Influence Gender on Genre // Women in Russia and Ukraine / ed. by R. Marsh. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 78–93).
65
Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: НЛО, 1996.
66
Фигнер В.Н. Запечатленный труд. Т. 2. М.: Мысль, 1964. С. 9.
67
Фигнер В.Н. Запечатленный труд. Т. 2. М.: Мысль, 1964. С. 16.
68
Фигнер В.Н. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. М., 1933.
69
Чарушин H.A. О далеком прошлом. М., 1973. С. 65.
70
Засулич В.И. Воспоминания. М.: Издательство Общества политкаторжан, 1931. С. 14–15.
71
Фигнер В.Н. Шлиссельбургская узница Людмила Александровна Волкенштейн // Былое. 1906. № 3. С. 263–64.
72
Чарушин H.A. О далеком прошлом на Каре. М., 1929. С. 55.
73
Чарушин H.A. О далеком прошлом. М., 1973. С. 181.
74
Чарушин H.A. О далеком прошлом. М., 1973. С. 202.
75
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 91. Д-3. 1893 г. Д. 354. Т. 1. Л. 8 об.
76
Morrissey S.K. The «Apparel of Innocence»: Toward a Moral Economy of Terrorism in Late Imperial Russia // The Journal of Modern History. 2012. Vol. 84. No. 3. P. 607–642.
77
VenturiF. Op. cit. P. 471.