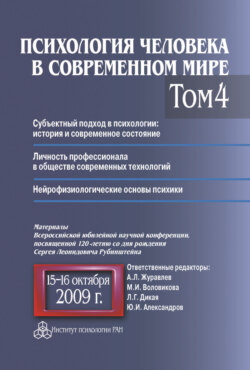Читать книгу Психология человека в современном мире. Том 4. Субъектный подход в психологии: история и современное состояние. Личность профессионала в обществе современных технологий. Нейрофизиологические основы психики. Материалы Всероссийской юбилейной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения С. Л. Рубинштейна, 15–16 октября 2009 г. - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 11
Часть 1. Субъектный подход в психологии: история и современное состояние
Субъектный подход в психологии духовных способностей
ОглавлениеГ. В. Ожиганова (Москва)
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 08–06-00355а.
Внастоящее время в отечественной психологии субъектный подход существует как целостное научное мировоззрение, связанное с гуманистически ориентированной парадигмой исследований, которая становится все более и более распространенной. По мнению Д. А. Леонтьева, в психологии наблюдается отход от классической модели и движение в сторону признания уникальности человека и его сознания как объекта изучения, что диктует необходимость разработки гуманитарной методологии, в русле которой личность рассматривается как активный субъект, самосозидающий и самодетерминируемый, который способен быть источником и причиной своих действий (Леонтьев, 2007).
Основы субъектного подхода заложил С. Л. Рубинштейн в своей теории личности. В его концепции подчеркивается, что человек не пассивная, рефлекторная машина, а сознательное мыслящее существо, субъект практической и теоретической деятельности. Так, выделяется определяющее свойство субъекта – активность. Субъект не только познает мир, но и изменяет его, изменяя его, он изменяет и самого себя.
А. В. Брушлинский пишет: «Гуманистическая трактовка человека как субъекта противостоит пониманию его как пассивного существа, отвечающего на внешние воздействия (стимулы) лишь системой реакций, являющегося… продуктом (т. е. только объектом) развития общества» (Брушлинский, 1997, с. 40).
Основополагающее свойство субъекта – его активность – связывается современными сторонниками субъектного подхода с идеями о порождающей, творческой функции психики, которые выдвигаются как противовес доминировавшей в советской психологии отражательной модели психики. В них слышны отголоски концепции Рубинштейна, обрисовывающей «облик человека-творца, который, изменяя природу и перестраивая общество, изменяет свою собственную природу…» (Рубинштейн, 2002, с. 644).
Так, Л. А. Микешина и М. Ю. Опенков пишут: «Субъект творит истину, преобразуя объект, себя и свое знание о мире и объекте» (Микешина, Опенков, 1997, с. 66). Микешина подчеркивает, что в науке на протяжении длительного периода господствовала метафора «познающий человек – это зеркало», которая «существенно искажала реальное положение дел, заставляя ожидать от познающего копий, зеркально точных отражений действительности, тогда как на самом деле ожидание и, соответственно, оценка результатов должны быть другими, поскольку познание всегда идет „в режиме“ выдвижения гипотез, что предполагает господство творческого, интуитивного и изобретательного начала, интерпретацию и проверку гипотез, активное смыслополагание, создание идеальных моделей и другие приемы, не отражательного, а конститутивного и истолковывающего характера» (Микешина 2002, с. 16.).
Шадриков так же, как и вышеупомянутые современные авторы, говорит о том, что в отечественной психологии долгое время господствовала методологическая парадигма, основанная на жестких принципах внешнего детерминизма психики, обусловленная философской концепцией отражения. Отражательная функция психики превалировала в теоретических построениях, которые служили отправной точкой для эмпирических исследований. Шадриков полагает, что сегодня пришло время изучения внутреннего мира человека и внутренней психической жизни человека как реальности (для этого существуют как теоретические, так и экспериментальные предпосылки). Он выдвигает следующую важную идею: внутренний мир человека представляет собой потребностно-эмоционально-информационную субстанцию, которая может рассматриваться как душа человека в ее научном понимании (Шадриков, 2006).
Таким образом, концепция мира внутренней жизни человека, на наш взгляд, позволяет вплотную подойти к научному рассмотрению проблемы духовных способностей в связи с субъектным подходом.
В. Д. Шадриков определяет духовные способности как интегральное проявление интеллекта и духовности личности, рассматривая духовные способности в качестве способностей человека как субъекта деятельности и отношений в единстве с нравственными качествами человека как личности (Шадриков, 1998). Таким образом, исходя из этого определения, в духовных способностях можно выделить интеллектуальный и нравственный пласт.
В русле субъектного подхода основу их изучения составляют идеи внутренней активности субъекта, его целостности, свободы внутренней жизни, свободы выбора этой жизни, уникальности и ценности переживаний и внутреннего духовного опыта человека.
Нравственный аспект духовных способностей, на наш взгляд, может успешно изучаться в рамках субъектного подхода, основываясь на экзистенциальной исследовательской парадигме, открывающей доступ к ценностно-смысловой сфере человека, составляющей фундамент духовных способностей. «Экзистенциальный план исследований психической реальности проявляется в направленности ученых на анализ вариантов порождения опыта, имеющего смысл для субъекта» (Знаков, 2007, с. 335).
Другой пласт духовных способностей ассоциируется с интеллектуальной сферой, где активность и другие качества субъекта также играют определяющую роль.
М. А. Холодная выделяет среди прочих важных качеств, присущих интеллекту, такое как субъектность. Она пишет: «Изменения в составе и строении ментального опыта в значительной степени обусловлены активностью человека как субъекта деятельности, поэтому уровень интеллектуальной зрелости будет тем выше, чем больше инициативы он будет проявлять относительно поиска новой релевантной информации, преобразования проблемной ситуации, варьирования способов анализа проблемы, критичности в оценке происходящего, чем в большей мере его интеллектуальная деятельность будет нагружена индивидуальными ценностями (в том числе в виде «неявного знания») и т. п.» (Холодная, 2008, с. 243).
По нашему мнению, субъектность в проявлении интеллекта, трактуемая как активность, открытость ума, гибкость, критичность и одновременно постоянное стремление личности к продуктивному разрешению проблемных ситуаций, в основе чего лежит активная ценностно-нравственной позиция человека, является важным свойством интеллектуальной сферы духовных способностей.
Раскрываемая таким образом субъектность соответствует характеристикам духовного интеллекта, например, таким, как, выделяемые К. Нобл (Noble, 2000): критичность интеллекта в духовных процессах; толерантность к неопределенности, парадоксу и «страху чего-то не знать»; открытость ума по отношению к необычному и разнообразному опыту, а также глубокое понимание необходимости противостоять неблагоприятной обстановке, бороться с трудностями и способность переносить бедствия, неприятности, несчастья; сознательный отказ от саморазрушительных установок и поведения; способность осознать наличие внутренних ресурсов и использовать их; острота восприятия чувств (в особенности сострадание, эмпатия в отношении себя и других); обязательство более полно участвовать в жизни.
Л. И. Анцыферова, характеризуя процессуальный подход, разработанный С. Л. Рубинштейном на материале мышления и развиваемый А. В. Брушлинским, пишет: «Психическое как процесс представляет собой отнюдь не пассивное течение мысленного содержания, а особую психическую активность субъекта, направленную на анализ мира, на дифференциацию значимого и незначимого в нем, на синтез, обобщение обнаруженных свойств объектов». (Анцыферова, 2006, с. 56).
С нашей точки зрения, важнейшей духовной способностью, относящейся к интеллектуальному аспекту, является способность видеть и понимать суть вещей, которая основана на возможности отличать главное от второстепенного, и в то же время на панорамном, всеобъемлющем, универсальном мышлении, обладающем всеохватывающим синтезирующим потенциалом.
При субъектном подходе к изучению духовных способностей особое значение имеет принцип целостности субъекта. Это означает, что способности изучаются не как отдельные (парциальные) свойства личности, а в тесной связи с другими качествами субъекта, обусловливающими становление, проявление и развитие его способностей.
По мнению С. Л. Рубинштейна, различные аспекты психического облика личности тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены: «В реальной жизни личности все стороны ее психического облика переходят друг в друга, образуют неразрывное единство» (Рубинштейн, 2002, с. 515). Он говорит о тесной связи способностей и характера, который, в свою очередь, определяется направленностью личности, установками, ее стержневыми особенностями. Так, изучение способностей человека, создание полного и адекватного представления о его дарованиях предполагает знание о направленности субъекта – подлинном стержне его личности, а также о его характерологических свойствах.
Таким образом, согласно Рубинштейну, при исследовании способностей, необходимо ответить на три вопроса.
1. Чего хочет данный субъект, что его привлекает, к чему он стремится? Речь идет о направленности, интересах, идеалах, тенденциях, установках, потребностях.
2. Что может этот субъект? Данный вопрос непосредственно связан со способностями.
3. Что этот субъект представляет собой в реальности?
Рубинштейн пишет: «Способности – это сперва только возможности; для того, чтобы знать, как реализует и использует их человек, нам нужно знать, что он есть, что из его тенденций и установок вошло у него в плоть и кровь и закрепилось в качестве стержневых особенностей личности. Это вопрос о характере человека» (Рубинштейн, 2002, с. 514).
К этому перечню вопросов, предлагаемых Рубинштейном, можно прибавить еще один: насколько субъект реализует свои способности в зависимости от своих стержневых и характерологических особенностей.
Итак, категория субъекта, по мнению А. В. Брушлинского, описывает человека на ступени его высшей активности, а значит, и целостности. В этой связи Брушлинский подчеркивает, что «человек и его психика – это не две системы, а одна единая система, в которой именно субъект объективно является основанием всех психических процессов, свойств и состояний, вообще всех видов своей активности (деятельности, общения и т. д.). Следовательно, в нем и через него они взаимосвязаны и интегрированы воедино, поскольку все они суть неотъемлемые качества одного и того же субъекта. В этом – их существенная общность (при всей их дифференцированности и даже относительной автономности)» (Брушлинский, 1994, с. 68). Таким образом, субъектный подход позволяет рассматривать духовные способности субъекта как единство интеллектуальных и ценностно-нравственных характеристик, которые проявляются в его реальном поведении.
Согласно Рубинштейну, способности, будучи оторванными от соответствующих характерологических свойств, представляют собой лишь абстрактные и малореальные возможности. Он пишет: «Реальная способность – это способность в действии, неуклонном и целеустремленном…» (Рубинштейн, 2002, с. 515). По его мнению, действие выступает как решение встающей перед индивидом задачи. «Действие как такой сознательный целеполагающий акт выражает основное специфическое отношение человека к миру… В аспекте этого отношения должно быть, поэтому раскрыто все содержание психики и все специфические для нее отношения» (Рубинштейн, 2002, с. 165). Здесь необходим переход от действия к категории поступка, который определяется как «такой акт поведения, в котором ведущее значение приобретает отношение человека к другим людям» (там же).
В этой связи принцип целостности субъекта раскрывается при исследовании такой важнейшей духовной способности, как способность к добродетельному поведению, выделяемой Р. Эммонсом, которая включает способность прощать, быть благодарным, проявлять смирение, сострадание (Эммонс, 2004). Существует мнение, что большинство добродетелей базируются на самоконтроле (Baumeister, Exline, 2001), который, конечно же, связан с интеллектуальной и эмоционально-волевой сферой личности. Самоконтроль предполагает высокую сформированность метакогнитивных механизмов интеллектуальной саморегуляции, принадлежащих, согласно концепции А. В. Карпова, к высшему метасистемному уровню структуры психики, который обеспечивает «сохранение многомерности и многокачественности «внутреннего мира», синхронизацию и синтезирование многих качественных спецификаций личности, психики (ее отдельных компонентов). Он же обеспечивает уже не просто целостность психики, но именно дифференцированную целостность», а также сохранение ее самоидентичности на протяжении длительных интервалов» (Карпов, 2004, с. 51).
Таким образом, при изучении проявления способности к добродетельному поведению и соответствующих поступков реализуется принцип целостности субъекта, важную роль в которой играет рефлексивность. Согласно Карпову, «она раскрывается как такое качество субъекта, суть которого состоит в его способности к экспликации, выявлению, распознаванию, а в известной степени и к формированию новых своих качеств, к их осознанию и репрезентации как своих и образующих самость психики, т. е., фактически, субъектность как таковую» (Карпов, 2008, с. 69). Овладевая рефлексией, человек, собственно, и становится субъектом. Он «обретает „самость“, субъектность не только по отношению к внешнему миру, но и к миру внутреннему – к своей собственной психике, к ее содержанию (а частично и к операционным средствам)» (там же). Он становится способным не только контролировать, регулировать, согласовывать свои мысли, эмоции, действия, но и осознанно продуцировать и вносить в свою жизнь новое ценностно-нравственное содержание и высшие смыслы, обретенные вследствие рефлексии.
Проявляя в поступках духовные способности, связанные с добродетельным поведением, субъект утверждает свое активное ценностное отношение к миру и другим людям. Ценностно-нравственный и интеллектуальный аспекты духовных способностей реализуются в решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях. В добродетельном поведении, связанном с соответствующими поступками, целостность личности (направленность, характер и способности) раскрывается с особой яркостью: субъект проявляет свою активность в единстве ценностно-нравственных, волевых и интеллектуальных качеств.
Итак, можно говорить о том, что субъектный подход в психологии духовных способностей играет важнейшую роль. Он позволяет:
• используя принцип целостности субъекта, рассматривать духовные способности целостно как единство интеллектуальных и нравственных качеств личности; говорить об интегральном проявлении интеллекта и духовности личности: интеграции интеллекта и ценностно-нравственных качеств субъекта;
• основываясь на принципе активности субъекта, изучать мир внутренней жизни человека, его духовные переживания и опыт, связанные с ценностно-смысловой сферой, которая, на наш взгляд, представляет собой базисный пласт духовных способностей;
• базируясь на принципе субъектности, исследовать интеллектуальный пласт духовных способностей, такие их характеристики, как активность, открытость, гибкость, критичность и одновременно смиренность ума, т. е. направленность личности на продуктивное разрешение проблемных ситуаций и другие аспекты.
Литература
Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. М.: Изд-во ИП РАН, 2006.
Брушлинский А. В. О субъекте мышления и творчества // Основные современные концепции творчества и одаренности. М. 1997.
Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта. М.: изд-во ИП РАН, 1994.
Знаков В. В. От психологии субъекта – к психологии человеческого бытия // Теория и методология психологии: постнеклассическая перспектива. Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. Юревич. М.: Изд-во ИП РАН, 2007.
Карпов А. В. Метасистемная организация уровневых структур психики. М.: Изд-во ИП РАН, 2004.
Карпов А. В. Категория субъекта и современный метакогнитивизм // Личность и бытие: субъектный подход. Отв. ред. А. Л. Журавлев, В. В. Знаков, З. И. Рябикина, М.: Изд-во ИП РАН, 2008.
Леонтьев Д. А. Неклассический вектор в современной психологии // Теория и методология психологии: постнеклассическая перспектива. Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. Юревич. М.: Изд-во ИП РАН, 2007.
Микешина Л. А. Философия познания. М.: Прогресс-Традиция, 2002.
Микешина Л. А., Опенков М. Ю. Новые образы познания и реальности. М.: Российская политическая энциклопедия, 1997.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002.
Холодная М. А. Ценностные аспекты психологии интеллекта и их реализация в образовательной практике // Психология ценностей и ценности психологической науки / Под ред. В. В. Знакова и др. М.: Изд-во ИП РАН, 2008.
Шадриков В. Д. Духовные способности. М.: Магистр, 1998.
Эммонс Р. Психология высших устремлений. М.: Смысл, 2004.
Baumeister R. F., Exline J. J. Virtue, personality and social relations: self-control as the moral muscle. Journal of personality. 1999. 67 (6). P. 1165–1194.
Noble K. Spiritual intelligence. A new frame of mind. Advanced Development Journal. 2000. 9. P. 1–28.