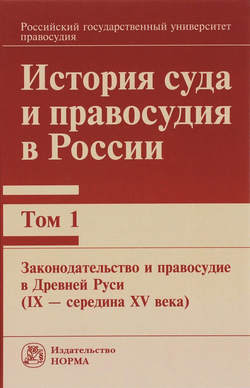Читать книгу История суда и правосудия в России. Том 1: Законодательство и правосудие в Древней Руси (IX – середина XV века) - Коллектив авторов - Страница 6
Раздел I
Историография права и правосудия в Древней руси
Глава 3.
Историография древнерусского правосудия и законодательства (1917—1991 годы)
ОглавлениеИсториография древнерусского правосудия и законодательства, проводимая в условиях Советского государства, подразделяется на два периода: сталинский (1924—1964 гг.) и общенародного государства (1965—1991 гг.). Историографии присущи четыре особенности:
1) крайне незначительное число публикаций, посвященных исследованиям проблем древнерусского правосудия и законодательства;
2) неудачная попытка использовать марксистскую методологию в познании закономерностей становления и развития Древнерусского государства, права и правосудия; 3) проведение в 1970—1980-х гг. большой источниковедческой работы, благодаря которой тексты древнерусских законов и иные правовые акты стали доступными для широкого круга юристов и историков; 4) появление в 1980-х гг. устойчивой оппозиции марксистской концепции древнерусской истории общества, государства и права.
После Октябрьской революции Советскому государству, занятому переводом народного хозяйства на социалистические рельсы, борьбой с контрреволюционными выступлениями, охраной общественного порядка, было не до исторических исследований, и уж тем более до проблем древности – Древнерусского государства, его законов и правосудия. Тем не менее одна из первых работ по данной проблематике вышла в 1925 г. С. В. Юшков в Саратове опубликовал монографию «Феодальные отношения и Киевская Русь». В 1927 г. М. К. Рожкова издала в Ленинграде работу, посвященную Псковской судной грамоте «К вопросу о происхождении и составе Псковской судной грамоты», а в 1929 г. С. Г. Струмилин в Москве – работу «Договор займа в древнерусском праве». Последующих публикаций пришлось ждать около восьми лет. В 1937 г. Б. Д. Греков опубликовал монографию «Феодальные отношения в Киевском государстве», а в 1939 г. С. В. Юшков на аналогичную тему издал работу «Очерки по истории феодализма в Киевской Руси». М. Н. Тихомиров предпринял попытку исследовать историю происхождения Русской Правды, ее текстов[68], а коллектив авторов под редакцией Б. Д. Кедрова издал первый том Русской Правды, в котором были помещены ее 15 основных списков [69].
Ряд статей по проблемам Древнерусского государства и его права был помещен в ученых записках высших учебных или научных заведений[70].
Среди публикаций особый интерес вызывает новый перевод и комментарий Псковской судной грамоты, подготовленный Л. В. Черепниным и А. И. Яковлевым[71]. Данный авторами обширный постатейный комментарий к Грамоте содержит не только их личное понимание смысла и содержания статей, но и ссылки на иные их толкования, данные другими исследователями. В результате читателю предоставляется возможность самому определить, какое из суждений наиболее точно соответствует смыслу законодателя и содержанию нормативного предписания. В комментариях справедливо признается, что Псковская судная грамота представляет собой одну из форм кристаллизации общеновгородского, или, вернее, северо-западного и северного, права, только приспособленного к псковским условиям. Характерные особенности Грамоты – отсутствие в ней норм о холопах, для которых Псковская земля служила убежищем при их бегстве от господ из других районов, и мягкое по сравнению с другими районами Русской земли отношение к задолжавшему крестьянину-арендатору[72].
Вновь возникший интерес советских правоведов и историков к истории Древнерусского государства, его права и правосудия в конце 1940-х гг. был обусловлен принятием 5 октября 1946 г. специального постановления ЦК ВКП(б) «О расширении и улучшении юридического образования в стране». В постановлении осуждались ведущие юридические вузы страны – Институт права АН СССР и Всесоюзный институт юридических наук Минюста РСФСР, которые «не подготовили и не выпустили в свет за последние годы серьезных работ по юриспруденции, в особенности по теории государства и права, советскому государственному праву, международному праву и истории Советского государства».
Историки и юристы довольно быстро подготовили к изданию требуемую постановлением ЦК В КП (б) литературу, в том числе работы, посвященные древнерусской истории. Однако специальных исследований проблем законодательства и правосудия в этот период по-прежнему не проводилось. Названные проблемы ставились и рассматривались в монографиях, иных публикациях наряду с другими, посвященными экономическим, политическим, культурным аспектам древнерусского общества и государства, и потому с точки зрения новизны, дальнейшего углубления и развития публикации были малопродуктивны, рассматривали преимущественно уже известные факты и обобщения.
В 1946—1947 гг. выходят работы, в которых предпринимается попытка дать системное описание истории становления и развития основных городов Древней Руси: Москвы, Смоленска, древнего Новгорода, древнего Пскова, их социального состава, экономического, политического строя, культуры. Это, в частности, работа С. А. Таракановой, посвященная древнему Пскову, Н. Г. Порфиридова – древнему Новгороду, М. Н. Тихомирова – древней Москве, Д. П. Маковского – Смоленскому княжеству[73]. Наряду с ними издаются работы Б. Д. Грекова, В. В. Мавродина, Б. А. Романова[74], предметом исследования которых выступают история и культура населения Древней Руси либо отдельных социальных слоев ее общества.
Наиболее полно были исследованы Б. Д. Грековым процессы формирования такого социального слоя, как крестьяне, с древнейших времен до XVII в.[75], а также генезис возникновения и развития Киевского государства[76]. В этот период выходят в свет инкорпорированный сборник грамот Новгорода и Пскова[77], академическое издание второго тома Русской Правды под редакцией Б. Д. Грекова. В этом томе были даны комментарии к тексту Русской Правды, списки которой были опубликованы отдельным томом в 1940 г.[78]
Специальное исследование общественно-политического строя и законодательства Киевской Руси провел С. В. Юшков[79]. Руководствуясь сталинским положением о взаимоотношении базиса и надстройки, он в истории Киевского государства выделяет два периода: формирования феодальных отношений, продолжавшегося до конца X в., и развития феодализма с конца X в., когда феодальный уклад становится господствующим способом производства, а затем происходит становление раннефеодальной монархии и более или менее развитой системы феодального права. С. В. Юшков также подготовил и опубликовал работу, в которой предпринял попытку исследовать такие дискуссионные вопросы истории права, как происхождение и источники Русской Правды[80].
Один из основных недостатков исследований Русской Правды советскими правоведами С. В. Юшков видел в том, что они не учитывали феодальной сущности Киевской Руси, тогда как этот фактор прямо и непосредственно воздействует на сущность права. Если Киевская Русь – феодальное государство, то и Русская Правда не может быть не чем иным, как источником феодального права. Соответственно, нормы Правды нельзя рассматривать как сборники старых обычаев, они представляют собой нормы возникающего и развивающегося феодального права, а их основным источником являются постановления и судебные решения князей. Все, в том числе древнейшие, редакции Русской Правды имеют официальное происхождение[81].
С учетом поставленных задач С. В. Юшков предпринял попытку восстановить первоначальный текст исторического источника, а затем дать ему историко-правовое толкование. При этом исследование текстов он начинает с анализа позднейших источников, полагая, что подобный путь позволит «с наибольшей легкостью очистить первоначальный текст от позднейших наслоений», тогда как для уяснения содержания норм права Русской Правды он первоначально исследует общественно-экономический, политический и правовой строй Киевской Руси, чтобы уяснить условия, при которых эти нормы могли появиться[82].
В 1950-е гг. продолжается публикация правовых актов Древней Руси и иных исторических документов. Под редакцией К. В. Сивкова публикуется Псковская судная грамота; М. Н. Тихомиров и М. В. Щепкина издают памятники новгородской письменности, а Л. М. Марасинова – псковские грамоты XIV—XV вв.[83] В серии «Литературные памятники» выходит «Повесть временных лет» как один из письменных источников, описывающих многовековую историю славян, их быт, обычаи, формы правления, события, связанные с переходом от общинного строя к государственному, с формированием и укреплением княжеской власти[84].
Публикуется хрестоматия по истории СССР, содержащая текст Русской Правды по Академическому и Троицкому спискам[85]. Русская Правда стала доступной широкой читательской аудитории после выхода сборника «Памятники права Киевского государства X—XII вв.», составленного А. А. Зиминым и снабженного обстоятельными комментариями к тексту основного источника русского права[86]. Помимо Краткой, Пространной и Сокращенной редакций Русской Правды, в сборнике помещены договоры Руси с Византией 911, 941 и 971 гг., Устав князя Владимира Святославича и Устав князя Ярослава Владимировича. Таким образом, в сборнике помещены тексты основополагающих правовых актов Древнерусского государства, которые составляли основу официальной законодательной системы того времени и действовали в качестве главных регуляторов общественных отношений несколько столетий.
Сборник примечателен не только своим содержанием, но и богатейшим справочным, вспомогательным материалом. Как отмечал С. В. Юшков, при подготовке сборника ставилась задача издания таких памятников, в которых наблюдалось бы развитие правовых институтов, вызванных общественно-экономическим развитием Русского государства. Редактор и составитель весьма успешно справились с поставленной задачей[87].
Составитель А. А. Зимин каждый из нормативных актов, вошедших в сборник, снабдил: 1) исторической справкой об условиях и процессе возникновения источника, его динамике, сфере применения в практической деятельности; 2) переводом на современный литературный язык с применением современной правовой терминологии; 3) постатейными комментариями, в которых разъяснил смысл статьи, имеющиеся в юридической литературе варианты ее толкования, а также пояснениями терминов древнерусского языка, которые отражают явления, объекты, процессы, не присущие современному бытию; 4) текстологическими комментариями к положениям, присутствующим в других списках Русской Правды. В результате сборник использовался в качестве надежного источника изучения древнерусского права не одним поколением студентов, равно как и специалистов, интересующихся проблемами древнерусской истории, не утратил он значения и до настоящего времени.
И. Д. Мартысевич справедливо признал, что интерес к Псковской судной грамоте советских правоведов ограничивался социально-экономическими отношениями и статусом их субъектов, тогда как юридическому анализу Грамоты не уделялось должного внимания. Лишь в учебнике С. В. Юшкова «История государства и права СССР» имеется краткий юридический анализ Псковской судной грамоты. Кроме того, анализ норм уголовного права, содержащихся в Грамоте, дан в статье М. М. Исаева «Уголовное право Новгорода и Пскова XIII— XV вв.». Между тем Псковская грамота, этот важнейший памятник русского права, справедливо приравненный по своему значению к Русской Правде и судебникам, должен был привлечь внимание советских исследователей[88].
И. Д. Мартысевичем дан обзор основных итогов изучения Псковской судной грамоты за 100 лет с момента ее первого издания и обстоятельный системный анализ как условий ее создания и действия, так и непосредственного правового содержания. В частности, исследованы нормы Грамоты, закрепляющие право собственности, обязательственные правоотношения, наследственное право, понятие и виды преступлений, а также наказаний за них. Особое внимание уделяется вопросам судоустройства и судопроизводства.
Следует, однако, признать, что, несмотря на отдельные успехи в исследовании источников древнерусского права, системный, углубленный анализ содержания источников Русской Правды, иных нормативных правовых актов Древней Руси практически не проводился. Признание И. Д. Мартысевича об отсутствии в этот период специальных самостоятельных исследований Псковской судной грамоты полностью относится и к Русской Правде, и к Новгородской судной грамоте. Между тем углубленный анализ гражданского права, которым закреплялись экономические отношения и правовой статус его участников, мог дать необходимые аргументы относительно формационной стадийности древнерусского общества, экономических связей, которые преобладали между феодалами, свободными и холопами. Советские правоведы не уделяли должного внимания проблемам правосудия и его правоприменительной практики. Вне их поля зрения оставались такие актуальные проблемы, как организация и деятельность судебной системы, сбор и оценка доказательств, правовой статус участников процесса, принятие и исполнение судебных решений.
Следует признать, что советским исследователям не было присуще творческое применение диалектико-материалистического метода в исторической и правовой науке. Понятно, что сталинский период не был самым благоприятным для подобного рода экспериментов. Догматизм, культивируемый в ту эпоху и насаждавшийся в науке и практике административными, а то и уголовными методами, в исследованиях Б. Д. Грекова, С. В. Юшкова, их единомышленников, равно как и их оппонентов, действовал безраздельно. Диалектическое мышление в их работах и не могло возникнуть, как его не существовало в экономике, социологии и даже в философии. Поэтому попытки нынешних историков-либералов поставить в вину марксизму ошибки и заблуждения, допущенные сторонниками феодального пути развития Древнерусского государства, являются несостоятельными. Об этом весьма убедительно свидетельствует, в частности, полемика между Б. Д. Грековым и Б. И. Сыромятниковым о формационной принадлежности Русского государства с периода его становления и до XIII в., которую достаточно подробно изложил В. В. Тихонов[89].
Как констатирует В. В. Тихонов, полемика достигла апогея 9 января 1940 г., когда Б. И. Сыромятников прочитал доклад в Институте права АН СССР «Проблема рабства в Древней Руси» в присутствии Б. Д. Грекова. Вначале докладчик подверг резкой критике мнение Б. Д. Грекова (с опорой последнего на Ф. Энгельса) о том, что славяне сразу, минуя стадию рабовладения, через стадию дофеодального периода перешли в феодализм. Докладчик также со ссылками на работы классиков марксизма-ленинизма утверждал, что «с точки зрения марксистской теории никакого особого «дофеодального периода» не существовало, кроме периода рабовладельческого»[90]. Он признавал абсолютную универсальность схемы мировой истории, предложенной марксизмом. Следуя этой логике, Русь просто обязана была пройти через эпоху рабовладельческой формации. Сделав ряд обязательных ссылок на классиков марксизма-ленинизма и «Историю ВКП(б)». что придавало его мнению основательность и служило защитой от выпадов оппонентов, Б. И. Сыромятников перешел к критике взглядов Б. Д. Грекова по существу.
Докладчик привел убедительные фактические и исторические аргументы несостоятельности позиции оппонента. В частности, он отмечал, что Древняя Русь – государство, где феодальные порядки можно найти лишь в зачаточном состоянии, а доминирующими являлись рабовладельческие отношения. Первые известия о существовании рабов в обществе у восточных славян исследователь находил в VI в. Но тогда в силу первобытнообщинного равенства рабство не приобрело массового характера. Ситуация поменялась с началом социальной дифференциации древнерусского общества. Выделение класса профессиональных воинов способствовало тому, что рабы превратились в важную часть военной добычи, за счет которой существовали дружинники[91].
Оппонент Б. И. Сыромятникова, защищая свою позицию, использовал марксизм на уровне цитат. В. В. Тихонов отмечает, что Б. Д. Греков и поддержавшие его историки апеллировали к Ф. Энгельсу, который писал о том, что славяне, как и германцы, миновали стадию рабовладения, сразу перейдя к феодальным отношениям[92]. На поиск доказательств наличия феодальных отношений, в существование которых верили Б. Д. Греков, С. В. Юшков и другие ведущие советские историки, были брошены основные научные силы, а ведущее направление научных исследований и, соответственно, публикации составили проблемы социального состава крестьян, их экономических, имущественных отношений с феодалами-вотчинниками. Однако, как показали исследования И. Я. Фроянова и его последователей, проведенные в 1980-х гг., в работах, опубликованных в середине 1950-х гг., значение феодальных отношений в системе общественных отношений Древней Руси X—XIV вв. было во многом абсолютизированно.
Таким образом, Б. И. Сыромятников и Б. Д. Греков пытались решить фундаментальную научную проблему первоначально посредством цитат, найденных ими в работах основоположников марксизма, а затем путем подбора под эти положения соответствующих исторических фактов. Но подобный метод исследования не имеет отношения не только к марксизму, но и к научному исследованию. Закономерное можно выявить только посредством конкретно-исторического анализа исследуемого, в данном случае – конкретных фактов, событий истории Древнерусского государства, дошедших до наших дней. Как отмечал К. Маркс, изучая каждую из эволюций «в отдельности, а затем сопоставляя их, легко найти ключ к пониманию этого явления; но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории»[93].
Но можно ли всерьез утверждать, что ученые, желавшие следовать марксизму и впавшие в догматизм, убедительно доказали несостоятельность марксизма как научной теории и метода? Между тем именно так и пытаются рассуждать противники марксистской доктрины, а неумение советских ученых творчески применять диалектико-материалистический метод признают свидетельством его научной несостоятельности. Подобным образом рассуждает, например, А. Б. Венгеров, уверяя, что «постепенно окостеневавшая и догматически толкуемая марксистско-ленинская методология, которая лежала в основе всех монографий, учебников и учебных пособий по теории государства и права, уже не могла быть использована для познания и объяснения новых государственно-правовых явлений и процессов»[94]. В итоге эволюцию современной теории государства и права он видит в переходе к одному из немарксистских направлений научного изучения государства и права[95], причем неважно к какому.
А может быть, все же нужно попробовать правильно использовать диалектический метод в соответствии с его назначением и сообразно его принципам, методологическим и теоретическим требованиям? Именно таким образом в 1964 г. поступил ЦК КПСС, приняв постановление «О мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучшению юридического образования в стране», в котором в числе наиболее значимых недостатков советской правовой науки отметил несовершенство ее методологии, сведение юридических исследований к догматизму и поверхностному комментированию. Постановление открыло новый этап в развитии советской правовой науки, выразившийся в расширении эмпирической, фактологической базы правовых исследований, использовании конкретно-социологических методов в познании социальных результатов действия законодательства, творческом применении метода материалистической диалектики. Была осуждена практика обоснования научных положений, выводов лишь с помощью цитирования, без обращения к непосредственной действительности, фактам реальной жизни.
Однако ни постановление ЦК КПСС, ни принятые в его развитие меры по совершенствованию методологии научного правового познания не изменили в лучшую сторону отношение правоведов к проблемам Древнерусского государства, его права и правосудия. Активизации исследований по этой проблематике не произошло. Заметным событием 1960-х гг. явилось открытие берестяных грамот в Новгороде как достоверного источника знаний о праве и правосудии Древней Руси. В найденных грамотах XII—XV вв., авторами которых выступают весьма широкий круг лиц от простолюдинов до принадлежащих к властным структурам Новгорода, содержатся купчие, завещания, займы, акты дарения, челобитные крестьян, исковые заявления в суд, деловые письма по имущественным и личным вопросам. Юридическое содержание берестяных грамот и вытекающих из них обобщений о праве и правосудии Новгорода обстоятельно освещаются в монографиях В. Л. Янина и Л. В. Черепнина[96].
Благодаря берестяным грамотам в настоящее время можно достоверно судить о Новгороде как о государстве, в основе которого лежал принцип равного представительства от концов, а сами концы могут быть признаны самоуправляющимися районами с собственными вечевыми собраниями, посадниками, тысяцкими, кончанскими игуменами. При этом Новгородское государство исторически сложилось на своей территории самостоятельно, без какого-либо внешнего участия[97].
К проблемам общественно-политического строя и права Псковской феодальной республики обращается И. Д. Мартысевич в докторской диссертации[98]. Одновременно публикуются работы Л. В. Черепнина и Б. Б. Кафенгауза[99], посвященные анализу политических процессов и явлений, имевших место в процессе формирования и укрепления Древнерусского государства, борьбе за власть между обществом, народными массами и крупными землевладельцами. Предметом специального исследования В. В. Мавродина[100] была наивысшая форма классовых противоречий социальных групп, слоев древнерусского общества – народное восстание. Особе внимание в работе уделяется социально-политическим причинам народных восстаний, их формам и правовым последствиям.
Из числа специальных работ, посвященных истории Древнерусского государства и его права, изданных в этот период, следует отметить монографию Р. Л. Хачатурова, посвященную изучению Русской Правды[101], в которой обоснованно показывается, что процесс становления древнерусского права начался в VI в. н. э. и прошел в два этапа. Первый этап формирования и функционирования казуального права завершился в VI—IX вв. Второй этап первоначально характеризовался действием обычного права, которое функционировало в устной форме и передавалось из поколения в поколение, а завершился переходом от казуального к обычному праву. Затем появляется писаное право. В X в. завершается окончательный переход к писаному праву, создаваемому государством.
В работах А. Д. Горского, Л. И. Ивиной, А. Л. Шапиро[102] специально исследовались социально-экономические отношения между субъектами древнерусского общества, выступающие объективной основой правовых норм и служащие ценным источником достоверных сведений о действовавших в тот период нормах. Обзор источников по истории русских феодальных княжеств XII—XIII вв. изложен в издании 1979 г. «Советское источниковедение Киевской Руси» под редакцией В. В. Мавродина.
Была продолжена публикация текстов правовых актов Древнерусского государства, их текстологического анализа и юридических комментариев. Е. М. Шварц публикует Новгородские рукописи XV в. Софийского новгородского собрания[103], а В. Ф. Андреев – новгородские частные акты XII—XV вв.[104] В 1984 г. вышел из печати подготовленный коллективом авторов – известных историков права под общей редакцией О. И. Чистякова первый том «Законодательство Древней Руси» девятитомного издания «Российское законодательство X—XX веков». В издании были опубликованы тексты Краткой и Пространной редакций Русской Правды, Устав князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных, Устав князя Ярослава о церковных судах, другие церковные уставы, а также Новгородская и Псковская судные грамоты. Издание органично сочетает материалы научного комментирования текстов источников права с монографическим освещением истории их возникновения и историографии о них. Авторы не только воспроизводят выводы и обобщения, высказанные в юридической литературе, но и высказывают свое мнение, выражают собственную позицию относительно тех или иных дискуссионных вопросов истории древнерусского права.
Каждый опубликованный источник дополнен двумя вспомогательными материалами: введением и достаточно обстоятельным постатейным комментарием. Отсутствие перевода текста источника на современный язык в какой-то степени затрудняет понимание смысла его нормативных положений читателем, не владеющим старославянским языком (а таковыми оказывается основной контингент читателей), но этот пробел в значительной мере компенсируется обстоятельными постатейными комментариями.
В целом издание, призванное решать прежде всего источниковедческие задачи, довольно удачно подводит итоги исследований, проведенных советскими правоведами по вопросам Древнерусского государства, его права и правосудия. О. И. Чистяков, как и другие члены авторского коллектива, твердо придерживается марксистской теории исторического процесса и понимания истории как классовой, партийной науки, которая всегда служит политически господствующему классу. В аналогичной зависимости от государственной власти, по мнению ученого, находится и летописец, воспроизводя легенду о неспособности славянских племен самостоятельно установить твердый порядок и вынужденных позвать на помощь варягов [105].
Солидаризируясь с С. В. Юшковым, О. И. Чистяков полагал, что Древнерусское государство является типичным феодальным государством. Он отмечал, что «Киевское государство первоначально было комплексом примитивных государств и племенных княжений. Вместе с тем оно выступало как единое целое. Степень этого единства, однако, колебалась, имея тенденцию по мере развития феодальных отношений к ослаблению»[106]. В конечном счете Киевское государство распалось на множество самостоятельных государств, все более мельчавших, С этих позиций О. И. Чистяков скептически относился к концепции И. Я. Фроянова, согласно которой до конца X в. Русь была еще не государством, а племенным союзом, и на протяжении X— XIII вв. «глас народный на вече звучал мощно и властно, вынуждая нередко к уступкам князей»[107].
Право О. И. Чистяков также понимал в традиционном для советских правоведов смысле как волю государства, выраженную в законе. С этих позиций древнерусское право зародилось вместе с государством и содержало все необходимые черты феодального права. Он видел в праве в первую очередь привилегию, основанную на принципе неравенства различных социальных слоев общества. «Закон не только не скрывал этого неравенства, но всячески постоянно его подчеркивал», – признавал ученый[108]. Холоп же вообще не являлся субъектом права, поскольку не обладал личной свободой. Отрицая наличие рабства на Руси, О. И. Чистяков назначение древнерусского холопства ограничивал хозяйственной деятельностью, использованием не столько в процессе производства, сколько в быту, в роли разного рода слуг. Перевод их в статус крестьян состоялся на более позднем этапе древнерусского общества.
О. И. Чистяков полностью разделял воззрения российских и советских правоведов на древнерусское право как право, выросшее преимущественно на русской почве. Он отмечал, что «древнерусское законодательство выросло из обычного права, а обычаи уходят корнями глубоко в историю народа». Наличие отдельных норм, аналогичных нормам западноевропейских государств, объяснял в основном сходством регулируемых отношений. «Да, – писал он, – в древнерусском праве встречаются нормы, аналогичные западноевропейским. Иногда здесь имело место и заимствование. Однако чаще сходные нормы порождались просто сходными общественными отношениями. Самое же главное то, что основная масса правового материала не может быть сведена к чужеземным источникам, ее происхождение никак нельзя объяснить заимствованием»[109].
Одной из причин недостаточно интенсивного развития науки истории государства и права в части исследований проблем Древнерусского государства и его права является полное отсутствие внимания историков-юристов к методологии историко-правовых исследований. Поставленная постановлением ЦК КПСС 1964 г. задача разработки методологии правовых исследований ими была провалена. Об этом убедительно свидетельствуют материалы, опубликованные по итогам научно-координационного совещания по теме «Методологические вопросы всеобщей истории государства и права», проведенного в мае 1979 г.[110] секцией «Закономерности развития государства, управления и права» Научного совета АН СССР.
Выступивший на совещании с основным докладом О. А. Жидков вынужден был признать, что научные результаты собственно историков права являются относительно скромными. Немалая часть работ, опубликованных за предыдущие годы самими историками права, предназначена для учебных целей и представляет собой компиляции, не имеющие самостоятельной научной ценности. Наращивание методологического «потенциала» в работах историков права идет медленнее, чем в других отраслях юридической науки. К сожалению, сам докладчик недостаточно четко представлял себе пути совершенствования методологии историко-правовых исследований, ограничился призывами активнее использовать методы сравнительного правоведения и системного подхода, а также не сопоставлять напрямую исторические факты с общими социологическими законами[111]. Еще дальше от методологических проблем отходили большая часть участников совещания, темой выступления которых были конкретные вопросы историко-правовой науки: история Веймарской Республики, «молодежная политика» империалистического государства и проведение судебной реформы в Царстве Польском и др. Симптоматично, что никаких специальных резолюций о путях развития, совершенствования марксистской методологии историко-правовой науки на совещании не принималось.
Отсутствие заметных успехов в исследованиях проблем древнерусского общества, государства и права у советских историков и правоведов, признающих себя выразителями марксистского учения в исторической науке, было восполнено в 1980-х гг. И. Я. Фрояновым и его последователями (А. В. Петровым, А. Ю. Дворниченко, В. В. Пузановым и др.). По обоснованному убеждению И. Я. Фроянова[112], древнерусское общество не было чисто феодальным, а представляло собой сложный социальный организм, сочетающий разные типы производственных отношений.
Со времен антов, признавал ученый, в недрах первобытного общества зародился рабовладельческий уклад, который в связи с развитием крупного землевладения во второй половине X – XI в. вступает в новую стадию развития. Примерно со второй половины XI в. развивался феодальный уклад, вследствие чего вотчина становилась одновременно и рабовладельческой, и феодальной. Но в целом феодальный уклад уступал рабовладельческому. Однако подавляющая масса земледельческого населения Киевской Руси оставалась свободной. Поэтому и рабовладельческий уклад, и феодальный решительно проигрывали по сравнению с общинным укладом. Вотчины были немногочисленны, базируясь на рабском и полурабском труде, они являлись островками в море свободного общинного землевладения. Ни в X—XI вв., ни в XII в. правящая верхушка не имела достаточно сил, чтобы «переварить» свободную земледельческую общину[113].
Воззрения И. Я. Фроянова на формационную принадлежность Древней Руси, как признают Ю. Г. Алексеев и В. В. Пузанов, носят «фундаментальный характер. Концепция феодализма в Киевской Руси получила удар, от которого нельзя было оправиться. Сомнения, возникавшие в рамках концепции Б. Д. Грекова, превратились в уверенность – от тезиса о феодализме в Киевской Руси приходилось отказываться, и это было крупнейшим шагом в отечественном исследовании русского Средневековья со времен Н. П. Павлова-Сильванского. Не феодальная вотчина, а свободная крестьянская община становилась основной ячейкой, несущей конструкцией древнерусского общества»[114].
Характерно, что методологической основой концепции И. Я. Фроянова выступала не модная философская идеалистическая школа, а традиционная марксистская теория, на которой основывали свои взгляды и его оппоненты[115]. И этот факт еще раз свидетельствует о том, что изучение конкретных проблем основывается не на формальной подгонке той или иной совокупности фактов под заранее установленную схему, как поступали Б. Д. Греков и его сторонники, а на изучении конкретно-исторических условий функционирования исследуемого во всей полноте и всесторонности. Следование этому подходу И. Я. Фроянова позволило вс крыть явления и процессы, которым сторонники концепции Древнерусского государства как феодального не придавали большого значения, рассматривая их как случайные. В результате удалось раскрыть действительную структуру общества, составляющие его слои и противоречивый характер их взаимоотношений, которые оказались намного сложнее и многообразнее, чем это представлялось в работах Б. Д. Грекова и его сторонников.
С учетом положений И. Я. Фроянова юристам также следовало бы уточнить свои воззрения относительно сущности права, его источников и механизма действия. Ибо далеко не все нормы древнерусского права носили явно феодальный характер, закрепляли правовое неравенство социальных слоев общества, равно как и не все суды, действовавшие в тот период, стремились непременно защищать права и интересы феодалов. Однако советские правоведы проделать подобную работу не успели в связи с распадом СССР.
68
См.: Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде. Происхождение текстов. М.;Л., 1941.
69
См.: Русская Правда. Т. 1 / под ред. Б.Д. Грекова. М.; Л., 1940.
70
См.: Аргунов П. А. Крестьянин и землевладелец в эпоху Псковской судной грамоты. К истории сеньерьяльных отношений на Руси // Учен. зап. Саратовский гос. ун-т. Саратов, 1925. Т. IV. Выл. 4; Богословский М. М. К вопросу об отношении крестьянина к землевладельцу по Псковской судной грамоте // Летопись занятий Археологической комиссии за 1926 г. Выл. 1. Л., 1927; Кофенгауз Б. Б. Псковские «изорники» //Учен. зап. Московского гос. пед. ин-та. Сер. историческая. Выл. II. М., 1939; Кочаков Б. М. Новгородская судная грамота // Ученые записки Ленинградского педагогического института. Т. 1. Выл. 1.Л., 1940.
71
См.: Псковская судная грамота. Новый перевод и комментарий Л. В. Черепнина и А. И. Яковлева // Исторические записки. Т. IV. М., 1940.
72
Там же.
73
См.: Тараканова С. А. Древний Псков. Л.; М., 1946; Порфиридов Н. Г. Древний Новгород: очерки из истории русской культуры XI—XV вв. М.; Л., 1947; Тихомиров М. Н. Древняя Москва, XII—XV вв. М., 1947; Он же. Древнерусские города. М., 1946; Маковский Д. П. Смоленское княжество. Смоленск, 1948.
74
См.: Греков Б. Д. Культура Киевской Руси. М.; Л., 1944; Он же. Борьба Руси за создание своего государства. М.; Л., 1945; Он же. История культуры Древней Руси. Т. 1. Домонгольский период. М.; Л., 1948; Мавродин Б. Древняя Русь: происхождение русского народа и образование Киевского государства. М., 1946; Греков Б. Д. Очерки по истории феодальной Руси. Л., 1949; Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: историко-бытовые очерки XI—XIII вв. Л., 1947.
75
См.: Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. М.; Л., 1946.
76
См.: Греков Б. Д. Славяне: возникновение и развитие Киевского государства. М., 1946.
77
См.: Грамоты Великого Новгорода и Пскова / под ред. С. Н. Валка. М., 1949.
78
См.: Русская Правда: в 3 т. / под ред. Б.Д. Грекова. М., 1940—1963.
79
См.: Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949.
80
См.: Юшков С. В. Русская Правда. Происхождение, источники, значение. М., 1950.
81
Там же. С. 6, 7.
82
Там же. С. 9.
83
См.: Псковская Судная грамота [фотокопия и транскрипция] / под ред. К. В. Сивкова. М, 1952; Тихомиров М. К, Щепкина М. В. Два памятника новгородской письменности: духовная Климента-новгородца и Устав Святослава Ольговича. М., 1952; Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV—XV вв. / под ред. А. М. Сахарова. М., 1966.
84
См.: Повесть временных лет. М.; Л., 1950.
85
См.: Хрестоматия по истории СССР. Т. I. С древнейших времен до конца XVII в. / сост. В. И. Лебедев, М. Н. Тихомиров, В. Е. Сыроечковский. 3-е изд. М., 1949.
86
См.: Памятники права Киевского государства X—XII вв. / сост. А. А. Зимин. М., 1952.
87
См.: Юшков С. В. Предисловие // Памятники права Киевского государствах— XII вв. С. VI.
88
См.: Мартысевич И. Д. Псковская судная грамота: историко-юридическое исследование. М., 1951.
89
См.: Тихонов В. В. Забытые страницы советской историографии: дискуссия Б. Д. Грекова и Б. И. Сыромятникова о характере социально-экономического строя Киевской Руси // Исторический ежегодник. Институт истории СО PAH. М., 2012.
90
Цит. по: Тихонов В. В. Указ. соч. С. 38.
91
Там же. С. 39.
92
Там же.
93
Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т. 19. С. 121.
94
Венгеров А. Б. Теория государства и права. М., 1998. С. 5.
95
Там же. С. 16.
96
См.: Янин В. Л. Новгородские посадники. М., 1962; Он же. «Я послал тебе бересту…». М., 1965; Черепнин Л. В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М., 1969.
97
См.: Янин В. Л. Возможности археологии в изучении Древнего Новгорода // URL: http://istina.msu.ru/publications/article/3366395.
98
См.: Мартысевич И. Д. Общественно-политический строй и право Псковской феодальной республики, XIV—XV вв.: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1965.
99
См.: Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в XIV— XV веках: очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960; Кафенгауз Б. Б. Древний Псков: очерки по истории феодальной республики. М., 1969.
100
См.: Мавродин В. В. Народные восстания в Древней Руси XI—XIII вв. М., 1961.
101
См.: Хачатуров Р. Л. Некоторые методологические и теоретические вопросы становления древнерусского права. Иркутск, 1974. В 1988 г. Р.Л. Хачатуров в Институте государства и права АН Украинской ССР (Киев) защитил докторскую диссертацию на тему «Становление древнерусского права».
102
См.: Горский А. Д. Борьба крестьян за землю на Руси в XV – начале XVI века. М., 1974; Ивина Л. И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV – первой половины XVI в. Л., 1979; Шапиро А. Л. Проблемы социально-экономической истории Руси XIV—XVI вв. Л., 1977.
103
См.: Новгородские рукописи XV в. М.; Л., 1989.
104
См.: Андреев В. Ф. Новгородский частный акт XII—XV вв. Л., 1986.
105
См.: Чистяков О. И. Введение // Российское законодательство X—XX веков. Т. 1. М., 1984. С. 12.
106
Чистяков О. И. Введение // Российское законодательство X—XX веков. Т. 1. С. 18.
107
Там же. С. 16.
108
Там же. С. 18.
109
Там же. С. 24.
110
См.: Методология историко-правовых исследований. М., 1980.
111
См.: Жидков О. А. Некоторые теоретические проблемы науки всеобщей истории государства и права // Методология историко-правовых исследований. С. 3—16.
112
См.: Фроянов И. Я. Киевская Русь: очерки социально-экономической истории. Л., 1974; Киевская Русь: очерки социально-политической истории. Л., 1984; Курбатов Г. Л., Фролов Э. Д, Фроянов И. Я. Становление и развитие раннеклассовых обществ. Л., 1986; Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988; Фроянов И. Я. Киевская Русь: очерки отечественной историографии. Л., 1990.
113
См.: Пузанов В. В. Феномен И. Я. Фроянова и отечественная историческая наука // URL: http://www.e-reading.by/chapter.php/1006995/1/Froyanov_-_Zagadka_krescheniya_ Rusi.html.
114
Алексеев Ю. Г., Пузанов В. В. Проблемы истории средневековой Руси в трудах И. Я. Фроянова//URL: http://froyanov.csu.ru/kontsept/Alexeev_Puzanov_2006.shtml.
115
См.: Солдатов В. Н. Историческая концепция И. Я. Фроянова – проблема определения и характеристики структурных элементов // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 23 (238). Сер. «История». Выл. 47. С. 83.