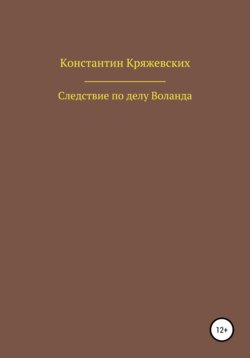Читать книгу Следствие по делу Воланда - Константин Вадимович Кряжевских - Страница 2
«Прости меня, Господи, за то, что я тут написал…»
ОглавлениеДорогой читатель! Перед тобою две самостоятельные книги, которые объединены мною в диптих. У тебя сразу же может возникнуть вопрос, зачем это сделано: почему нельзя было эти книги объединить в одну – сделать одну книгу дополнением к другой или второй ее частью? Почему необходимо было сделать так, чтобы эти две самостоятельные книги составляли диптих, а не существовали отдельно, как два разных, пусть и подобных по содержанию, произведения? Вот для ответа на этот вопрос и написано данное предисловие, которому можно было бы дать название «От автора».
Первая книга этого диптиха была написана значительно позже второй и появилась благодаря чисто моему внутреннему желанию изложить в совершенно иной форме содержание второй книги. Что-то мне очень сильно подсказывало, что ее нужно было обязательно написать, и я, следуя этому зову, ее написал.
Вторая книга, которая называется «Следствием по делу Воланда», посвящена, как можно уже догадаться по ее названию, исследованию самого известного романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Бесспорно, этот роман, который многим знаком со школьных лет, пользуется большой известностью и популярностью как в России, так и за рубежом. В нем прекрасно все, несмотря на многие в нем противоречия, обусловленные его незавершенностью, но особенно он человека привлекает своей загадочностью и таинственностью, туман которой как будто вообще не рассеивается. Даже те, кому не нравится эта книга, признают, что ничего подобного этой книге в художественной литературе по загадочности найти нельзя. В моем «Следствии по делу Воланда» предлагается трактовка этого романа. Главная особенность этой трактовки состоит в том, что она одинаково приложима ко всем черновым вариантам «Мастера и Маргариты», одинаково подходит под любую редакцию этого произведения, что уже свидетельствует о том, что она, скорее всего, соответствует авторским замыслам.
Первая книга диптиха, которая носит такое пугающее название как «Книга дьявола: о Пресвятой Троице. Назначение человека», является трактатом, в котором излагаются мои мысли по вопросу назначения человека. Это небольшое по объему произведение, несмотря на свою полную самостоятельность, обязано своим происхождением «Следствию по делу Воланда». Дело в том, что конечный вариант «Следствия по делу Воланда» не удовлетворял меня тем, что в нем очень много богословских и философских рассуждений, которые делают эту книгу очень непонятной для обыкновенного читателя, который чужд всякой философии и подобных ей наук. Между тем мне хотелось, чтобы «Следствие по делу Воланда» было чисто литературным анализом романа Михаила Булгакова, анализом, который был бы доступен для понимания любому человеку. Но без тех же самых упомянутых мною рассуждений «Следствие по делу Воланда» может показаться многим как будто незаконченной книгой, что будто бы автор в ней сказал не все до конца, что хотел. К счастью, именно к этому времени, когда была завершена первая книга этого диптиха, у меня созрела идея написать трактат на основе тех самых мыслей, что изложены в «Следствии по делу Воланда». Это позволило мне максимально освободить «Следствие по делу Воланда» от многих моих философских рассуждений, которые я в совершенно иной форме изложил в трактате, которому дал такое необычное название. Эти две книги, как я уже сказал, совершенно самостоятельны и друг от друга не зависят, но тем не менее они не могут существовать друг без друга в том смысле, что одна другую значительно дополняет. К тому же наше мышление устроено так, что мы лучше понимаем чужую мысль, если человек, который ее озвучивает, раскрывает ее два и более раз, причем в другой форме. Когда человек дважды, но по-разному, доносит до нас свою мысль, особенно в письменном виде, то мы лучше видим, где сердцевина этой мысли, а где ее лишь оболочка, что в ней главное, а что – второстепенное, или что в ней важно, а что незначительно.
Несмотря на то что мой трактат помещен в диптихе перед исследованием романа Михаила Булгакова читателю требуется начать чтение диптиха именно с исследования. Если же читатель начнет читать диптих с трактата, то тут есть больший риск начать чтение «Следствия по делу Воланда» в свете содержания этой книги, а это плохо именно тем, что в трактате излагаются именно мои, а не Михаила Булгакова, мысли, хотя они и основаны на моем толковании его же романа. Тут сразу возникает вопрос: а не проще ли было тогда поместить трактат о назначении человека после «Следствия по делу Воланда»? И тогда эта проблема, если это можно так назвать, была бы тут же решена. Зачем же он тогда поставлен на первом месте? Справедливый вопрос. Тут есть две причины, по которым я поместил книгу о назначении человека самой первой в данном диптихе. Первая причина кроется в психологии самого читателя. Если я бы поставил свой трактат на второе место, то была бы вероятность, что читатель даже не будет читать эту книгу после прочтения моего исследования. Если мне не хочется читать весь диптих, но при этом я начал читать его со второй его книги, то чисто психологически у меня будет хотя бы в слабой степени тайное желание взяться и за первую книгу, и это лишь потому, что она стоит на первом месте. Поразительно, что иногда подобные несущественные мелочи играют такую огромную роль. Вторая причина более заслуживает внимания, чем первая. Мне лично кажется, что и сам читатель на моем месте составил бы данный диптих в том виде, в каком он сейчас находится. Трактат о назначении человека хотя не имеет какие-то литературные особенности и гораздо меньше по объему, чем исследование романа Михаила Булгакова, все-таки важнее и выше, чем «Следствие по делу Воланда», что будет видно по прочтении обеих книг. Если выбирать чему быть, а чему не быть, то я бы выбрал именно первую книгу диптиха, а не вторую, хотя в нее вложено больше сил, труда и времени. Думаю, читатель поступил бы так же.
Таким образом, в «Диптихе тьмы» обе книги расставлены в обратном порядке, и следует начинать его чтение именно со «Следствия по делу Воланда», иначе читатель будет изучать это исследование в свете или на фоне того, что написано в моем трактате. В этом ничего плохого и тем более страшного нет, но все-таки лучше знакомиться с первой книгой диптиха уже после прочтения второго произведения.
Что касается самого содержания обеих книг диптиха, то по этому вопросу я уже кое-что выше сказал, но мне бы хотелось его осветить более подробно, хотя бы потому, что к моему трактату, например, никакого введения, вступительного слова или предваряющего книгу текста нет, а сказать, что это за книга, все-таки подробнее стоит.
Мне пришлось изложить суть своих обеих книг несколько непривычным и оригинальным для читателя образом: я это сделал пером выдуманного мною человека. Представим, что моей работе один критик – некий Сергей Евгеньевич Скурихин – дал больший отзыв в каком-то неизвестном журнале или на каком-то неведомом сайте. И вот из этого огромного комментария в виде обширной статьи я привел здесь выдержку, в которой меня называют нашим автором и которая имеет следующее содержание:
«…когда мы выражаем свое частичное или полное несогласие с написанным в книге, особенно с какой-нибудь теорией или каким-то учением, пахнущим чем-то новым, какой-то новизной, то, желая более простым способом опровергнуть автора, мы, как правило, ищем в его труде ту основу или ту мысль, на которой зиждутся все рассуждения, изложенные в его книге, и из которой они берут начало своему развитию. Мы ищем именно ту точку опоры, на которой держится вся мысль автора, которую тот развивает в своем труде, пытаясь в чем-то убедить читателя. И если лишить этой опоры книгу, то смысл опровергать все остальное в ней – все ее содержание – уже не имеет первоначального значения. Делая таким образом, критик сохраняет и бесценное время, и собственные силы, которые можно потратить на более важные проблемы и вопросы, прямым образом касающиеся его жизни.
В нашем случае оказалось все очень просто, ибо главную мысль, на которой утверждается диптих нашего автора, не надо даже искать, так как она лежит на поверхности и очевидна. Ее, правда, кому-то можно и не заметить при всей ее очевидности, как и зеленую вывеску в темноте «Запасный выход», но в любом случае эта мысль ярче прочих выделяется на фоне всего содержания диптиха подобно этой же светящейся надписи, которую лучше всего видно в ночное время, когда многое даже при наличии лампочек тонет во полумраке. Через обе книги диптиха красной нитью проходит простое, немудреное утверждение, которое практически никого не смущает своим значением, утверждение, которое состоит только из четырех следующих слов: «сатана – это не человек». Этот тезис может звучать и иначе: «дьявол не является человеком», но, очевидно, от его формулировки тут ничего не меняется. Чем же таким должно смутить, вернее, заставить задуматься человека данное утверждение? Надо сказать, что мы уже дали, причем в полном объеме, ответ на данный вопрос, потому что этот ответ содержится в самом вопросе. Мы спросили: «Что же такое должно заставить задуматься человека это высказывание?». А почему, спросим себя, в этом вопросе вместо слова «человек» мы не использовали слово «дьявол»? Не потому ли, что это два совершенно разных существа, одно из которых не из нашего мира? Бесы – это не мы, а это – те, кого мы называем они. Мы же себе, людям, задаем этот вопрос, а не им, бесам. Ведь так? Но давайте сделаем вид, что мы ничего этого не говорили и не слышали, а вернемся к нашему тезису, чтобы была возможность более понятно и просто раскрыть поставленный вопрос.
Казалось бы, что такого особенного, необычного и заслуживающего внимания, как спрашивает нас сам автор диптиха, может быть в этом тезисе? Что тут вообще можно обсуждать? И вообще есть ли смысл озвучивать этот тезис, если он сам по себе очевиден и относится к тому, что мы называем самим собой разумеющимся? Какое-то дальнейшее обсуждение данного тезиса, на первый взгляд, кажется в лучшем случае нужным только для тех, кто любит лишний раз пофилософствовать от избытка времени и тяги к праздным размышлениям, в худшем – совершенно странным и абсолютно бессмысленным. Никто не будет спорить, даже, должно быть, из тех, кто находится в числе помешанных и сумасшедших, что дьявол – это не человек. Более того, мы можем даже пойти и дальше: если мы начнем делить или раскладывать это утверждение на части – на более «мелкие» утверждения, то и тогда мы встретим полное согласие со стороны и пожимание плечами от недоумения. Когда мы скажем, что в сатане нет ничего человеческого, с нами согласятся. Когда мы скажем, что сатана существует не как человек, с нами снова согласятся. И когда мы скажем, что сатана видит, слышит, говорит, мыслит и думает иначе – не по-человечески – с нами и в третий раз согласятся. Можно, все больше углубляясь в вопрос, пойти и еще дальше – уже сравнивать состав, если можно так сказать, природы дьявола с человеческой. Если мы скажем, что у сатаны нет тела, все выразят свое согласие. Если мы скажем, что у сатаны нет души, здесь мы со стороны других встретим опять такое же согласие. И если мы выразим такую уже непростую мысль, что сатана существует по совершенно другим – не человеческим – законам, то мы и тут увидим одобрительные взгляды. Правда, стоит только любому из тех, кто с нами сейчас соглашался, сказать: «А как ты себе представляешь дьявола без души?», как мы тут же введем такого человека в растерянное состояние и озадачим его. Действительно, как себе представить того, точнее, как нам себя представить на месте того, кто не имеет души? Это как? Со стороны это легко говорить и легко представляется, но как только мы пытаемся это представить на месте самого дьявола, мы сталкиваемся с чем-то невозможным. Ведь это что же такое получается? Если у дьявола нет души, которая для нас является целым внутренним миром, нашим сердцем, то, стало быть, для дьявола не существует смерти, с чем, впрочем, все также согласны. Что для дьявола не существует смерти, это означает не только то, что он просто бессмертен, как бы имея сверхъестественную неуязвимость, а еще и то, что он вообще ее не знает, находится вне ее самой, что он не может ее для себя даже помыслить – представить себя мертвым. Это означает, что нет мертвых духов не потому, что они не восприимчивы к смерти, а потому, что находятся за ее пределами и границами. Это означает, что сатану невозможно довести до такого состояния, чтобы он захотел умереть, чтобы он стал мечтать о суициде или самоубийстве. И это означает, что в нем нет смерти даже как потенции. Но как? Как это представить? Как? Можно удивляться и дальше. Если у сатаны нет души, нет сердца, то, стало быть, у него нет душевных переживаний и вообще не знает их, что он никогда не говорит фраз, вроде такой: «У меня на сердце было хорошо», или такой: «Душа моя скорбела смертельно». И опять тот же самый вопрос: как? Этого же не может быть! – остается тут таким образом воскликнуть. Но это не «не может быть», а это просто невозможно представить. Кому? Верно: человеку. Тут выходит такая курьезная ситуация, по поводу которой можно только усмехаться. Сначала с нами всецело соглашались, что сатана не есть человек и что в нем нет ничего человеческого, а затем начали вопреки этому утверждать, что оказывается в сатане все это есть – все человеческое: и душа, и сердце, и тело, и смерть, и чувства, и все остальное. И в итоге мы пришли к обратному тезису, что оказывается, дьявол – это (усмехнемся) человек. Интересно, не правда ли? Какой-то издевательский круг. Причина такого явления тут может быть только в одном. Человек может мыслить и представлять что-либо или кого-либо только сообразно с самим собой, как сказал наш автор диптиха, антропоморфизируя или очеловечивая мыслимое и представляемое. Иначе и проще говоря, мы, люди, не можем мыслить и представлять то, что лежит за пределами нашей природы или нашей человечности, и наша мысль ограничена человеческим бытием. Самый яркий пример и самое яркое подтверждение этому – что о зле мы можем говорить только как о чем-то существующем, а самого зла как такового не просто нет, а оно вообще находится вне категорий существования и бытия. Воланд спрашивал Левия Матвея, что бы делало добро, если бы не существовало зла, а ведь так в строгом смысле о зле говорить нельзя, это всего лишь языковое допущение, инвалидное выражение, с чем не может не согласиться читатель.
На рассудочном уровне и на уровне личных убеждений мы считаем, что сатана не является человеком, но, не имея возможности это представить, вообразить это, мы вопреки собственным убеждениям мыслим его как человека, как одного из нас или как своего. Правда, такое очеловечивание дьявола совершенно не имело бы места, если бы у него с нами все-таки не было чего-то общего – того, что есть как у нас, людей, так и у него самого, дьявола. Ведь мы знаем, что человеком не является не только дьявол, но в том числе и Сам Бог. Но Бог совершенно сверхъестественен и предельно сверхреален, Он есть Дух, Абсолют или Ничто для нас и нашего мира, и поэтому мы Его не мыслим человекоподобным существом. Его даже существом называть, строго говоря, нельзя. Бог есть нечто совершенно непостижимое, нечто, что лежит за пределами нашего разума, и поэтому нашему разуму нет поводов для Его очеловечивания.
Это общее, что есть как у нас, так и у дьявола, является тем, что мы обычно называем личностью, эго или собственное «я» – разумное, самосознающее, экзистенциальное, самоопределяющееся, субъективное, индивидуализированное, личностное или, говоря языком богословия, ипостасное бытие. Дьявол, как и человек, является тем, к чему мы всегда задаем вопрос: «кто?», а не: «что?». В этом он нам подобен, и из-за этого возможно с ним общение и отношение, пусть и не как с человеком, а также, к сожалению, причислять его к людям.
Нам легко признать и считать, что какое-то существо может быть иноприродно нам и существовать не как человек, иметь свой не человеческий мир, но представить это нам не просто тяжело, а прямо невозможно, а эта самая невозможность понять, кто такой дух, вынуждает нас очеловечивать дьявола. Когда мы говорим, что мы – это звери, или что мы – это не стол, или что мы – это не деревья, или что мы – это не звезды, что общего между всеми этими утверждениями, несмотря на весь их свой исключительный смысл? Верно: во всех случаях слово «не» несет посюстороннее или, говоря проще, причастное человеку значение. Да, мы не звезды и не звери, и оба отрицания практически несопоставимы, но в любом случае это все наше: и звезды – это наше, и звери – тоже наше. Везде: наше. Можно сказать, все, что мы видим, весь мир, вся вселенная – это человек. Все это не есть сам человек, но все это человеческое. Вот это именно тот как раз случай, когда дальнейшее обсуждение и пояснение тезиса не имеет смысла, если мы просто хотим этим тезисом констатировать факт того, что мы утверждаем. Ничего особенного, необычного и заслуживающего внимания в утверждении, что человек – это не кошка, или что доска – это не зуб, или что луна – это не забор и не гаечный ключ, нет. Тут пояснять что-то просто нечего. Когда же мы говорим, что Бог – это не человек и что дьявол – это тоже не человек, то тут частица «не» уже несет другой, а именно – потусторонний смысл. Это вообще, пожалуй, единственные два случая, два утверждения, когда слово «не» в них несет такое именно значение. Тут оно уже означает: не наше. Даже сам Воланд, когда говорил с Левием Матвеем о свете и тенях, ни о каких духах не упоминал, будто их нет в нашем мире: «Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп».
Заметим, что духи подобно Богу являются лишь предметом веры человека, но никак его знания. Мы можем только верить в Бога и ангелов, а также в дьявола, но знать, что они есть, что они существуют, мы не можем. Поэтому духи подобно Богу не могут быть предметом изучения науки как естествознания: ученый человек может верить в Творца мира, который с удовольствием исследует, но в своем исследовании вселенной для него как Бога, так и ангелов с дьяволом как будто не существует, тогда как какой-нибудь инопланетный разум уже является предметом науки, хотя его может даже не быть (над этим просто стоит задуматься!), а все потому, что для человека все духи могут быть только предметом веры, ибо такова их просто сверхъестественная (сверхчеловеческая) природа, в силу которой мы можем лишь верить в ангелов. Признание бытия Бога влечет за собой неизбежно признание и бытия духов, а не верить в Бога означает обязательно не верить и в ангелов с бесами. По-другому никак. Даже никакой непосредственный контакт или общение лицом к лицу с сатаной в принципе не может в человеке, то есть в нас, породить веру в дьявола, точнее, знание его существования. Это прекрасно продемонстрировал в своем романе Михаил Булгаков. Как мы видим, непосредственное общение с Воландом ни в ком вообще из москвичей не породило веру в его бытие. Даже Иван Бездомный, сидевший рядом с сатаной на одной скамье, в конце концов примирился с официальной версией следствия по делу Воланда, что в Москву тогда явилась шайка преступников и гипнотизеров. Про это писал и булгаковед Борис Соколов: если бы сейчас сатана и впрямь явился бы в Москву, как в романе Михаила Булгакова, то и тогда бы его сочли за шарлатана и гипнотизера.
Наш автор диптиха правильно проводит такую немного смешную, шуточную, но за то очень удачную параллель с пришельцами из космоса, которых можно представить человекоподобными существами из современного кинематографа, который заимствует их для себя из известных всем мифов и легенд. Все эти так называемые гуманоиды: гномы, эльфы, тролли, орки и гоблины, кем бы они ни были, действительно не менее человечны, чем мы, и в них столько же человеческого, сколько его в нас. Поэтому явление таковых на нашу планету из космоса породило бы обязательно супружеские и брачные союзы нас, людей, с ними, человекоподобными существами или, говоря более прямо, также с людьми. Кто-то бы этому обязательно сначала противостоял, видя в этом нечто дурное, но в конечном итоге мы бы поняли, что, например, в любви между человеком и эльфийкой ничего плохого нет. Она столь же естественна, как любовь между человеком и женщиной. Гипотетически существующие инопланетяне, таким образом, являются предметом веры только до тех пор, пока мы их не видим, но если бы они появились, то они стали бы для нас тем же, чем служат нам окружающие нас люди. А с сатаной и бесами все совсем иначе: сколько бы с ним не вели прямое и непосредственное общение, он всегда будет для нас предметом веры, тем, что можно счесть за галлюцинацию, призрак или плод шизофрении. Кажется, перед нами сидит вполне осязаемый мужчина, который на самом деле является самим дьяволом, но стоит ему перестать с нами общаться, как мы тут же потеряем веру в бесплотного духа. Опять же в романе Михаила Булгакова это очень хорошо показано: кажется, только вчера Мастер беседовал с Воландом, но уже сегодня он щипает себе руку, видя перед собою его посланника. Почему так? Почему гипотетически существующие пришельцы не могут быть предметом веры, а дьявол непременно таковым является для человека? Значит, есть что-то такое в сатане, что вынуждает нас в него только верить. И что это такое, все знают: он дух, он бесплотное и потустороннее существо, он не человек. Наш автор же диптиха сделал попытку объяснить, что такое дух, и ему это вполне удалось благодаря роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Так появилось на свет сначала «Следствие по делу Воланда», а затем – «Книга дьявола: о Пресвятой Троице. Назначение человека».
Хотя наш автор начинает свое исследование романа «Мастер и Маргарита» не с обсуждения тезиса, что дьявол не является человеком, а с постановки вопроса, кто такой Правдивый Повествователь, именно это утверждение послужило отправной точкой для всех его рассуждений. Нельзя, в самом деле, не заметить, даже последнему глупцу, что в романе о Пилате (что написан Мастером) или в так называемых ершалаимских главах как действующей фигуры Воланда явно нет, тогда как в так называемых московских главах он фигурирует постоянно. Сам Воланд своим собеседникам на Патриарших говорит, что тайно и инкогнито присутствовал на суде Пилата и был свидетелем всего этого. Как и следовало ожидать, на фоне его явного отсутствия в Ершалаиме и под влиянием его признания, что он все-таки присутствовал, но тайно, в этом древнем городе, мы начинаем искать, где он мог бы там находиться. Но чего-то, что бы его напоминало, там совсем нет. Но, когда дело доходит до знакомства с самим Афранием, выясняется, что тот до бесконечности напоминает Воланда, как будто это один и тот же человек (человек?). Причем, как справедливо заметил наш автор диптиха, это сходство в глазах читателя значительно усиливается тем, что внешне они представляют собою совершенно два разных человека. Но! Постойте, постойте! Как, как мы сказали? «Два разных человека»? А перед этим как? «Это один и тот же человек»? А разве Воланд – это человек? Но давайте опять закроем глаза на эту «незначительную» ошибку, на этот «простительный» огрех и продолжим комментарий нашего исследования. Если Афраний представляет собою скромного, невозмутимого, умного, исполнительного, ответственного, знающего свое дело, решительного, ничем не выделяющегося, с приятным лицом, римской крови, с высоким голосом человека, то Воланд представляют собою тоже невозмутимого, но уже солидного, мудрого, с чувством юмора, красноречивого, обаятельного, вежливого, гордого, с жуткоглазым лицом, немецкой внешности и, наконец, с низким голосом человека, который явно во всем отличается от Афрания, но при этом до ужаса схож с ним. «Ах! Опять!» – тут мы должны так воскликнуть. Разве, опять спросим себя, Воланд – это человек? Если он не человек и мы это прекрасно знаем и понимаем, то почему же мы снова ошиблись, как будто не можем здесь не ошибаться? Вот тут-то нам в романе и открывается глаза на то, в чем же все-таки отличается человек от всех духов, которых мы всегда очеловечиваем.
Каждый раз, когда поднимается вопрос сходства Воланда и Афрания, мы, как говорит наш автор диптиха, спотыкаемся на собственных словах, как бы видя в них определенную ограниченность. Наш язык нас тут охотно подводит: нам хочется сказать и действительно говорим, что Воланд – это человек, когда его сравниваем с Афранием, а между тем мы прекрасно осознаем, что это не так, что Воланд – это никакой не человек, а дьявол, сатана, бесплотный дух. Нам хочется говорить о Воланде и Афрании как об одном человеке, а между тем первый таковым даже не является. Наша мысль тут явно приходит в какой-то тупик, не понимая, что значит быть духом, когда мы говорим, что любой дух – это не человек. Это отрицание для нас как будто неестественно. Тут приходится чисто искусственно объединять этих людей, нет, ошиблись, этих… персонажей каким-то другим одним именем. Можно сказать, как мы уже сказали в предыдущем предложении, что это персонажи, можно сказать, что это герои, действующие лица, фигуры, можно сказать, что это существа, твари, можно сказать, что это субъекты деятельности, а можно сказать, что это личности. Любым из этих имен допустимо и можно назвать Воланда и Афрания, но назвать их людьми сразу обоих, разумеется, нельзя, даже в порядке исключения, которое можно найти в любом правиле. Тогда тут перед лицом такого удивительного обстоятельства встает во всей своей силе вопрос, кто же такой дьявол, и ответ на него уже содержится в теории тождества Афрания и Воланда. Тут перед лицом своей собственной совести сам человек видит в переходе Афрания как человека в другого Афрания как дьявола, кто такой человек и кто такой дьявол. Причем, видит читатель все это как на ладони.
С одной стороны – со стороны Афрания, который еще представляет собою человека, или со стороны того, кого мы еще недавно считали человеком, – мы видим существо, которое ищет в этой жизни утверждения своей личности в подобных себе людях. Этот человек, которого мы охарактеризовали уже как исполнительного, умного, ответственного, невозмутимого и беспристрастного слугу, достойно, завидно и добросовестно несет свои обязанности начальника тайной службы. Он настолько хорош, что порою кажется даже идеальным, он настолько хорош, что даже прокуратор Иудеи не удерживается восхищаться им, хотя он по долгу службы старается видеть в своем слуге всего лишь исполнителя своей воли, который заслуживает таких же наказаний за любую провинность, какие несут и остальные подчиненные, включая тех, кто прокуратору явно не нравится. Но ясно же, ясно как день, что вся эта непогрешимость Афрания далеко не безусловна, что любую крепость можно взять, главное – найти способ. Если благодаря Одиссею греки взяли Трою, то тем более можно соблазнить и Афрания – способствовать его падению и нравственному разложению – лишению прежнего человеческого облика. Можно представить (подчеркиваем: представить), что Афраний, например, спился, или что Афраний зарезал Пилата из-за тайной давней обиды, или что Афраний, находясь на задании, увидел, как кто-то сломал ногу и страшно стонет, и из чувства жалости решил ему помочь, нарушив порученное задание, или что Афраний в кого-то влюбился и также из-за этого упал в глазах своих почитателей. Какие-то только причины можно придумать, что способствовали потери его прежнего авторитета, уважения и обаяния. Даже если ничего из того, что мы придумали и назвали, не может помешать ему исполнению своего долга службы, в любом из этих названных случаев он хотя бы потенциально мог переступить дозволенное, то есть согрешить, говоря языком христиан, соблазниться. И кто знает (а узнать это, сразу скажем, мы не можем), что же на самом деле побудило его стать таким человеком. Это у него в крови? Или его так воспитали? Кто знает, может, он и впрямь любит свою работу и делает ее чисто по совести, а может, он просто хочет выглядеть в глазах окружающих таким хорошим, чтобы о нем лестно отзывались. Его души, его сердца, его внутреннего мира, его индивидуальных переживаний никто же не видит. Может же он, в самом деле, ни с того ни с сего (хотя так не бывает) взять и бросить службу и стать, например, философом, уехав в Грецию к Аристотелю? Могут быть сотни, тысячи, миллионы разных причин, которые его побуждают быть таким, каким он представлен в романе. Проще говоря и суммируя сказанное, мы видим в Афрании самих себя: Мастера, Ивана, Пилата, Матвея, Каифу, Иуду, Толстого, Пушкина, Достоевского, Моцарта, Шуберта, Наполеона, Аристотеля, Ивана Грозного, Ленина, Александра Македонского, Коперника, Карамзина – кого угодно. Да, каждый из нас как исключительная личность может от него, от Афрания, сильно отличаться, но как человек каждый из нас с ним предельно одинаков: каждый из нас может стать таким, как он, и он может стать таким, каким каждый из нас является. Все зависит от того, что на самом деле человек ищет в этой жизни, чего на самом деле он желает и о чем мечтает, и это-то и определяет его весь духовно-нравственный облик и всю его жизнь. Но что бы мы ни искали, в том числе сам Афраний, нас объединяет желание так называемого самоутверждения – желания признания и одобрения со стороны окружающих, желания не быть одиноким, желания, которое вынуждает нас изменять самим себе – жить не так, как мы считаем должным жить. Мы предчувствуем и знаем по опыту других, что жизнь по правде и совести сулит одни страдания и обещает одиночество, предвещает скорбную, одноцветную, незавидную, безрадостную и скучноватую жизнь. Во всех наших взаимоотношениях есть примесь фальши и друг перед другом мы не настоящие, а носим так называемые маски.
С другой же стороны – со стороны Афрания, который уже представляет собою не человека, а духа или дьявола, или со стороны того, под капюшоном кого, возможно, скрывается сам Воланд, – мы видим существо, которое ищет в этой жизни совсем не того, что ищет обычно человек или что бы искал Афраний как человек. О реальных намерениях такового Афрания мы положительно сказать ничего не можем, ибо это возможно только тому, кто сам является духом, но никак человеком. Поэтому здесь возможно говорить, что тут ищет Афраний, только языком отрицания, и мы уже это сделали, сказав, что Афраний-дьявол преследует не человеческие цели. Он совсем не для того состоит на службе у прокуратора, чтобы выглядеть хорошо в глазах окружающих, получать деньги, иметь уважение и самоутверждаться. Совсем не для этого. Он для чего-то другого носит этот капюшон. Он что-то другое ищет. Но, что бы он ни искал, ясно и несомненно, что он преследует то, что преследует сам Воланд со своими прислужниками. А что преследуют эти демоны, наш автор диптиха попытался раскрыть в своих двух книгах, и у него это хорошо получилось.
Наш автор глубоко и совершенно прав, когда говорит в «Следствии по делу Воланда», что теория тождества персонажей Воланда и Афрания есть больше, чем просто обыкновенная теория. Всякая теория нами всегда воспринимается как нечто, что заслуживает признания и существования, что может иметь как сторонников, так и противников, но что не может никогда считаться за какую-то истину – на то она и теория. Теория – это, позволительно сказать, мнение с большой буквы, которое, правда, в отличие от обыкновенного мнения, для несогласия требует какое-нибудь опровержение, каковое соразмерно тем доказательствам и доводам, на которых основывается теория. В нашем случае это к Воланду и Афранию никакого отношения ровно не имеет, и тут слово «теория», можно сказать, совершенно не подходит, тут нужно какое-то другое слово. Эта теория как будто уже встроена самим Михаилом Булгаковым в свой роман, и ее не надо поэтому сооружать, строить, доказывать, выдвигать, становиться ее автором или разработчиком, и она не может иметь сторонников и противников, потому что не является в строгом смысле теорией. Тут нельзя кому-либо говорить, что такой-то человек, хотя бы наш автор, считает, что под капюшоном Афрания может скрываться сам сатана. Даже если какой-то читатель сам не дошел до мысли, что, возможно, Афраний и Воланд – это один дьявол (кстати, мне в самом деле хотелось здесь написать слово «человек» несмотря на то, что очень хорошо знаком с «Диптихом тьмы»), то стоит ему только задать вопрос, не думал ли он том, что Воланд и Афраний – это одно лицо, как он тут же нам на это ответит: «А, кстати, да… да. Точно… Есть что-то в этом», или что-то в этом роде. Человек в прямом смысле слова притворяется, натурально притворяется, если говорит, что в этом ничего не видит. Еще более он притворяется именно тогда, когда начинает видеть тот самый переход с одного Афрания на другого – с человека на сатану. Тут нельзя не увидеть, что мы с одной стороны видим человека, мужчину, «какого-то мужика», который просто порядочен и исполнителен и в котором есть потенция ко всему тому, в силу чего мы являемся сейчас такими, какие мы в данный момент есть, а с другой стороны мы видим уже не человека, не мужчину, не «какого-то мужика», а духа, которого нельзя, просто невозможно слить с первым Афранием в одно лицо или существо. Это все равно что пытаться смешать воду с маслом, чтобы получилась одна жидкость. Тут благодаря Афранию видно, кто такой человек, как на ладони. Заявление-то какое сильное и громкое: как на ладони! И, кроме того, тут также во всей полноте становится понятным утверждение, что дьявол не есть человек. Этот тезис здесь, на примере Афрания, становится наглядной иллюстрацией, и мы, глядя на нее, начинаем уже в нужном смысле понимать, что конкретно имеется в виду, когда нам говорят, что сатана – это не человек, что он – это не мы.
Наш автор пришел к таким интересным выводам и заключениям, которые могут показаться многим прямо каким-то новшеством и слишком оригинальными в своем роде. Но они только могут такими казаться, в действительности же тут никакого новшества нет. Чего стоит, например, то заключение, что, оказывается, сами по себе так называемые бестелесность и телесность, первая из которых, как известно, принадлежит ангелам, а вторая – человеку, никакого отношения как к человеческой, так и к ангельской природе вообще не имеют, будто их, бестелесности и телесности, вообще онтологически нет. Ангелы действительно бесплотны, но эта бесплотность представляет собою совсем не то, что под нею обычно представляют и разумеют. По словам автора диптиха, телесный дьявол, если б такой был, не менее дух, не менее бесплотен, чем бестелесный сатана, а бестелесный человек не менее человечен, чем обыкновенный человек – такой же, как и мы. Наиболее ясно наш автор это доказывает и показывает в своем трактате. Там он в качестве наглядной иллюстрации приводит выдуманную им беседу, в ходе которой некоторый ведущий, обладающий сверхъестественными возможностями, наделяет взмахами руки супружескую пару всеми свойствами, каковыми обладают ангелы по своему происхождению. И всякий раз, как он наделял обоих собеседников очередным свойством духов, те заявляли, что от этого не стали нисколько менее человечными, менее принадлежащими к человеческому роду или менее людьми. Дошло даже того, что от супружеской пары вообще ничего не осталось на диване, на котором она сидела, но и при этом оба собеседника признавались, говоря как бы из воздуха, что не перестали чувствовать себя прежними людьми – такими, какими были до начала сеанса. После эксперимента ведущий сказал, что участие самого дьявола в аналогичном эксперименте, в котором сатану бы наделяли человеческими свойствами нашей природы, привело бы к такому же результату, и супружеская пара с этим полностью согласилась. По мнению нашего автора диптиха, бестелесность или бесплотность действительно отличает ангелов и демонов от нас, но это не есть то, что в самую первую очередь определяет их быть духами или существовать как духи. То, что мы называем бесплотностью всех духов, как основной их характеристикой, является, оказывается, не чем иным, как всего лишь незнанием ими любви по своей природе или невозможностью любить им по своему происхождению, но самой бесплотности или, напротив, телесности как таковой нет. Это просто слова, которыми мы хотим сказать, что такое-то действующее лицо есть человек, а такое-то – ангел. Любой ангел или любой демон может быть предельно телесен, предельно осязаем, предельно плотским и притом не призрачно, но он все равно при этом будет бестелесным, пока не знает того, что знает каждый человек. И это – любовь. И все это наш автор доказывает в своих обеих книгах. Эту аргументацию мы здесь приводить не будем. Скажем лишь, что тому ведущему стоило только наделить участников эксперимента при их первоначальном виде невозможностью любить, как они тут же перестали бы быть людьми.
Столь необычные заключения ведут к уже другим столько же необычным выводам. Как известно, мы, люди, точнее, христиане, именуем Любовью Того, Кого называют Богом или Творцом. Но если в действительности ангелы имеют другое предназначение и сотворены Господом Богом не для любви, то, следовательно, Бога они называют не Любовью, а каким-то другим именем, которого человек не знает, как не знают сами ангелы любви, хоть и понимают, что это такое, постоянно взаимодействуя с нами. По словам нашего автора диптиха, как они, то есть ангелы и демоны, называют и именуют Бога, именно для того они и созданы, именно это они и ищут в этом мире, вступая в отношения с нами, именно это и делает их духами – теми, кого нельзя назвать людьми. Если мы узнаем, Кто для них есть Бог, как они Его именуют, то мы тогда узнаем, кто такие и они сами и что ими движет, а также что же на самом деле способствовало падению сатаны и сохранению светлыми духами своей святости – верности Богу.
Только не следует данную мысль нашего автора, которую он изложил в обеих книгах своего диптиха, понимать слишком упрощенно, примитивно и близоруко – что будто бы все до единого духи в самом деле называют Бога каким-то другим именем – неизвестным словом, которое звучит иначе, чем известное слово «Любовь». Наш автор своей мыслью, что ангелы и демоны зовут Бога другим именем, хочет, как мне видится, лишь сказать, что они не знают Бога так, как Его знают люди, потому что для того, чтобы знать духам Бога так, как его знает человек, им бы пришлось быть самим людьми. Они тоже Его зовут Любовью, для них тоже Бог есть Отец, Сын и Дух Святой, но из-за того, что в их мире нет ни любви, ни отцовства, ни сыновства – ничего вообще человеческого, для них Бог не есть ни Любовь, ни Отец и ни Сын. Мы называем первые два Лица Пресвятой Троицы Отцом и Сыном, а Их личные отношения – рождением, но ведь это все только исключительно человеческие понятия, и поэтому то, что мы называем рождением от Отца Сына, очевидно, не есть никакое рождение, что в свою очередь означает, что первые два Лица Божества называются нами Отцом и Сыном лишь потому, что Их следует обоих как-то именовать и называть: есть только Тот, Кого именует человек Отцом и Сыном, а Сам Бог при этом ни в каких именах не нуждается, так как только мы со всеми духами нуждаемся в них. Только третье Лицо Пресвятой Троицы, так уж получилось, называется нами именем, которым мы называем также тех, кто приходится нам ангелами и демонами, – духом (но Его лично – Духом Святым). Однако и это имя, надо сказать, тоже человеческое, ибо, как мы уже сказали, есть лишь только те, кого человек называет духами, а кто они такие, пока от всех нас держится в тайне. Соответственно, то, что называют исхождением от Отца Духа Святого, не является исхождением в человеческом понимании этого слова.
После всех этих выводов, в конечном итоге, наш автор ставит читателя и самого себя перед очень сложным и даже в каком-то смысле обязательным вопросом: зачем собственно Бог создал ангелов, сотворил тех, с кем как с людьми – как мы друг с другом – мы вести общение не можем? Этот вопрос ставится не из какой-то праздности и любопытства, а он сам встает неизбежно перед всяким, кто решился прочесть диптих тьмы. Почему, например, Бог не мог сотворить мир как-то иначе, каким-то таким образом, чтобы в нем все были людьми и не было никаких ангелов? Ведь в нашем случае мироздания выходит все таким образом, что все-таки лучше выйти из рук Творца человеком, а не духом, поскольку явно первое существо, несмотря на все свои немощи, слабости и страсти, совершеннее и более уникально, чем второе. Да, духи не знают, что такое любовь, она не существует в их мире, и поэтому поводов для зависти и страданий тут нет, но в любом случае осознание того, что ангелы – это не люди, что они сами – это не мы, в них самих есть и присутствует. Они понимают лично, что не являются людьми. Получается, что как будто все, кого мы называем ангелами, были сотворены только по одной причине желания Бога создать человека, хотя они и возникли, как следует из Священного Писания, задолго до него, а не одновременно вместе с ним. Получается, что как будто сотворение человека неизбежно предполагает наличие в его мире духов, с которыми тот вместе с людьми будет вести общение. И получается, что ангелы сотворены Богом лишь потому, что должен был быть сотворен человек. И, кроме того, выходит, что ангелы не есть случайность, случайное творение в этом мире, не есть то, что могло быть и не создано, а ангелы есть необходимая составляющая этого мира и самого человека в первую и самую главную очередь. Этот вопрос, чтобы было понятнее и чтобы было более ясно, можно поставить иначе. Можно ли было создать мир и человека в нем так, чтобы не было никаких ангелов? Позволительно ли мыслить человека как субъект деятельности, который свободен от общения с духами, или все-таки без них он даже не может существовать? Можно поставить вопрос еще более ясно. Что будет или что произойдет с человеком, со всеми нами, если вдруг, в мгновение ока все духи, все ангелы и демоны исчезнут, обратятся в небытие, обратно в ничто? И вот если мы на этот последний вопрос ответим, что с человеком, в сущности, ничего не произойдет, что он дальше сможет, пусть и менее совершенно, существовать и жить, то нам придется отвечать, зачем же тогда нужно было творить тех, кого мы называем ангелами, если в этом не видно смысла? Зачем? Или все-таки мы должны полагать, что без существования духов сам человек существовать не может? Ангелы и демоны – это гости в нашем мире или постоянные его обитатели? Вот такой вопрос в конечном итоге из все этого ставится перед нами: зачем Бог, Которому нужно было подобное Ему существо, дал бытие не одному только человеку, но и каким-то (неудачное слово) ангелам, которые ангелами на всю вечность (на всю вечность!) так и останутся? Зачем помимо человеческой Богу необходима еще какая-то (опять такое слово) ангельская носцентричность? (Об носцентричности пару слов будет сказано ниже.) Зачем нужны в нашем мире те, кто имеет другую – ангельскую – природу и другой – ангельский – характер отношений между собою и в ком нуждается человек, хотя и не всегда осознает это? Почему Бог судил одним быть ангелами, а другим – людьми? Не проще ли было дать бытие одним людям? Эта тайна станет еще более таинственной, если мы вспомним библейский миф о грехопадении. Согласно этому мифу человек пал из-за искушения дьявола, сорвав запретный плод с дерева познания добра и зла. Но ведь из этого прямо следует, пусть даже это и неверно, что Богу было необходимо не просто наличие ангелов в сотворенном Им мире, но и падение некоторых из них. В любом случае выходит, по нашей земной логике, что для полного осуществления непостижимого Божьего замысла о человеке Богу нужен тот, кого мы именуем сатаной или дьяволом, а стало быть, и осатанение кого-то из ангелов. Тут мы уточним, что мы ставим вопрос совсем не о том, что бы было, если бы не было того самого падения одной части духов – тут речь не про историю, которая не любит сослагательное наклонение, а о том, нужен ли дьявол как дух зла в этом мире, точнее, нужен ли дьявол для полноценного, если можно так сказать, существования человека и для осуществления всех Божьих планов и замыслов. Налицо явная тайна.
Иоганн Гете говорит устами Мефистофеля, что сатана есть «часть той силы, что вечно хочет зла». Это означает, что дьявол всегда желает зла человеку. Но это желание наверное не есть тот первичный толчок, который вынуждает вступать сатану и всех вообще бесов в общение и отношения с человеком. Желая нам зла, они чего-то для себя ищут, ждут, чего не ищут, не ждут люди. Когда какой-либо человек ненавидит другого человека, то понятно же, что здесь ненависть к другому в своей первичной основе представляет собою тайное для самого испытывающего ненависть человека желание, чтобы ненавидимый им человек нашел способ как эту ненависть к себе в нем остановить, но сам ненавидящий при этом ошибочно полагает, что будто бы в самой глубине своей души желает только избавиться любым способом от предмета своей ненависти, чтобы эту страсть, это чувство удовлетворить, то есть сам ненавидящий, проще говоря, сам не знает, чего на самом деле хочет, когда кого-то ненавидит. Эта ненависть его просто ослепляет, затуманивает его рассудок, вынуждая его думать, что ненависть – первичный толчок в отношениях или связи с ненавидимым человеком, с котором нужно просто примириться. Давайте возьмем даже конкретный пример, правда, уже не с ненавистью. Святая Церковь нисколько не сомневается в том, что будет непростое время, когда на арену мировой истории выйдет человек, которого Откровение называет антихристом. Что конкретно его побудит стать богоборцем и врагом Христа, даже предположить очень сложно. Может быть, он станет антихристом, потому что дьявол ему многое наобещает. Может, он станет антихристом, поскольку у него в детстве будет какая-то психологическая травма. Может, он станет антихристом, потому что, живя ревностной христианской жизнью, он себя кем-то возомнит. А может, он станет антихристом потому, что он, как некоторые христиане, разочаруется в самом христианстве и начнет после этого ему мстить, ведя всех людей в вечную погибель. Что это будет за человек по своему характеру, темпераменту, уму, жизненной позиции, нравственным принципам и личностным взглядам, предположить очень трудно, но, каким бы он ни был, будь он даже самой женщиной, как было показано в одном фильме, в любом случае антихрист будет преследовать и искать то, что ищет и преследует любой человек и каждый из нас. Должно же быть что-то такое в этом человеке, в антихристе, в таком же существе, как и мы, что лежит и находится поверх всего того, что мы называем богоборчеством и враждой с христианством. И что это такое, мы уже прекрасно знаем, рассмотрев выше краткое сравнение одного Афрания с другим – человека с дьяволом. Аналогичным образом, надо полагать, и тут: то, что дьявол желает человеку и каждому из нас зло, является только следствием того, что он по происхождению своему есть дух, который просто не может не знать людей, как будто они не существуют. Можно сказать, можно полагать, что сатана, желая человеку зла, думает, что отвечает своему назначению быть ангелом, как и мы аналогичным образом всегда думаем (хотя при этом знаем прекрасно, что это не так), что отвечаем своему назначению быть человеком и чувствуем себя людьми, когда ищем и ждем от других людей любви. Дьявол чего-то ищет от нас, чего, видимо, сам не знает, он для чего-то вступает с нами в общение, но, что к этому его склоняет, знает один только Бог, а мы же пока можем говорить неопределенно, что сатана имеет сношения с человеком, поскольку к этому склоняет его злую ангельскую волю что-то ангельское, а что это такое, повторимся, никто, кроме Бога, пока не знает. Действительно, загадка.
Действительно, берет душу какая-то незаметная для самого себя жуть, когда осознаешь, когда понимаешь, когда приходится сталкиваться с громкоговорящим фактом, что в мире мы далеко не одиноки, что помимо людей в нашем мире обитают еще и духи. Когда Никанор Иванович вошел в кабинет Берлиоза, Коровьев был им сочтен за неизвестного человека, в котором, правда, уже чувствовалось что-то нечистое или, возможно, даже потустороннее. И это предчувствие оправдалось уже после: сначала на лестнице дома, а потом уже окончательным образом на допросе следователей. Можно себе представить, что бы чувствовал Босой, если бы сразу знал, с кем один разговаривает в 50-й квартире? Как это понять, что мы говорим вот сейчас, в данную минуту, не с человеком? Это как понимать? Кто такие бесы? Кто же они такие? Нас же охватывает тут жуть вовсе не потому, что мы прекрасно понимаем, что духи о нас, о всех наших тайных и постыдных делах, о всем нашем сокровенном: о наших мыслях, желаниях, намерениях, фантазиях, мечтах, можно сказать, все знают. Нет, не в этом прежде всего причина, а в другом: нам жутко именно от осознания того, что нам приходится говорить не с человеком, а с каким-то духом, хоть с добрым, хоть с злым. Что-то нам подсказывает, что при возможной встрече с ними или с кем-нибудь из них, нам не удастся, мы не сможем, у нас не получится быть ненастоящими – быть в маске, а придется быть таковыми, какие мы перед самими собою есть. Говорить с духом лицом к лицу – это как будто то же самое, что говорить со своей совестью. Кто такие бесы, зачем они нужны и что Бог ждет от них, решительно непонятно. Но они тем не менее существуют, и мы верим в это, верим в них, и нам придется потом всю вечность с ними сосуществовать, и от этого никуда никому не деться.
Как мы видим, мы имеем дело с существами, природу которых в этой здешней действительности мы понять не можем в силу того, что человек мыслит, представляет и думает только и только сообразно с самим собой. Вспомним, что мы все судим по самим себе. Этот известный упрек тут подходит как нельзя кстати. Мы даже творим и придумываем что-либо также исключительно по своему подобию. Все виртуальные и игровые миры – человеческие, а не ангельские. Все машины, живые механизмы, роботы, киборги, андроиды и подобные им искусственные люди – это люди, но никак не ангелы. Мы их так и называем: «искусственный человек», а общение с ними мы ведем также человеческое, просто только оно искусственное, суррогатное, неестественное, но все-таки всегда человеческое. Про гуманоидов – человекоподобных существ – мы уже сказали достаточно. Мы не можем, нам невозможно своей мыслью представить – сотворить – ангела, мы ею можем сотворить только что-то себе подобное, что-то сообразное самим себе. Мы говорим, что ангелы другой природы и поэтому они не люди, но значение тут обоих слов «другой» и «не», как мы уже поняли, совсем не такое, с каким нам приходится всегда сталкиваться и иметь дело. Животные ведь тоже другой природы, растения и грибы тоже другой природы и, наконец, сказочные гуманоиды тоже другой природы, и все это верно. Когда же мы говорим, что духи иного происхождения, иной природы, то мы тут выражаемся инвалидным образом и несовершенно, ибо тут слова «иной», «другой» и «не», если судить даже не строго, тут не подходят. Даже утверждение, что ангелы из другого мира, является тоже инвалидом нашего языка, ибо в той же степени будет верно сказано, что ангелы из нашего мира и что духи находятся в нашем мире, что они не в какой-то другой вселенной и реальности, ибо они с нами сосуществуют. Так духи из нашего мира или из какого-то своего? Верно и то, и другое, но также неверно ни то, ни другое. Духи находятся как будто в другой плоскости нашего мира, и на линии пересечения их и нашей плоскости и происходит наше общение и взаимодействие. Мы вообще знаем об ангелах благодаря чисто Божественному откровению и их личному проявлению в этом мире: они дают тем или иным образом о себе знать, и мы благодаря этому понимаем, что, кроме нас, есть кто-то еще. Если же бы они никак не давали о себе знать, то мы бы о них ничего не знали, и они были бы для нас просто ничем. Больше сверх этого, пожалуй, ничего сказать нельзя. Остается только примириться с тем, что мы об ангелах знаем только то, что они не люди. С чего мы начали, тем и закончили: как мы начали с утверждения, что дьявол не человек, так и закончили тем же, что дьявол – это не человек. И всякий из нас, кем бы мы ни были, когда будет писать что-то об ангелах и демонах, может начать излагать свои мысли только лишь с утверждения, что сатана не представляет собою человека, и закончить их этим же утверждением.
Если читателю нужна моя личная оценка диптиха нашего автора, для чего я собственно и писал данную статью, то мой вердикт будет таков. Диптих тьмы твердо заслуживает положительной оценки. По прочтении обеих книг у читателя сложится представление, что отличие человека от всех духов со стороны кажется совершенно незначительным, что как будто его даже и нет, но эта незначительная деталь (так выразимся), что есть в человеке, но нет в ангелах, то, за что первый называет себя человеком, значительным образом отличает его от них. В самом деле можно подумать, что как будто ангелы – это какие-то люди, которых людьми мы при этом не называем. Вроде и общение с ними такое же, как у нас, или хотя бы подобное нашему. Но как раз в этой межличностной связи – нас с ними – обнаруживается все их коренное отличие от нас. Ангелы, оказывается, по природе своей не знают любви, они ее не ведают по своему происхождению – эту совершенно незначительную, как кажется, деталь. И вот эта-та незначительная, едва уловимая человеческим глазом деталь, которую можно увидеть разве только под самым лучшим микроскопом, и делает нас столь бессильными, немощными, слабыми и беспомощными перед духами, в том числе перед бесами и самим дьяволом. И благодаря этой же детали человек превосходит всех ангелов. Давно уже умным людям известно, что подлинная сила человека заключается совсем не в каких-то внешних проявлениях, свойствах или способностях, а в его духе и разумном подходе ко всем жизненным вопросам и обстоятельствам. Человек в любом случае побеждает другого, если имеет самообладание, самоконтроль, невозмутимость и умение мужественно перенести любой упрек, который должен был бы задеть его самолюбие и хоть как-то вывести его из себя, – умение подставить другую щеку. Именно это делает человека непобедимым, а не что-то другое. Естественно, так же надо думать и об ангелах. Мы бессильны и беспомощны перед всяким из них не потому, что они обладают какими-то возможностями и способностями, которыми их наделил Бог, а потому, что по природе они бесстрастны и не ищут того, что ищет человек – признания и одобрения, почему друг перед другом они настоящие и не носят маски, не имея и тени притворства. Мы могли бы как тот самый ведущий из беседы лишить дьявола всех его способностей и при этом его максимально очеловечить, наделив его всеми свойствами, которыми обладает человек, но и в таком случае мы будем ощущать перед ним свою духовную беспомощность. На фоне всех духов человек выглядит беспомощно, жалко, слабо и смехотворно. Но зато на фоне человека жизнь духов выглядит двухцветной, простоватой, ничем для нас не примечательной и всегда одинаковой. Каким был дьявол с начала времен, таким и остался. Нельзя сказать, что сатана был вчера или станет завтра другим. Все бесы похожи друг на друга, все люди разны по-своему. Дьявол никакую силу не применяет, он сильнее нас только и исключительно тем, что он является духом. Именно таким его и изобразил Михаил Булгаков в своем романе.
Как мы уже сказали, мы знаем об ангелах только благодаря Откровению и их личному проявлению в нашей жизни, когда они дают как-нибудь о себе знать. Естественно, в таком случае лучше всего понять и увидеть подлинное лицо сатаны – это изобразить его в литературном виде, так как тогда будет наглядным образом видно, что он собою представляет на фоне человека. Даже если тот образ сатаны, что представлен в «Мастере и Маргарите», не соответствует реально существующему дьяволу, все равно из всех известных нам других образов этот самый лучший и самый близкий к первообразу, так как в Воланде нет самого главного – чего точно и однозначно нет в дьяволе – человечности, того, что делает нас людьми, и того, без чего бы нас не было как людей, а все остальное, по сравнению с этим, уже совершенно не важно и не имеет существенного значения. Воланд изображен духом как таковым, в нем не видно ничего человеческого, хотя он и описан при этом как человек. Михаил Булгаков не привнес в образ сатаны что-то новое, что-то от себя, ибо в этом и смысла никакого нет (что бы это ему дало?), а он просто очистил его от всего от того, что ему приписал человек, который нарекал этого духа теми или иными именами, которые возникают в силу того, что мы приписываем дьяволу то, что в нем на самом-то деле и нет, ибо дьявол – это даже не дьявол, а лишь тот, кого мы чаще всего называем дьяволом, настоящего же имени его мы не знаем. Работу Михаила Булгакова можно сравнить с человеком, который решил очистить в одном старом помещении лампочки, на поверхности которых были густая пыль, краска и паутина. Лампочки остались прежними, но со стороны кажется, что как будто они стали совсем другими и что как будто они начали светить другим светом. Точно так же случилось и с дьяволом в романе «Мастер и Маргарита»: кажется, что Воланд – это видоизмененный, переделанный и переработанный писателем сатана, а на самом же деле это – тот же самый сатана, просто очищенный от всего человеческого. Наш автор диптиха утверждает, что, по мнению Иоганна Гете и Михаила Булгакова, тот, кого мы называем сатаной, дьяволом, бесом, чертом, демоном или искусителем, есть часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Да, дьявол есть тот, кто вечно хочет зла человеку и вечно ему приносит благо.
Если эту оценку выразить более кратко, то она будет звучать следующим образом. По прочтении диптиха тьмы читатель сам (который, кстати, будет не кем иным, как самим человеком) перед лицом своей совести убедится, что дьявол – это никакой не дяденька, не старик, не дед, не прохожий с улицы, не парень, не юноша, не «какой-то тип», не «какой-то мужик», не молодой человек, не муж и не мужчина. Мы, правда, с этим и так уже согласны, но согласны с этим только на отвлеченном уровне. На себе же самих мы не можем, мы не в силах представить, кем может быть сатана, ибо для того, чтобы представить, как вообще думает дьявол, нужно перестать думать, как человек, но, когда мы думаем, мы думаем, как раз именно как люди и никак иначе. Мало просто сказать, что бесы – это не люди, мало просто только констатировать данный факт, мало просто быть в этом убежденным, нужно еще представить это на себе самом, и тогда человек воочию увидит, что представить-то это как раз невозможно! И вот вопреки собственному, повторяю, собственному признанию, что дьявол или любой дух – это не человек, мы наоборот думаем, что дьявол – это самый настоящий человек. Может, сатана и в самом деле имеет самый настоящий человеческий вид, имеет его реально, не призрачно, имеет его так, как мы, но в этом случае как раз еще с большей силой мы обнаруживаем, что должно же быть что-то такое в духах, за что мы их можем называть только духами и никогда людьми. Дьявол – это дух. Вот кто он такой.
Вот такова моя одобрительная оценка диптиха тьмы. Но при всем этом я бы все-таки хотел предостеречь читателей кое в чем перед знакомством с первой книгой этого диптиха – «Книга дьявола: о Пресвятой Троице. Назначение человека». Само название данного сочинения уже настораживает, и это правильно. Дело в том, что «Следствие по делу Воланда» преподносится нам как книга, в которой излагаются мысли и определенная позиция Михаила Булгакова – толкование его главного романа, несмотря на то, что там иногда встречаются взгляды и автора этого исследования. Там мы слышим нашего автора, но слышим, что он пытается сказать то, что хотел сказать Михаил Булгаков. В этом исследовании проводится всего лишь анализ романа «Мастер и Маргарита». Это произведение можно уподобить тем случаям, когда школьнику или студенту дали задание написать сочинение по какой-то книге, но человек в ходе его выполнения слишком увлекся делом, написав не сочинение, а целую книгу, которая при этом все же остается скорее сочинением, нежели исследованием. Когда мы читаем «Следствие по делу Воланда», мы понимаем, что практически все, что там написано, принадлежит ему, Михаилу Булгакову, а не ему, нашему автору диптиха. В трактате же все совсем иначе, все по-другому, и это совсем другая книга, являющаяся самостоятельным произведением, не относящимся никаким образом, как я лично понял, к толкованию «Мастера и Маргариты», но появившимся только благодаря именно этому роману. Все в этом сочинении уже излагается от лица нашего автора диптиха, а не от лица русского писателя. Мы видим тут не Михаила Булгакова, хотя и здесь он тоже в одной главе упоминается, а нашего автора, который пытается до нас что-то донести, что-то нам сказать.
Я совершенно понимаю, каким примерно образом появилась идея в голове нашего автора написать этот трактат, что его конкретно к этому побудило, если тот даже, надо полагать, не задумывался как дополнение к первой книге о романе Михаила Булгакова. Тут сыграло свою роль скорее не желание освободить книгу «Следствие по делу Воланда» от всего философского груза, при наличии которого она казалась бы слишком тяжелой для восприятия и понимания, и даже не желание сделать ее более соответствующей подлинному литературному анализу, каковой обычно применяется при изучении именно художественных книг, а желание сказать заранее читателю то, что бы тот хотел услышать от автора по прочтении этой книги по роману «Мастер и Маргарита». Я бы на месте нашего автор поступил бы точно так же, и, должно быть, каждый из нас тоже бы написал трактат о назначении человека, если бы всем нам пришлось писать именно «Следствие по делу Воланда». В этом «Следствии» кажется все вполне понятным и ясным, но в ходе его чтения могут, вернее сказать, будут возникать вопросы, касающиеся как раз всего того, что изложено в трактате о назначении человека, и там-то даются ответы на них. В исследовании романа Михаила Булгакова, например, встречается слово «носцентризм» или «носцентричность» и ему однокоренные. Сразу спрашивается, что это такое, а объяснить значение и смысл этого слова кратко, чтобы не распространяться на несколько страниц, невозможно, точнее, не то чтобы просто невозможно (возможно все, если захотеть), а невозможно это донести в привычной форме изложения мыслей так, чтобы авторское понимание понятия «носцентризм» было верно донесено до нашего сердца, подчеркиваю, сердца, а не только просто одного ума. Под словами «привычная форма изложения мыслей» я имею в виду, что нам кажется, что любую тему можно где угодно излагать и как излагать, но на самом деле, особенно в нашем случае, это далеко не так. Наш автор диптиха действительно мог бы объяснить, что такое носцентричность, тем же текстом и теми же словами, что использованы в трактате о назначении человека, в исследовании романа Михаила Булгакова, и читатель в этом случае совершенно так же бы понял значение данного слова, но воспринял бы он в его душе совсем не так, как хотелось бы нашему автору диптиха. Проще говоря, что такое носцентризм, может быть объяснено только и только в том виде, в каком это объяснение приводится в трактате диптиха тьмы. Только по прочтении этого трактата можно понять, что такое носцентричность, так, как этого желает наш автор. Тут очень важно не только что сказать, но и как это сказать, как это преподнести. Нельзя это говорить в любой форме, в любое время, в любой обстановке и в любом настроении духа. Вообще мне следует сказать, что к тому, что сказано в «Книге дьявола», к удивлению, человек должен прийти сам (конкретно: только первая и третья части), это не должно в идеале быть услышано им из чьих-то уст или прочтено в какой-то книге. Поэтому этого трактата так-то не должно даже быть. То, что в нем сказано, человеку должно само открыться или… не открыться. Меня спросят: почему? Отвечаю: потому что только так можно правильнее всего понять, что такое носцентризм, ибо именно тогда, когда человеку лично открывается, что такое носцентричность, тот к этому готов. Только тогда он может это как следует понять. Под открытием я тут имею в виду не какое-то откровение свыше или «своим умом дойти до этого» и тем более не внезапно, ни с того ни с сего появившуюся в голове идею, словно упавшее на голову яблоко или свалившийся на нее кирпич, а эту именно самую готовность к этому знанию, которое нельзя и даже как бы запрещено передавать другому. Если человеку открылось, что такое носцентризм, значит, он к этому уже готов, если же – нет, то, значит, он к этому не готов, и, значит, ему не надо это знать. Те люди, которым это открылось, прочитав этот текст, со мной согласятся и мысленно скажут: «Да, мы в самом деле считаем, что это должно открыться человеку само, и поэтому мы это никому никогда не говорим, иначе мы бы себе этого не сумели простить». Однако наш автор диптиха тьмы решил сделать непростительное, но вынужденное исключение ввиду того, что без трактата самостоятельное произведение «Следствие по делу Воланда» будет казаться неполным. Но в том-то и «беда», в том-то и дело, что необходимость наличия этого трактата предполагает наличие и всего того, что в нем изложено, а изложено в нем многое из того, что может показаться и действительно покажется соблазнительным. Вот поэтому-то наш автор и назвал свой трактат заслуженным названием «Книга дьявола», чтобы этим названием предостеречь читателя от того, с чем ему придется ознакомиться и что ему придется услышать. В этом трактате, например, проливается совсем непривычный свет на понятие и природу греха. Здесь грех и греховность нисколько не оправдываются, а, наоборот, порицаются и осуждаются, но тем не менее смысл этих слов тут так изложен, что он покажется обязательно соблазнительным. Оказывается, (я немного скажу о содержании трактата) грех и все ему сродное существует только в человеческом мире, только в его пределах, что даже понятия «человек» и «грешник» или «человечность» и «греховность» в нашей падшей действительности являются синонимами и даже чуть ли не тождественными вещами. А сатана находится вне греха, он тоже знает зло и находится в категориях и границах добра и зла, иначе не было бы двухцветности в мире духов – ангелов и бесов, но сама нравственность как греховность находится вне его и является чисто человеческим явлением. Когда же мы говорим, что сатана согрешил и из-за этого пал, как это, например, сказано в Святом Писании, то тут мы просто используем обычный так называемый антропоморфизм, которым мы хотим сказать, что некоторый бесплотный дух просто пал, стал злым и осатанел, или что произошла его демонизация, каковая, впрочем, как раз ни с каким человеком не может произойти, кем бы тот ни был и как бы тот ни жил. Только тот, говорит наш автор диптиха, может быть сатаной, кому сатаною возможно стать. Таким образом, по мнению нашего автора, сатана безгрешен, но безгрешен не так, как Богочеловек Иисус Христос, а так, что просто находится вне греха и не знает его. Он внегрешен. Не было бы человека – не было бы вообще и слова «грех». К дьяволу слово «безгрешность» применяется в том же значении, в каком мы его называем так же бессмертным, бесстрастным, безболезненным, безвозрастным, бесполым, бесплотным и бестелесным, то есть находящимся вне всего человеческого – по ту сторону нашего мира. Мы говорим, что сатана не знает голода, но мы, совершенно очевидно, так говорим о нем не потому, что полагаем, что дьявол вечно сыт, а потому, что знаем, что он вообще находится вне того, где существует голод, жажда, желание поесть и сытость. В той же мере это относится и к бессмертию, и к нетлению, и к бесстрастию, и ко всему остальному. А наш автор это переносит и на дьявольскую безгрешность. Сам же грех как таковой, то есть грех как проявление и действие воли человека, по мнению нашего автора, обязан своему происхождению человеческой любви. Как не было бы греха, если бы не было самого человека, так точно не было бы греха и в том случае, если бы не было и самой любви. Вот такие соблазнительные идеи встречаются в трактате о назначении человека.
Все эти предостережения называются мною так очень условно. Я не хочу сказать, что эту книгу нельзя и не стоит читать. Я хочу сказать, что нужно быть готовым к тому, что там изложено. Если бы наш автор действительно хотел, чтобы его трактат никто не читал, то он просто бы его даже не стал пускать в печать. Просто, надо полагать, сам автор диптиха тьмы видел, что лучше бы этой страшной книги не было, но он, несмотря на это, просто махнул рукой и сам себе при этом, наверно, как Михаил Булгаков, сказал: «Чтобы знали… чтобы знали!»» (Из статьи Сергея Евгеньевича Скурихина «Не так страшен черт, как его малюют: мнение о книге «Диптих тьмы»»).
Да, чтобы знали! Я выражаю благодарность мною выдуманному литератору за такой лестный отзыв. Почему я сам не мог это все написать от своего лица, читатель, наверное, понял, поэтому причины, которые меня к этому побудили, озвучивать не стану, несмотря на то, что так делать не полагается.
Напоминаю тебе, дорогой читатель, что «Диптих тьмы» нужно начать читать со «Следствия по делу Воланда», а уже потом заканчивать его чтение «Книгой дьявола». Это очень важно! (Полный вариант книги (с «Книгой дьявола») опубликован здесь: https://vk.com/id475346391?w=wall475346391_11%2Fall)