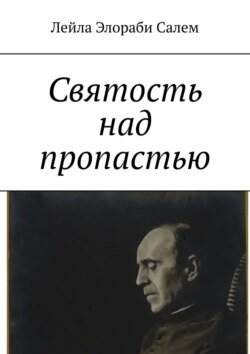Читать книгу Святость над пропастью - Лейла Элораби Салем - Страница 9
КНИГА 1
VIII глава
ОглавлениеОтец Дионисий Каетанович благодарил Бога за то, что ему чудом удалось пережить эту страшную ночь, а не окоченеть от холода в сыром подвале, где все пропиталось плесенью, влажным испарением и крысиным пометом. Рано утром – впервые за все время, его отвели в кабинет инспектора. Тот ждал прихода святого отца, как и ранее, потягивая сигарету у окна. Оставшись вдвоем, инспектор долго пристально всматривался в Дионисия, старался понять: готов ли этот человек к беседе и как он вообще себя чувствует? Святому отцу принесли горячий травяной чай; как награду, как сокровище принял в свои руки он большую кружку, долго – с упоением делал один глоток за другим, ощущая, как живительный приятный напиток растекается в пустом желудке, согревая его тело изнутри и снаружи. Когда кружка опустела, отец Дионисий поставил ее на стол, искренне поблагодарил инспектора за немногое то добро, что исходило только от него одного.
– Нелегко вас пришлось нынешней ночью, не так ли, гражданин Каетанович? – спросил инспектор, приняв на лице сурово-безучастное выражение. – И этого-то после затяжной болезни.
– Не стану скрывать от вас правду: мне было не тяжело, а смертельно опасно… Только Госпо… – отец Дионисий запнулся, воровато в страхе осмотрелся по сторонам, словно боялся получить удар из укромного места, – только благодаря… чуду я остался цел и невредим, что меня очень радует.
– Не догадываетесь, зачем мы применили такой вот метод?
– Сразу догадался, и за это хочу вас повторно поблагодарить.
Инспектор встал из-за стола, сложив руки за спину, заходил по кабинету, в привычке своей закуривая сигарету. Несколько минут в воздухе висело молчание и немые вопросы застыли на языках двоих людей, так сильно разнящихся меж собой. Отец Дионисий не смел первым произносить что-либо, инспектору же требовалось время, дабы повернуть разговор в нужное русло, не дать сойти с верного пути. Когда сигарета была потушена, инспектор вновь сел в кресло, устало вздохнул, спросил:
– Гражданин Каетанович, вы в силах говорить?
– Да, я готов ответить на любой ваш вопрос.
– Я не стану вас пытать, вы же прекрасно знаете, зачем вы здесь и что от вас требую я.
– Мне продолжить повествование?
– Естественно, а иначе я бы не призвал вас.
– Я забыл, на чем остановился.
– На выходе из какого-то ордена… реформаторы или как там у вас, иезуитов.
– Да-да, вспомнил. Это было в 1908 году…
«В тот год, когда архиепископ Жозеф Бильчевский дал молодому капеллану разрешение покинуть орден, Дионисий принял решение уехать во Львов, где, как он знал, есть большая армянская диаспора – а с ней и армяно-католическая церковь, насчитывающая немало сотен лет. Вернувшись в восточную Польшу, отец Дионисий завернул по пути в село Тышковцы. Жажда вновь увидеть родной, до боли знакомый дом, где он родился, где прошло все детство, погулять по знакомым местам, впитывая каждой клеточкой милые сердцу запахи, увидеть соседей, помнящих его еще мальчонком, накрыла теплой-пленительной волной, от растроганных чувств на глаза выступили слезы и тяжелый комок сдавил горло. Дионисия у калитки когда-то богатой, а ныне запущенной фермы встретила мать. Постаревшая, с прядями седых волос, Мария до сих пор сохраняла тот теплый живительный блеск в больших карих глазах, что согревал семью в дни бедствий и отчаяния холодными зимними вечерами. Сын и мать крепко обнялись: как долго прошло со дня их последней встречи? Мария с великой любовью гладила щеки сына темной от загара и трудов ладонью, прижимала его голову к своей сухой груди, орошала слезами и поцелуями его чело.
– Сыночек, ты вернулся домой.
– Мама, – отец Дионисий выпрямился, сверху вниз глянул в ее лицо, – я… я хотел просто навестить тебя.
– Не тереби мое старое сердце, маленький мой. Скажи лишь, что ты вернулся ко мне и мы вместе счастливо заживем здесь, под этой крышей, ведь ты, я знаю, вышел из ордена.
– Прости меня, матушка, но я прибыл сюда как просто гость – лишь бы увидеть тебя, наш дом, погулять по дорогим моему сердцу местам. Ты замечаешь: на мне черная сутана, на шеи колоратка, моя судьба не в бренном мире.
– Это ты прости меня, сын мой, старая стала, не ведаю, что говорю. Ты проходи лучше в дом, а я приготовлю твои самые любимые блюда.
В доме оставалось как раньше: старинная мебель, доставшаяся от деда, выцветшие обои да скрипучий деревянный пол. Единственное, что отметил про себя Дионисий, скатерть и шторы всегда были чистые – и все остальное тоже: Мария хорошо вела хозяйство и убиралась почти каждый день, оттого в их доме по первой не бросалась в глаза нужда, только уют, заключенный в светлых чистых деталях. Святой отец сел за стол – на свое привычное место – напротив окна, откуда открывался живописный вид на фруктовый сад. Мать поставила кексы, разлила в кружки ароматный чай. Какое-то время в комнате висело родное, домашнее молчание, прерываемое лишь щебетом птиц за окном да звоном ударяющих о чашки ложек. Спокойно, умиротворенно стало на душе Дионисия, ему было хорошо здесь – в своем старом доме, а не в чертогах роскошных соборов, овеваемых блеском славы и почета. Здесь, у ног матери он находил единственное, что искал в последнее время, а мысли о грозящей разлуке еще сильнее усиливали нынешние чувства.
Мария допила чай, тихо, со свойственной ею скромностью, молвила:
– Соседи вот уже несколько лет косо посматривают в сторону нашего дома – с тех пор, как Сабина уехала отсюда. За спиной кумушки перешептываются обо мне, сплетни да слухи разносят. Я-то женщина простая, малограмотная, в нужде о чести не рассуждающая, но и так обидно очень: говорят пустое, а мне потом передают, мол, дочь в надежные руки не смогла отдать, а сыновья и вовсе забыли путь домой. Они-то не ведают о нашем постоянном общении через письма.
– Почему ты раньше мне этого не рассказывала? Ни мне, ни Сабине, ни Юзефу? Хочешь, пока я здесь, разберусь с этими сплетницами?
– Сынок, – Мария устало глянула на него, улыбнулась тяжелой, вымученной улыбкой, – прошу, успокойся.
– Успокоиться?! И это после того, что они наплели своими змеиными языками? – Дионисий резко вскочил из-за стола, опершись на него руками. – Давай! Давай, я сию же минуту поговорю с соседками, докажу-покажу им правду, чтобы они не только не смели за твоей спиной плести интриги, но смиренно опускали бы глаза при виде тебя.
– Не нужно быть поспешным, Дионисий. Люди не меняются, ты и сам это знаешь. Оставь их, то пустое.
Святой отец на сей раз прислушался к мудрым словам матери, не стал ввязываться в бесполезный спор, что мог перерасти в ненужную вражду, однако, соседские кумушки приметили его фигуру во дворе Марии. Дионисий, гордо подняв голову, прогуливался по улице, учтиво здоровался с соседями, а те в свою очередь спешили поведать другим, что, дескать, к Марии вернулся младший сын и не просто – а в священническом сане; кумушки вздыхали, скрывая накопившуюся зависть, однако, косые взгляды в сторону дома Каетановичей перестали бросать.
Пробыл отец Дионисий у матери четыре седмицы – самое счастливое время для Марии. Когда пришла пора к расставанию, мать и сын долго не могли решиться – вот так просто – сказать друг другу «До свидания». У вагона поезда Мария благословляла Дионисия на дорогу, наказывая ему почаще писать ей, не забывать о сестре и брате, про себя же она гордилась любимым сыном, посмеивалась, когда соседки бросали завистливо-заискивающие взоры на их дом. Труды не прошли даром, а дали свои плоды: сколько понадобилось сил, средств, дабы дать детям достойное образование; Мария сама недоедала, голодала, но оплачивала обучение сыновей, сама окончившая лишь три класса, отправила Юзефа и Дионисия в университеты. Кто теперь скажет, что детям фермеров учеба ни к чему?
Отец Дионисий не ведал о мыслях матери, но чувствовал наверняка – соединенный с ней невидимой духовной нитью – как радовалась она его успехам, каким мягким счастьем светились ее темные глаза – самые прекрасные на свете! Он примечал ее горделивый взгляд, брошенный в его сторону, как величественно распрямились ее худые плечи, облаченные в черные рукава блузки, в те моменты, когда они стояли рядом, и от этого он еще больше начинал любить мать, с великим почтением выслушивал ее наставления, а потом со смирением клонил голову, дабы принять материнское благословение на свое чело.
Поезд, громыхая, мчался не останавливаясь, в сторону Львова, а Дионисий до сих пор чувствовал тепло материнских рук, ощущал как наяву ароматы свежеиспеченного пирога и травяного чая. Поглядывая из окна купе в мелькающие-убегающие пейзажи, святой отец раз за разом возвращался мыслями к очагу родительского дома, в такие мгновения он желал повернуть время вспять и очутиться у ног матери, переживая последние события минувших дней и нахлынувшую тоску при их очередном расставании. Дорога петляла меж полей и холмов; оставались позади понятные вещи.
Еще не взошло солнце, а колокол пропел к заутренней. После ранней молитвы во львовском армянском соборе началось поспешное оживление, привычное для воскресных дней. На часах было пять часов утра, за горизонтом медленно просыпалось солнце, бросая косые, еще холодные лучи на спящий город: под крышами домов, за высокими частоколами горожане – мужчины, женщины, дети; не спали лишь служители церквей – конец недели день особенный. Зажигались свечи, пламя отражалось в золоченых канделябрах, высокие белоснежные колонны уходили в высоту к белым, изукрашенным резьбой, аркам, представляющих собой нечто наподобие купола над алтарем. Стены и купол собора украшала причудливая, на восточный мотив мозаика, освященная всегда дневным светом. Все великолепие собора с его южными яркими красками и изысканностью барокко приводило в восторг искушенного и неискушенного посетителя, в наивности своей судившие об обители по неприметному внешнему виду, открывающегося у ворот.
Служители в черных одеяниях проходили по главной зале, подолы их ряс шуршали при каждом шаге. В их руках были подсвечники с зажженными свечами, отчего в церкви становилось жарче и душнее.
Отец Дионисий Каетанович наблюдал за шествием чуть в стороне, подле него с победоносно-горделивым лицом красовалась крупная фигура армянского архиепископа Жозефа Теофила Теодоровича, для которого этот собор являлся не просто местом святого поклонения, но детищем трудов и заслуг его, когда он с таким усилием восстанавливал-возрождал сию обитель ради нынешних армян, проживающих в Польше, и их будущих потомков. Отец Жозеф не жалел никаких средств, приглашал со всех уголков света армянских зодчих и мастеров, художников и скульпторов, щедро вознаграждал за праведные труды, самолично руководил реставрацией и со счастливой улыбкой на устах наблюдал, как полуразрушенные стены, алтарь, галерея преображаются в новые-красивые формы.
Ныне собор вновь был действующим, его ворота открывались для всех верующих, страждущих, скорбящих, просящих, для вдов и сирот.
Отец Дионисий, наблюдая за воскресными приготовлениями из-под полуприкрытых век, из последних сил боролся с нашедшей сонной хандрой, явившейся следствием ежедневного недосыпа и навалившейся работы. Как год назад был введен во львовскую армянскую епархию, получивший право занять должность префекта научно-исследовательского университета именем Юзефа Торосевича за прошлые свои заслуги в области философии и христианской литературы. Он гордился резким повышением на жизненной стезе, не без радости примечая, как счастлив находиться среди своих – своего народа. Еще служа в Кракове, отец Дионисий тосковал по отчему дому и, находясь среди ордена реформаторов, осознавал их несколько отстраненно-холодное к себе отношение. Да, они почтительно обращались к нему, приходили с советами, но все же для них он оставался чужаком, не таким как все. Здесь же, в армянском приходе, он слышал своих, говорил на родном с рождения языке, каждой клеточкой ощущал себя частью этого отдельного-закрытого мира – он был у себя дома, на своей земле.
Мысли о пережитых горестях, потерях и терзаниях, сменившихся благодатным саном и долгим трудом птицей пронеслись в голове – или то была полудрема в столь ранний час? Отец Дионисий пересилил себя, всей своей волей поддался вперед, с полным вниманием уставился на длинную процессию викариев, канонников и прочих шедших по двое в ряд между деревянными скамьями для прихожан.
Архиепископ Жозеф Теодорович хитро прищурил чуть косые глаза, его приятное благородное лицо озарила улыбка, сверху вниз глянул на скромного Дионисия, произнес:
– Сегодня знаменательный день, отче, вы не находите?
– Если все пройдет, как то задумано, наша партия выиграет в ходе предстоящей словесной войны.
– Было бы легче, если Ватикан одобрил бы наши деяния, тогда все противники не посмели бы высказаться против.
– Нашим противникам все равно, что одобрит или не одобрит Ватикан, ибо еретики-лютеране не признают Священного Престола Его Святейшества Папы.
– Вы думаете, мои замыслы не имеют никакого значения?
– Кто я такой, чтобы оспаривать ваше право голоса, Ваше Высокопреосвященство? По крайней мере, народ в Польше всецело доверяет вам, у вас есть ряд полномочий в Сейме и за вами стоит польская армянская диаспора.
Пополудни архиепископ пригласил к себе в кабинет отца Дионисия, велев личному секретарю Франциску Комусевичу никого не впускать. Долгое время святые отцы говорили о делах насущных – не духовных, но мирских, волновала их судьба страны, раздираемая со всех сторон воинственными соседями да внутренними конфликтами правящих партий – и последнее было куда опаснее.
Отец Дионисий сидел напротив Жозефа Теодоровича, вникал в каждое слово, сказанное им. Архиепископ волновался – то было заметно по его рукам, хотя и старался не подать виду, что его что-то тревожит, то и дело дотрагивался до подбородка, покрытого красноватым раздражением после бритья, но даже так – в таком состоянии он сохранял немного высокомерный вид, горделивую осанку, передавшиеся ему по наследству от благородных предков. Дионисий Каетанович, явив полную противоположность, со скрытой долей зависти окинул взором высокую, стройную фигуру отца Жозефа, когда тот поднялся с места и широкими шагами заходил по кабинету, но осекся, вспомнив, сколько доброго сделал для него этот самый человек: на вид холодный-недоступный, на деле же открытый и добрый, и не было никого другого – за исключением родных, к кому бы Дионисий питал бесконечное, мягкое уважение.
– Знаете ли вы, отец Дионисий, какое волнение зародилось в моей душе?
– Вам ли волноваться о таком пустяке, если вся Польша знает вас как прекрасного оратора?
– Не о том я веду речь. Мои слова, что собираюсь ныне говорить с трибуны перед лицом народа, могут изменить наши жизни – нас, служителей львовской обители; этот час станет либо нашей победой либо поражением. В последнем случае ставятся под удар наши жизни. Так легко казаться сильным и так тяжело принимать всю ответственность за других.
Жозеф Теодорович сел за стол, на его еще молодом лице проявились морщины, прорезавшие высокий чистый лоб. Внутри Дионисия что-то кольнуло, ему было стыдно за поспешное свое грешное чувство – зависть – к уставшему человеку, что вел борьбу не только с внешними страстями, но и внутри себя – что никто сего не замечал; сколько же стоило таких усилий?
– Я много читал ваши научные труды, отец Дионисий, – наконец проговорил Жозеф Теодорович, специально поменяв суть разговора, – вы – умный человек, у вас прекрасный слог, а наша святая церковь безгранично доверяет вам. Я вижу в вас потенциал, мне нужны такие люди как вы; стало быть, я могу вам всецело доверять, зная наперед, что вы справитесь.
– Вы слишком высокого мнения обо мне, Ваше Высокопреосвященство. Я не думаю, что лучше других.
– Но и не хуже. Вам пришлось проделать сложный путь прежде, чем стать тем, кем являетесь сейчас. Я собираюсь назначить вас викарием и катехизатором этого собора, о том сообщу во всеуслышание после моего возвращения из Кракова.
– Но…
– Вы справитесь, отец Дионисий. С Божьей помощью справитесь».
– После заседания в Сейме и Вене, где отец Жозеф Теофил Теодорович как депутат представлял интересы польских армян, я занял должность викария в 1909 году, – закончил продолжение своей биографии отец Дионисий, устало опустив голову.
– Что за должность такая? – спросил инспектор, всем видом показывая, что чрезвычайно далек ото всех религиозных дел.
– У нас в католической церкви викарий – это епископ, не имеющий своей епархии, но помогающий в управлении епископу; проще говоря, епископ-помощник.
– Получается, вы были правой рукой Жозефа Теофила Теодоровича?
– В какой-то степени да, я всегда служил праведно и честно выполнял свой долг.
– Да, Теодоровичу повезло немного больше, чем вам, не так ли, гражданин Каетанович? – инспектор приподнял одну бровь, усмехнулся в усы недоброй улыбкой. – Ему повезло, что он умер раньше, чем его схватили. Останься он жив, то разделил бы судьбы тех, кто сейчас трудится в лагерях где-нибудь в Сибири.
Неприятный холодок пробежал по телу отца Дионисия и к горлу подступил тугой комок, что-то больное кольнуло под сердцем, в невольном страхе он прошептал, обращаясь ни то к инспектору, ни то к невидимому-непонятному собеседнику:
– Но за что?
– За призывы к мятежу и расколу страны. Согласитесь, то дело серьезное, не мелкое хулиганство.
– Ни почивший архиепископ, ни я, ни кто-либо из нашей среды ни в мыслях, ни на словах не призывали к мятежу и бунту, ибо тогда пролилась бы кровь. Великий архиепископ был патриотом и защищал земли, где прожил всю жизнь. Он желал лишь одного: мира между тремя славянскими народами – русскими, украинцами, поляками, ибо только так можно противостоять угрозе с запада.
– А, пустое, – махнул рукой инспектор и вновь закурил, – все вы одинаково твердите, а по правде вам и дела нет до славян. Вы чужды нам по языку, традициям, крови; где же вам нас понять?
Отец Дионисий замер, внутри пылая праведным гневом, однако сдержался, не стал ничего отвечать ему. Но лишь бредя за охранниками по мрачному туннелю коридоров, раз за разом возвращался мысленно к незаконченному разговору, коря самого себя за трусость и нерешительность, а затем обвиняя инспектора в клевете, хотя – кто мог знать тогда, во время пышных похорон архиепископа, что тайные завистники и недруги напишут на него донос, из-за которого он ныне здесь – как преступник.